
Теодор Гомперц. Греческие мыслители. Т 2. Сократ и сократики
.pdf
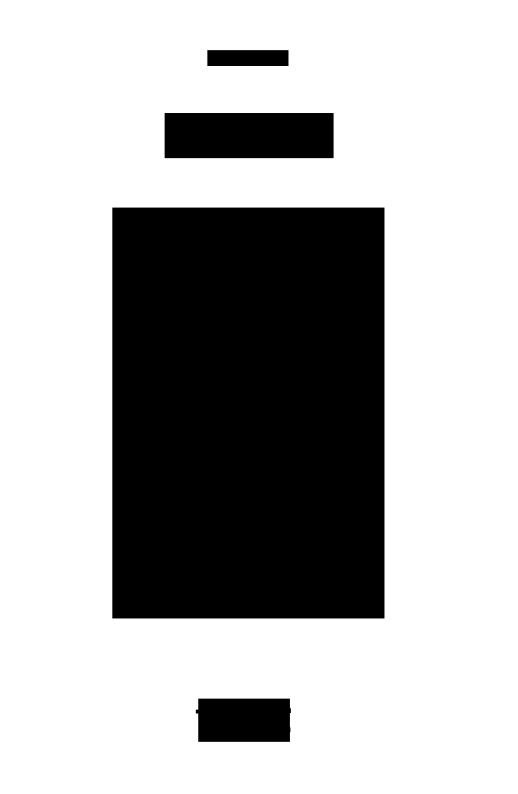

ТЕОДОР ГОМПЕРЦ
НЙМ
ГРЕЧЕСКИЕ
МЫСЛИТЕЛИ
Перевод с немецкого
Д. Жуковского и Е. Герцык
Научная редакция нового издания, комментарии, примечания и предисловие
А. В. Цыба
Научное издание
Издательство
«АЛЕТЕЙЯ»
Санкт-Петербург
1999
ББК 13011 (Герм.) Т. Гомперд (2)
Основатель и руководитель серии:
О.Л. Абышко
Т.Гомперд (1832-1912) — выдающийся немецкий (австрийский) исследователь античной культуры, один из самых авторитетных и уважаемых специалистов по классической филологии (профессор классической филологии в Венском университете с 1873 г.) и истории античной философии, наряду с В. Виндельбандом и Э. Целлером. «Греческие мыслители» (ОпесЫвсЬе Бепкег, В<1.1-3,1896-1909) — главный труд его жизни, непревзойденный и по нынешний день по широте охвата многочисленных проблем, универсальности анализируемого фактического материала, богатству привлекаемых источников. Чрезвычайно оригинален творческий метод, положенный
Т.Гомперцом в основу своего сочинения: он стремится установить аналогии, почти всегда очень удачные, между греческими мыслителямии современной эпохой. Ученый также выдвигает на первый план научную ценность физических теорий древности и подчеркивает роль софистов как просветителей. Все это, наряду с энциклопедическим размахом изложения, делает данное издание не только увлекательным чтением для всех специалистов и любителей античности, но и настоящим учебным пособием по античной культуре.
Перевод «Греческих мыслителей», выполненный для первого русского издания 1912 г., тщательно отредактирован: сверен с оригиналом, исправлено чтение имен, устаревших терминов, добавлены обширные комментарии, учитывающие современное освещение проблем. Тексту книги предпослана вступительная статья о жизни и творчестве этого выдающегося ученого.
©Издательство «Алетейя» (СПб), художественное оформление, редакция текста — 1999 г.
©А. В. Цыб, предисловие, комментарии, примечания, "»™поо полптгпия текста. 1999 г.
СОКРАТ И СОКРАТИКИ
Дю ка! Юхаубгц; ёу то беотёрф тер! г)8оуг)^ хоу Екжрахг)у фт)а1 лар 'екаастта бгбаслсегу, сод о аотос;
бгкаюс; те ка1 еибшцыу ауг)р, ка! тга лрютф бгеХоуп то 81каюу ало той сшцфёроуто^ катараа0а1 ад ааерес; тг лрауца бебракои.
Климент Александрийский, 81гота1а II 22,
499.РоПег
•Потому-то и Клеанф в своем втором рассуждении „О наслаждении" говорит об учении Сократа, столь часто им повторявшемся, что человек праведный и человек счастливый одно и то же. Он проклинал того, кто впервые разделил одно от другого справедливое и полезное, и находил, что это было делом нечестивым».
(пер. Н. И. Корсунского)
Е Г Э ЕПЭ Б Г а В Э В с Я Е С З Е Е ! В В |
В В ЕГЕЗ 1Л Ш |
|
Е В Е В Е > Э Е В |
Е В Е Э Е В |
Е В Е В Е В |
В В В 1 Э Е е ] В Т Э В В |
В Т Э В Т З В Т З В 1 0 В 7 Э В 1 3 |
|
дС1ГДС1ГДС1ГДС1РДС1ГДС1РДС1ГДЩГДС1ВЕ]ВЕ1
ГЛАВА ПЕРВАЯ *
Перелом в религии и в нравах
1. Гомеровские произведения рисуют нам лишь начатки городской жизни. Увеличение плотности населения и разделение труда, и в результате стечение больших масс народа в городах, значение которых растет с каждым годом, — все это, без сомнения, главные факторы дальнейшей эволюции. Широкое развитие городской жизни оказывает свое влияние в моральном и религиозном отношениях. Социальные инстинкты, коренящиеся в семейных чувствах и обнаруживающие свое влияние в героическую эпоху вне узкого круга кровного родства только там, где они основываются на отношениях личной верности, захватывают теперь область более широкую. Социальная мораль достигает гораздо большей силы, когда она медленно, с преодолением многочисленных препятствий постепенно распространяется на широкие круги людей. Правда, пропасть, разделяющая враждующие сословия, очень велика, партийная ненависть исключает, по-видимому, всякое общение между борющимися сторонами. Необузданная ненависть мегарского аристократа Феогнида доходит до того, что он хочет «пить темную кровь» своих недругов (вторая половина шестого столетия),** а гомеровские герои хотят «сырьем поесть» тела своих врагов. И партийный дух настолько владеет умами, что в поэтических произведениях того же Феогнида слова «хорошо» и
*См. прим. и доб. Т. Гомперца.
**См. прим. и доб. Т. Гомперца. Феогнид — поэт из Мег, автор •Элегий», в которых высказывает отрицательное отношение к демократическим порядкам. (Прим. ред.)
8 |
Т. Гомперц. Греческие |
мыслители |
«дурно» означают не моральную ценность, а служат исключительно для обозначения двух борющихся между собой сословий. Но наш взор не должен сосредоточиваться исключительно на том, что разделяет людей. Внимания нашего заслуживает и объединяющая их связь, которая постепенно крепнет.
Человеческая жизнь стала цениться выше. У Гомера уплата пени ограждала убийцу от мести родственников. Кровная месть не есть правило, она — исключение.* Нравственное мерило послегомеровского времени гораздо строже. Смерть всегда требует кровной мести: пока она не выполнена, община считается запятнанной, боги оскорбленными, а потому сама государственная власть исполняет обязанность мщения, правда, не без участия потерпевшего. Эту эволюцию объясняли уже описанным нами раньше углублением веры в души и влиянием ряда пророков, которым Дельфийский оракул указал, по-видимому, путь нравственной реформации. Это отчасти правильно, но не всецело. Что наказание за злодеяние есть дело общины, что на ней лежит пятно, если за преступлением не последовало наказание, на эту перемену в воззрениях указанные выше причины должны были оказать влияние; сама по себе кровная месть не указывает непременно на прогресс нравов. В современной Аравии среди обитателей пустыни в обычае наследственная месть, а городские жители довольствуются пеней. Нравы гомеровского времени не имеют характера первобытности; скорее здесь можно говорить о разрушении первоначальных нравов, которое могло наступить в эпохи переселений и воинских походов, когда ценность жизни падает ниже нормы и когда ослабляются родовые связи. Мы уже встречали примеры, когда вера и обычаи послегомеровского времени оказывались наследием далекого прошлого (I 72), а гомеровские поэмы рисуют нам такое состояние, которое не лежит на прямом пути развития, а представляет собою как бы отклонение от него.
Нужно указать еще на одно обстоятельство. Если в этом культурном прогрессе сказалось влияние боговдохновенных лю-
дей, то они были только |
орудиями |
прогресса, |
происшедшего |
|
от общих |
причин. Замена |
неоседлой жизни на войне оседлой |
||
и мирной, |
преобладающее |
значение |
городского |
населения со |
* См. прим. и доб. Т. Гомперца.
Томвторой.Глава первая. Перелом в религии |
и нравах 9 |
свойственными ему представлениями изменили |
представление |
о мире богов. Силы природы, почитаемые только за их власть над человеком, возводятся в сан защитников и охранителей правового порядка, которого требует общественное благо. Так как одновременно с этим прогресс естествознания содействовал связыванию мира в одно целое и потому деятельность богов не представлялась более игрой сталкивающихся настроений и страстей, то можно сказать, что уже были налицо условия для указанного изменения религиозных воззрений, которые с приблизительной точностью мы можем обозначить как облагорожение первоначальных потенций. Мы говорим: с приблизительной точностью, ибо греческая религия всегда оставалась религией природы. Но в центре ее теперь стоит власть, охраняющая право, карающая злодеяние, власть, главным образом воплощенная в высшем или небесном боге, в Зевсе,1 к которому, однако, обращаются так же, как к «богу» вообще или к «божественному», причем, однако, вера в многобожие не терпит при этом серьезного ущерба. Такое противоречивое воззрение на божество мы уже видели у Геродота (I 232). Мы встречаем его и у великих поэтов, иногда у трагиков, и прежде всего у Эсхила.
2. Мы не хотим пройти мимо величайшего греческого поэта, не сказав о нем нескольких слов. О просветляющем влиянии поэзии говорят многие и, по-видимому, гораздо больше, чем они его испытали. Кто хочет непосредственно испытать это чувство, тому нужно лишь заглянуть в драмы Эсхила. Достаточно прочесть из них двадцать строчек, чтобы почувствовать себя внутренне освобожденным, возвышенным, обогащенным. Мы стоим здесь перед пленительной загадкой человеческой природы. Поэзия, как и музыка, в меньшей степени другие искусства и красота природы способны вызывать в душе мир, связанный с господством цельной личности над ее элементами, и давать высокое наслаждение, свойственное этому психическому состоянию равновесия. Как происходит такое влияние, об этом лучше скажет нам будущее, когда решение эстетических и моральных вопросов будет опираться на биологию. Два обстоятельства мешают нам, однако, счесть великого поэта и его последователей показателями перемены образа мысли эллинов. Кпяп пи ттпэт менее ^VКовояится XVЛожественными за-
10 Т. Гомперц. Греческие мыслители
дачами, чем спекулятивными и религиозными намерениями; драматург вынужден наделять своих персонажей мыслями и настроениями, которые лишь отчасти совпадают с его собственными. Но если мы примем в соображение эти ограничения, все же остается достаточно, чтобы признать огромное значение за свидетельством этого человека, который является не только зеркалом, но и деятелем разбираемого нами культурного процесса.
Эсхил — это тот, который больше, чем всякий другой, наделил образ высшего бога, «повелителя повелителей», «блаженнейшего из блаженных», чертами карающего и награждающего судьи. Для него незыблемо убеждение, что всякая несправедливость должна быть искуплена, и искуплена здесь, на земле. Этот оптимизм не должен нас удивлять. Эсхил боролся при Марафоне, при Саламине, при Платеях!* Он пережил то чудо, когда мировое могущество «великого царя» разлетелось в прах перед маленькой Грецией, перед его скромным родным городом. Как мог сомневаться во всемогуществе божественной справедливости тот, кто видел подобный суд Божий и удостоился быть участником его выполнения! В этой мысли, в утешительном ожидании, что о «скалу права» «разобьется» всякая неправда, живет поэт и с этой мыслью он творит.** Эта надежда делает его счастливым. «Ибо если сила и право идут рядом, то кто видел более дивную пару?» Поэтому и взор его редко проникает за грани здешнего мира (как мы уже говорили). Восторги потустороннего мира, о которых так вдохновенно говорит фиванский поэт, Пин дар, имеют мало значения для афинского драматурга. Если на драмах Эсхила сияет блеск освободительных войн и побед, то все же ему не совсем чужды и темные, первобытные, иррациональные черты греческой религии. Как и Геродоту, ему также знакомы и зависть, и неблаговоление богов.
Но этим наследственным чертам отцовской веры он уделил место на заднем плане той мировой картины, которую набросал.
* В битвах на Марафонской равнине (420 г. до н. э.), при о. Саламине (480 г. до н. э.) и при Платеях в Беотии (479 г. до н. э.) греки нанесли сокрушительное поражение персам. (Прим. ред.)
** См. прим. и доб. Т. Гомперца.
