
Курылев С. В
.pdf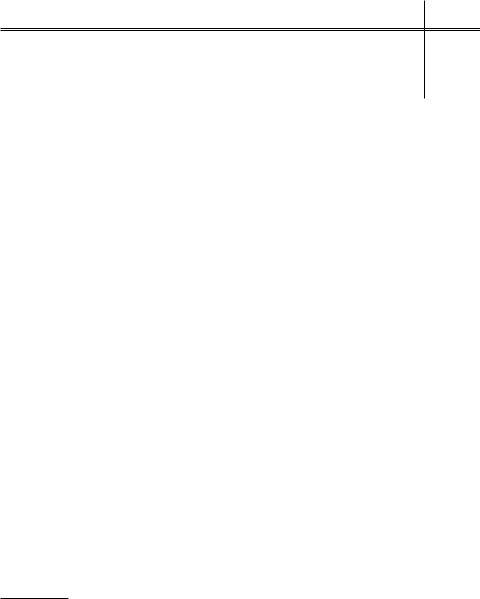
Основы теории доказывания в советском правосудии |
331 |
признавая, что последняя не регулируется законом1. Но в противоречие с последним (правильным) положением авторы в целях сохранения оценки доказательств в составе понятия доказывания так или иначе допускают регулирование ее законом.
Оценка доказательств – мыслительный процесс, и как таковой он не может регулироваться законом ни по содержанию, ни по форме; и подчинение судебной оценки (мышления) законам логики существовало бы даже в том случае, если бы это и не было установлено нашим законом.
Установленные советским законом правила оценки доказательств – это не нормы, регулирующие мыслительную деятельность судей. Вполне мыслимо положение, когда у судей, например, на основе доверия к истцу2 сложилось убеждение в правдивости его утверждений о фактах. Однако суд обязан будет в решении констатировать отсутствие этих фактов, если утверждения истца не удалось подкрепить никакими другими доказательствами. Правила, содержащиеся в ст. 17 Основ уголовного судопроизводства (ст. 19 Основ гражданского судопроизводства), как и вообще любой закон, регулируют внешне объективированную деятельность суда – процессуальное действие по мотивировке судебного постановления. Одновременно эти правила выполняют и функцию информации суду о необходимости при оценке доказательств помнить о правилах логики.
Таким образом, отождествление понятий «судебное доказывание» и «судебное познание» следует признать не основанным на законе и не оправданным по теоретическим соображениям. Применение двух обозначений для одного и того же понятия излишне и практически.
1Советское государство и право, 1963. № 3. С. 79.
2Квалифицированный, имеющий большой жизненный и профессиональный опыт юрист во многих случаях способен правильно оценить правдивость показаний участникаделаибездостаточногоподтвержденияихдругимидоказательствами.В.Шалагинов пишет: «У судьи вырабатывается со временем профессиональная чуткость к фальши. Бывает странное явление. Мирно течет речь свидетеля, истца, подсудимого, но вдруг в какой-то внешне ничтожной подробности судья улавливает фальшь. Так дирижер громадногооркестрабезошибочноразличаетневерноезвучаниеотдельногоинструмента, слышное, может быть, только ему» (Новый мир, 1951. № 10. С. 173).
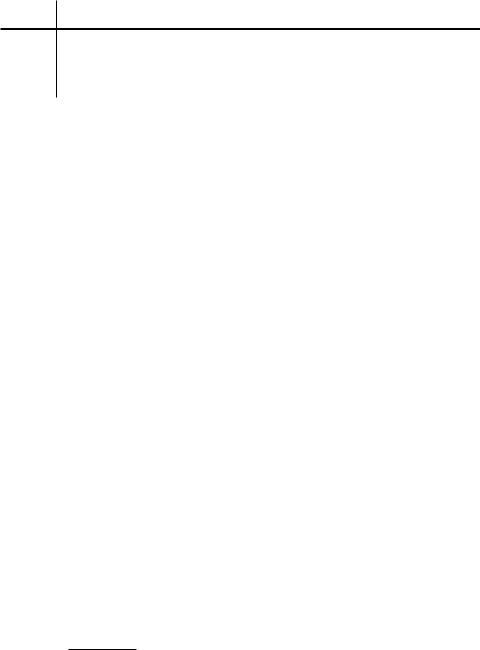
332 |
Проблемы гражданского процессуального права |
Глава II
Предмет доказывания
§ 1. Юридические факты как предмет доказывания
1. При осуществлении правосудия суду надлежит установить факты, с которыми подлежащая применению норма материального права связывает определенные юридические последствия, и определить эти юридические последствия1. Правовая и общественно-политическая (моральная) оценка в содержание истины, устанавливаемой судом, не входит и поэтому предметом доказывания не является. Следовательно, предметом судебного познания, а отсюда и предметом судебного доказывания служат только факты, имеющие юридическое значение для рассматриваемого дела.
Допущение доказывания фактов, имеющих, скажем, серьезное моральное значение, но полностью юридически иррелевантных для рассматриваемого дела, означало бы одновременно и допустимость их опровержения; это привело бы к тому, что пределы судебного исследования утратили бы всякие объективные границы, суд был бы отвлечен в сторону от выполнения стоящей перед ним задачи – правильного с точки зрения истины и закона разрешения дела.
Определение круга фактов, составляющих предмет доказывания, производится обычно в литературе двояким путем: позитивным указанием – какие факты должны быть установлены и доказаны, и негативным – какие из подлежащих установлению фактов не входят в состав предмета доказывания, т.е. устанавливаются без доказывания.
Факты, входящие в предмет доказывания, определяются на основе гипотезы применяемой судом нормы материального права или нескольких норм.
Как отыскивается необходимая норма материального права? В литературе нередко указывается, что предмет доказывания по
гражданским делам определяется утверждениями и возражениями сторон. Но эта формулировка нуждается в уточнении. Прежде всего не каждое утверждение или возражение стороны подлежит
1 Вгражданскомсудопроизводствепоустановлениюфактов,имеющихюридическое значение,определениеправовыхпоследствийосуществляетсянесудом,адругиморганом, однако и в этом случае суд должен иметь в поле зрения юридические последствия данныхфактов,ибоустановлениеюридическииррелевантныхфактовбылобыбесцельным.
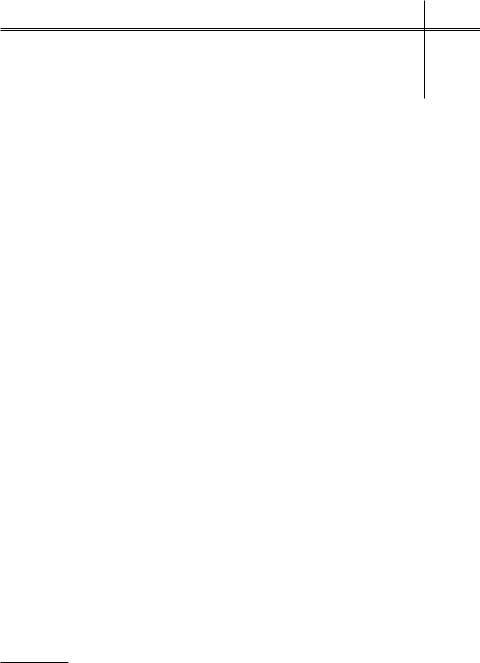
Основы теории доказывания в советском правосудии |
333 |
доказыванию, например утверждение о юридически безразличных для рассматриваемого дела фактах. Во-вторых, к предмету доказывания относятся все факты, имеющие юридическое значение для дела, хотя бы истец, например, не сделал утверждение о том или ином факте. Утверждения же и возражения сторон процессуальноправового характера предмета доказывания вообще не определяют. Такие утверждения и возражения могут стать предметом рассмотрения по инициативе самого суда без каких-либо заявлений сторон.
Поэтому и правильнее говорить, что предмет доказывания определяется на основе подлежащей применению нормы материального права. Но эта норма действительно сначала отыскивается из сообщений о фактах, содержащихся в требованиях и возражениях участников дела: в обвинительной формуле и заявлениях подсудимого относительно материально-правовых фактов, имеющих значение для уголовной ответственности (состояние необходимой обороны и др.), в требованиях и материально-правовых возражениях сторон в гражданском процессе.
Такое определение круга фактов материально-правового значения носит предварительный характер, ибо при исследовании обстоятельств дела может оказаться, что одни из фактов, сообщенных участниками дела, в действительности отсутствуют, и, наоборот, окажутся налицо иные юридические значимые факты, предусмотренные гипотезой другой, а не первоначально избранной нормы1.
Предмет доказывания в этом случае изменяется применительно ко второй норме, но с соблюдением определенных условий – в уголовном процессе при недопустимости поворота к худшему или к существенному изменению ранее предъявленного обвинения (ст. 227 УПК, ст. 229 УПК БССР), в гражданском процессе с соблюдением принципа диспозитивности.
В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос, можно ли считать отвечающим принципу диспозитивности советского гражданского процесса мнение некоторых процессуалистов о праве суда изменять предмет и основание иска2, что, естественно, приводит и к соответствующему изменению предмета доказывания.
На наш взгляд, такого права у суда нет. Во-первых, ст. 24 Основ гражданского судопроизводства говорит о праве истца изменять основание или предмет иска, но не о праве суда. И это нельзя
1Удачно излагается вопрос о сближении фактической и юридической сторон дела в работе: Гурвич М.А. Решение советского суда в исковом производстве. М., 1955. С. 53.
2Штутин Я.Л. Предмет доказывания в гражданском процессе. Иркутск, 1963. С. 36–

334 |
Проблемы гражданского процессуального права |
считать упущением законодателя. Поскольку данный вопрос был спорным еще задолго до принятия Основ, то, очевидно, законодатель, если бы имел в виду предоставление суду права на изменение по своей инициативе основания или предмета иска, сказал бы об этом прямо, как, например, это сделано в отношении привлечения в процесс соответчиков, третьих лиц без самостоятельных требований, прокурора, органов государственного управления.
Во-вторых, и это главное, изменение судом основания или предмета иска против воли истца может привести к нарушению интересов последнего, поэтому такое изменение следует считать нарушением принципа диспозитивности гражданского процесса.
Так, в народный суд Ступинского района Московской области
в1950 г. обратился гр-н Ж. с иском о признании недействительным завещания, оставленного покойным отцом в пользу гр-ки X. Истец
взаявлении указал, что завещанный дом был построен им и является его личной собственностью, но во время войны был каким-то образом незаконно переоформлен на имя покойного отца, о чем истец, проживая в Москве, не знал до смерти отца. Письменных доказательств в подтверждение факта постройки дома Ж. у истца и в райкомхозе не сохранилось, доказывать этот факт было очень трудно. Поэтому суд предложил Ж. изменить основание иска и признать завещание недействительным в силу того, что оно составлено в пользу постороннего лица при наличии законных наследников, что по ранее действовавшему законодательству не допускалось. Ж. категорически возражал против такого изменения основания иска, сославшись на то, что при таком разрешении дела на дом могут претендовать и его четыре брата.
Если суд приходит к выводу о необоснованности иска, а истец на изменение основания иска не согласен, суд обязан в иске по заявленному основанию отказать. Такое решение суда не будет нарушать интересов истца, который вправе вторично обратиться в суд с иском по другому основанию. Оно не будет и противоречить принципу объективной истины, как ошибочно полагает Я.Л. Штутин1, ибо правильная констатация необоснованности иска будет истиной в отношении рассмотренного основания. Принцип же объективной истины совершенно не требует безграничного исследования всех обстоятельств дела, характеризующих взаимоотношения сторон.
1 Штутин Я.Л. Указ. соч. С. 39.
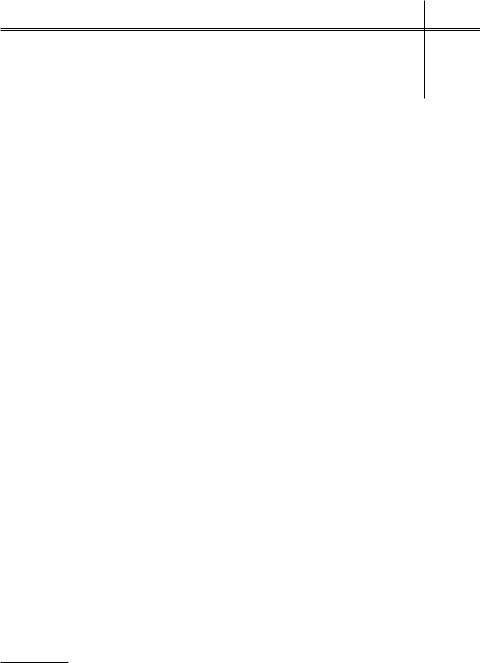
Основы теории доказывания в советском правосудии |
335 |
Далее. В соответствии с принципом диспозитивности от воли заинтересованного лица зависит расширение или сужение предмета доказывания в случаях, когда это лицо вправе выбирать ту или иную допускаемую законом форму защиты своих интересов (уголовно-процессуальную, гражданско-процессуальную или иную).МнениеС.И.Вильнянскогоотом,чтовпорядкегражданского судопроизводства возбуждаются лишь дела относительно действий, не составляющих уголовно наказуемого деяния1, нельзя признать правильным ни вообще, ни применительно к искам о защите чести и достоинства, которые анализирует С.И. Вильнянский.
Во-первых, закон (ст. 31 Основ гражданского судопроизводства) не предусматривает указанного С.И. Вильнянским основания для отказа в приеме заявления в порядке гражданского судопроизводства. Во-вторых, таким отказом могут быть нарушены интересы потерпевшего, которому иногда нелегко доказать умышленный характер действий по распространению сведений, позорящих честь и достоинство.
Следовательно, если потерпевший для защиты чести и достоинства изберет уголовно-процессуальную форму и возбудит уголовное дело о клевете, то к предмету доказывания будет отнесена субъективная сторона состава преступления. Если же потерпевший по каким-либо причинам предпочтет гражданско-процессуальную форму защиты чести и достоинства, характер психического отношения ответчика к распространенным им сведениям юридического значения иметь не будет, поэтому не будет и входить в предмет доказывания. Задача потерпевшего в обосновании своего требования значительно облегчается.
В отличие от уголовного процесса, в силу диспозитивности гражданского процесса юридически значимые для дела факты могут быть полностью или частично исключены из предмета доказывания при распорядительных действиях сторон: отказе истца от иска, заключении сторонами мирового соглашения2, при признании иска ответчиком, если указанные действия санкционированы судом. В уголовном же процессе ни отказ прокурора от обвинения, ни признание подсудимым своей вины не освобождают суд от полного исследования обстоятельств дела (ст. 248 УПК, ст. 247 УПК БССР).
Правда, взгляд о распорядительном характере отказа от иска и в особенности признания иска долгое время не пользовался
1Правоведение, 1965. № 3. С. 139.
2Прирассмотренииуголовныхделвозможнопрекращениеделазапримирениемпотерпевшего с обвиняемым по делам, возбуждаемым не иначе как по жалобе потерпевшего, кроме случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 27 УПК (см. ст. 106 УПК БССР).
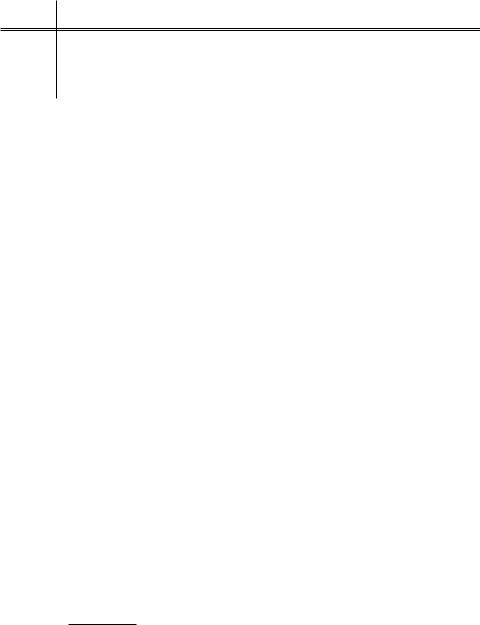
336 |
Проблемы гражданского процессуального права |
поддержкой в советской процессуальной литературе, но сейчас он постепенно завоевывает все больше и больше сторонников1.
Состав фактов, первоначально отнесенных к предмету доказывания, может значительно сократиться в силу требований прин ципа процессуальной экономии, а именно когда окажется, что дело может быть правильно разрешено по уже установленным фактам без исследования остальных.
Вуголовном процессе это происходит при обнаружении некоторых обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (п. 5–10 ст. 5 УПК), например при смерти подсудимого;
вгражданском процессе – при достоверном установлении любого из существенных элементов фактического состава, достаточного для удовлетворения иска или для принятия во внимание возражения ответчика.
Так, в печати рассказывалось о том, как некоторые магазины спустя 5 лет после продажи товаров в рассрочку под угрозой суда заставляли покупателей разыскивать и предъявлять квитанции об уплате требующихся платежей2. Между тем в подобных случаях интересы покупателей защищены истечением трехлетнего срока исковой давности и суд при установлении неуважительности причин пропуска срока исковой давности вправе разрешить дело в пользу ответчика без проверки правильности его утверждения о возврате долга. На возможность такого разрешения дела справедливо указывается в литературе3. Но это лишь частный случай соблюдения принципа процессуальной экономии.
Вотличие от уголовно-процессуального законодательства, предусматривающего полное исследование обстоятельств дела даже при установлении некоторых оснований, исключающих производство по делу (п. 1–4 ст. 5 УПК), например при истечении сроков давности, при наличии акта амнистии, гражданское процессуальное законодательство таких изъятий из принципа процессуальной экономии не знает. Поэтому сделанный выше вывод о сокращении доказывания справедлив не только для истечения исковой давности, но и для всех остальных ему подобных случаев.
1См. подробно о распорядительной природе и процессуальном значении признания иска в нашей работе: Курылев С.В. Объяснения сторон как доказательство в советском гражданском процессе. М. : Госюриздат, 1956. С. 143. См. также: Гурвич М.А. Принцип объективной истины советского гражданского процессуального права // Сов. государство и право, 1964. № 9. С. 103.
2Львовский М. Конфликт в рассрочку // Известия, 1965. № 296.
3Иоффе О.С. Советское гражданское право. Л. : Изд-во ЛГУ, 1958. С. 252.
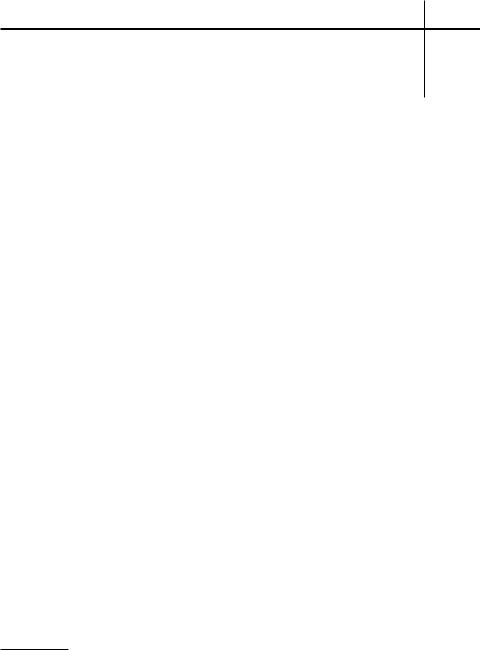
Основы теории доказывания в советском правосудии |
337 |
Тот или иной вариант доказывания выбирается также на основе принципа процессуальной экономии. Если, например, предъявлен иск о признании договора недействительным, в силу того что он противоречит требованиям закона и заключен в результате обмана, то суд при установлении, что такой договор действительно противоречит требованиям закона, вправе признать его недействительным без исследования факта, имел или не имел место обман, если это не отразится на последствиях недействительности.
Таким образом, состав фактов, входящих в предмет доказывания, определяется на основе гипотезы нормы материального права, подлежащей применению в каждом конкретном случае. Этот круг фактов может быть видоизменен, в частности уменьшен с соблюдением предусмотренных в законе условий: 1) при изменении юридической оценки исследуемых судом фактов; 2) при распорядительных действиях сторон в гражданском процессе; 3) в силу требований принципа процессуальной экономии.
2. В литературе предпринималось немало попыток классификации фактов, входящих в предмет доказывания. Прежде всего различают юридические факты в собственном смысле слова и так называемые общие предпосылки правоотношений1. Юридические факты – это обстоятельства, служащие основанием возникновения, изменения или прекращения правоотношений. Общие предпосылки – это факты, создающие лишь возможность возникновения, изменения или прекращения правоотношений, например правоспособность субъектов.
Данная классификация связана с потребностью отыскания критерия для распределения обязанностей по доказыванию между сторонами в гражданском процессе. Так, в частности, в литературе предпринята попытка выделить из всех фактов, являющихся предметом доказывания, факты «специфически правообразующие», обязанность доказывания которых лежит на истце, а обязанность доказывания отсутствия одной из общих предпосылок права – на ответчике2.
В следующей главе мы попытаемся доказать, что деление фактов на «специфически правообразующие» и общие предпосылки права не может служить критерием для распределения обязанностей по доказыванию, здесь же рассмотрим это деление в общем плане.
1Смышляев Л.П. Предмет доказывания и распределение обязанностей по доказыванию в советском гражданском процессе. М. : Изд-во МГУ, 1961. С. 14.
2ЯблочковТ.М.Материальноеипроцессуально-правовоеоснованиеученияораспре- делениибременидоказывания//Вестн.граждан.права,1917.№3–5.С.52;ЮдельсонК.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М., 1951. С. 276–277.
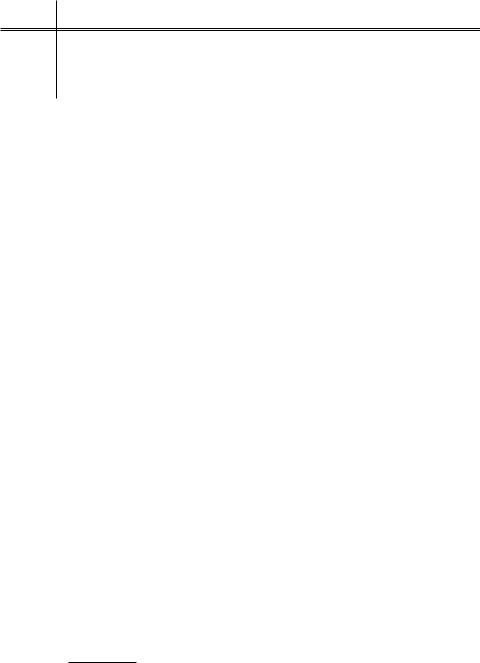
338 |
Проблемы гражданского процессуального права |
К сожалению, Л.П. Смышляев не уточняет, какие еще общие предпосылки права, кроме правоспособности, он имеет в виду; или же правоспособность – это единственная общая или, точнее, всеобщая предпосылка? Т.А. Лилуашвили к общим предпосылкам права относит правоспособность и дееспособность1. Но дееспособность в отличие от правоспособности является предпосылкой не всех правоотношений, а лишь тех, которые возникают на основании личных действий субъекта.
Если рассмотреть всю массу юридических фактов, то окажется, что, кроме такой всеобщей предпосылки, как правоспособность, существует немало менее общих, еще менее общих и т.д. Соблюдение формы сделки – всеобщая предпосылка для обязательств, возникающих из сделок; неистечение исковой давности – всеобщая предпосылка существования обязательств, подверженных действию исковой давности; вина, как правило, предпосылка ответственности и т.д.
Таким образом, грань между общими предпосылками и собственно юридическими фактами крайне расплывчата2 и может стать ясной лишь в том случае, если ее видеть в разграничении отдельного юридического факта и фактического состава. Что же касается последнего, то выделение из него каких-либо общих или менее общих предпосылок никаких теоретических или практических результатов, на наш взгляд, дать не может. И здесь прав Л.П. Смышляев, утверждающий, что нет «оснований выделять из всей совокупности факты, “специфически” правопроизводящие, и факты, якобы не являющиеся таковыми. Говоря иначе, правопроизводящей является вся совокупность фактов. При отсутствии хотя бы одного из них последняя утрачивает правопроизводящее значение»3.
Поэтому выделение из юридического состава общих предпосылок права является бесплодным, и не случайно, что уголовнопроцессуальная теория такого деления состава преступления не знает, хотя его нетрудно было бы сконструировать, отнеся, например, субъекта преступления, достижение им предусмотренного законом возраста к общим предпосылкам уголовной ответственности, объекта преступления – к менее общим, а конкретное деяние – к «специфически» правопроизводящим фактам.
Распространенным делением фактов, составляющих предмет доказывания, служит классификация их на правообразующие, пра-
1Лилуашвили Т.А. Предмет и бремя доказывания в советском гражданском процес-
се. Тбилиси, 1957. С. 22–23.
2См. также: Лилуашвили Т.А. Указ. соч. С. 63–64.
3Смышляев Л.П. Указ. соч. С. 14.
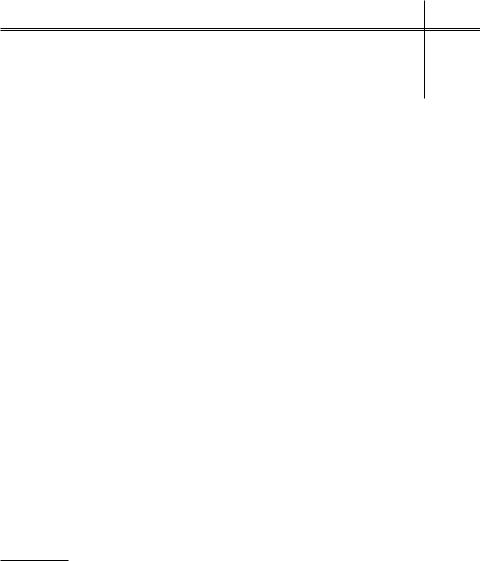
Основы теории доказывания в советском правосудии |
339 |
воизменяющие, правопогашающие и правопрепятствующие1. Это деление, как и предшествующее, порождено потребностью отыскания критерия распределения обязанностей по доказыванию между сторонами в гражданском процессе. Оно без труда может быть распространено и на предмет доказывания в уголовном процессе, что фактически и делает М.С. Строгович, различающий в составе так называемого главного факта группу А – обстоятельства совершения преступления, т.е., по существу, правообразующие факты, и группу Б, в которой перечислены обстоятельства, которые могут быть названы правопрепятствующими или правопогашающими фактами2.
Прежде всего нет необходимости детально воспроизводить не один раз высказанные и вполне справедливые возражения против конструкции правопрепятствующих фактов, значение которых «является оборотной стороной к правопроизводящему их значению»3. Можно было бы вовсе не касаться этого вопроса, если бы некоторые юристы, игнорируя все высказанные возражения, не продолжали защищать конструкцию правопрепятствующих фактов. Так, К.С. Юдельсон обвиняет Б.В. Попова в непонимании «того несомненного обстоятельства, что один и тот же факт в различных правоотношениях может играть ту или другую роль, относясь либо к правопроизводящим, либо к правопрепятствующим или правопрекращающим фактам»4. Конструкция правопрепятствующих фактов воспроизводится в учебнике по гражданскому процессу 1964 г.5
Защищая данную конструкцию, К.С. Юдельсон пишет, что, «несмотря на наличие всех элементов фактического состава (правопроизводящих фактов), может не возникнуть желательных для истца юридических последствий, если «наравне с правопроизводящими фактами могут встретиться правопрепятствующие: недееспособность контрагента и т.п., – при наличии этих фактов, также указанных правовыми нормами, действие правопроизводящих фактов парализуется»6.
1Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе.М.:Изд-воАНСССР,1950.С.34;ШтутинЯ.Л.Предметдоказываниявграждан- скомпроцессе.М.,1963.С.20–21;ИодловскиЕ.,СедлецкиВ.Гражданскийпроцесс.Часть общая. Варшава, 1958. С. 394 (на польском языке).
2Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 197.
3Гордон В.М. Основание иска в составе изменения искомых требований. СПб., 1902. См. также: Смышляев Л.П. Указ. соч. С. 11, 41; Попов Б.В. Принцип распределения доказывания между сторонами в ГПК // Право и жизнь, 1925. Кн. I. С. 11; Леонгард Ф. Бремя доказывания. Берлин, 1904. С. 51 (на немецком языке).
4Юдельсон К.С. Указ. соч. С. 275.
5Советский гражданский процесс. М. : Изд-во МГУ, 1964. С. 139.
6Юдельсон К.С. Указ. соч. С. 274.
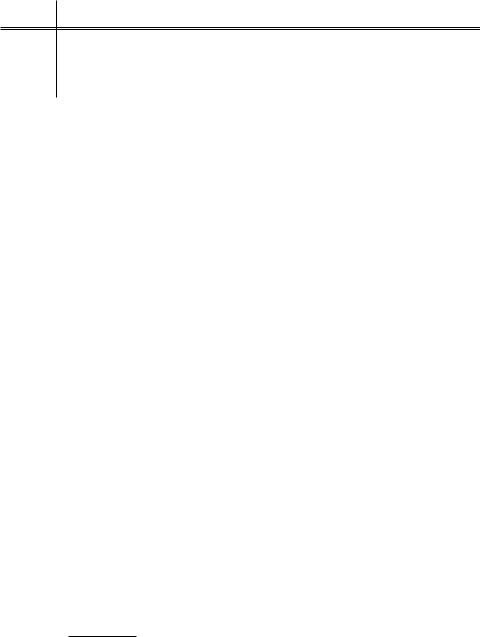
340 |
Проблемы гражданского процессуального права |
Это рассуждение обнаруживает несомненное непонимание или нежелание понять основной аргумент Б.В. Попова и др. Если налицо «правопрепятствующий» факт, например недееспособность, то это означает не что иное, как отсутствие дееспособности (правообразующего факта), поэтому и говорить о наличии «всех элементов фактического состава» ошибочно.
А.Ф. Клейнман вслед за Т.М. Яблочковым утверждает, что «правопроизводящие факты – это факты, специфические для данного права, а правопрепятствующие факты – общие, свойственные для многих правоотношений»1.
С этим рассуждением также нельзя согласиться. Недееспособность конкретного лица является не общим для многих правоотношений, а специфическим фактом, как и дееспособность конкретного лица. Наоборот, такой специфически правообразующий факт, как заключение договора займа, будет общим для многих правоотношений (если не иметь в виду конкретный договор займа). Таким образом, и в этом случае отличие между правообразующими и правопрепятствующими фактами – мнимое.
Деление фактов на правообразующие, правоизменяющие и правопогашающие вполне правомерно, т.к. основано на различном значении фактов для развития правоотношения. Поэтому оно, возможно, имеет определенное значение для цивилистической теории или общей теории права, но трудно усмотреть какоелибо теоретическое или практическое значение этого деления для области судебного познания. Основная процессуальная роль, которая отводится данной классификации в литературе, – это распределение доказывания между сторонами в гражданском процессе в соответствии с правилом: истец доказывает правообразующие факты, ответчик – правопрепятствующие и правопогашающие. В следующей главе постараемся показать неприемлемость данного общего принципа распределения обязанностей по доказыванию.
Трудно также обнаружить какое-либо теоретическое или практическое значение для области судебного познания в классификации фактов, составляющих предмет доказывания: 1) на факты правообразующие, 2) факты легитимации и 3) факты повода к иску2.
1Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. М. : Изд-во АН СССР, 1950. С. 38.
2Юдельсон К.С. Указ. соч. С. 155–156; Лилуашвили Т.А. Указ. соч. С. 18–19; Штутин Я.Л. Указ. соч. С. 20.
Убедительные возражения против данной классификации высказаны: Смышляев Л.П. Указ. соч. С. 13.
