
Экзамен зачет учебный год 2023 / Хрестоматия по МП
.pdf
Р А З Д Е Л I
Что касается вопросов I (а) и I (б), то суд установил различия в за-
висимости от того является ли ответственное Государство членом Организации Объединенных Наций. Суд единогласно ответил на вопрос I (а) в утвердительной форме. На вопрос, который I (б) Суд, мнением на 11 голосов против 4, заявил, что организация имеет способность приносить
международное требование на ответственное государство независимо от
того, является ли оно членом Организации Объединенных Наций.
Наконец, пункт II, мнение Суда 10 голосами против 5 в том, что, когда
Организация Объединенных Наций как организация подает иск о возмещении ущерба, причиненного ее агенту, она может сделать это только основывая свое требование на нарушении обязательств в отношении себя.
Это позволит предотвратить конфликт между действиями Организации
Объединенных Наций и правами, которыми может обладать национальное государство агента, кроме того, это примирение должно зависеть от соображений применимости в каждом конкретном случае, и по соглашениям, которые будут между организацией и отдельными государствами.
Суд дает ряд предварительных наблюдений по представленному вопросу.
Он определяет некоторые термины в запросе мнения, то есть он анализирует содержание формулы: «Способность приносить международные претензии».
Эта возможность, безусловно, принадлежит государству. Может ли она также принадлежать организации? Это равносильно тому вопросу имеет ли организация международную правосубъектность. Отвечая на этот вопрос, который
не урегулирован путем фактического текста в Уставе, суд продолжает рассматривать какие характеристики Устав был призван дать Организации. В
связи с этим, Суд отмечает, что Устав дает организации права и обязанности, которые отличаются от прав и обязанностей ее членов. Суд подчеркивает,
кроме того, важные политические задачи организации: поддержание между-
народного мира и безопасности. Соответственно, Суд пришел к выводу, что
организация обладает правами и обязанностями, а также обладает большой мерой международной правосубъектности, и возможностью для работы на международном уровне, хотя это, конечно, не супер-государство.
Затем суд исследует самую суть вопроса, а именно, является ли совокупность международных прав Организации достаточной, чтобы составить право требовать получение возмещения от государства в отношении этого
ущерба, вызванного повреждением агента Организации в ходе выполне-
ния своих обязанностей.
По первому пункту I (а) «Просьба о вынесении заключения» Суд единогласно приходит к выводу, что организация имеет возможность выдвигать
международное требование в отношении Государства (либо члена или
110 Хрестоматия: Действующее международное право

Г Л А В А 3 С У Б Ъ Е К Т Ы М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О П Р А В А
не члена) за ущерб, вызванный нарушением этим государством своих
обязательств перед Организацией. Суд указывает на то, что он не призывает определить точные размеры возмещения, которое Организация будет иметь право требовать; мера возмещения должна зависеть от ряда факторов, которые Суд дает в качестве примеров.
Затем суд приступает к рассмотрению вопроса I (б), а именно, может ли Организация Объединенных Наций как организация иметь способ-
ность выдвигать международное требование с тем, чтобы получения
возмещения, причитающегося за причиненный ущерб, не только самой Организации, но и потерпевшему или лицам, работающим на нее. Суд анализирует вопрос дипломатической защиты граждан. Суд указывает,
вэтой связи, что на самом деле только организация имеет возможность
для предъявления иска в рассматриваемых обстоятельствах, поскольку
воснове любых международных правил лежит то, что должны быть нарушения со стороны ответчика обязательства по отношению к Организации. В данном случае государства, гражданином которого жертва
является, не могли жаловаться на нарушение обязательства по отноше-
нию к себе. Здесь обязательство предполагается в пользу Организации. Тем не менее, суд признал, что Аналогия традиционных правил дипломатической защиты граждан за рубежом, сама по себе, не оправдывает
положительный ответ. На самом деле, не существует связи гражданства между Организацией и его агентами. Это новая ситуация, и она должна
быть проанализирована.
Существуют ли положения Устава, касающиеся функций организации,
которые подразумевают возможность обеспечения своих агентов ограниченной защитой? Эти полномочия, которые являются существенными для
выполнения функций Организации, должны рассматриваться как необхо-
димые условия, вытекающие из Устава. При выполнении своих функций,
Организация может счесть необходимым поручить своим агентам важные задачи для поддержания мира. Эти агенты должны быть обеспечены эффективной защитой. Только, таким образом, что агент будет в состоянии выполнять свои обязанности удовлетворительно. Таким образом, Суд при-
ходит к выводу, что организация имеет возможность осуществлять функ-
циональную защиту в отношении своих агентов. Ситуация сравнительно проста в случае государств-членов, для этого предполагаются различные обязательства по отношению к Организации.
Но что будет в ситуации, когда иск предъявлен Государству, которое не является Членом Организации? Суд имеет мнение, что члены Организации
Объединенных Наций, создали образование, обладающее признаками
Хрестоматия: Действующее международное право 111

Р А З Д Е Л I
международной правосубъектности. Суд, таким образом, отвечает на во-
прос I (6) утвердительно.
Вопрос ¹ II Генеральной Ассамблеи относится к примирению дей-
ствий со стороны.
Законность применения государством ядерного оружия в вооруженном конфликте (Ходатайство Всемирной организации здравоохранения), Консультативное заключение Международного Суда ООН, 199642
***
[Стр. 74-75] 19. Для того, чтобы дать определение сфере деятельности
или сфере компетенции международной организации, нужно обратиться
к соответствующим нормам организации и, в первую очередь, к ее конституции. С формальной точки зрения учредительными документами международных организаций являются многосторонние договоры, к которым применяются хорошо обоснованные правила толкования договоров. Как
Суд заявил по отношению к Уставу:
«В предыдущих случаях, когда суд должен был интерпретировать Устав
Организации Объединенных Наций, он следовал принципам и нормам,
применимым в целом к толкованию договоров, так как он признал, что устав представляет собой многосторонний договор, тем не менее, договор имеющий определенные особенности» (Определенные издержки Организации Объединенных Наций (статья 17, пункт 2, Устава), консультативное
заключение, ICJ Reports 1962, стр. 157).
Но учредительными документами международных организаций также являются договора определенного вида; их целью является создание новых субъектов права, наделенных определенной автономией, которым стороны поручают задачи по достижению общих целей. Такие договоры могут
поднять конкретные проблемы интерпретации по причине, в частности,
их характера, который является традиционным и в то же время институциональным; сама природа созданной организации, цели, которые были возложены на нее ее основателями, приказы, связанные с эффективным выполнением своих функций, а также собственная практика организации,
и это все элементы, которые, возможно, заслуживают особого внимания, когда придет время для интерпретации этих учредительных договоров.
42Advisory Opinion of 8 July 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 66 (paragraphs 19 (p 74-75), paragraphs 25-27 (pg. 78-79) and dissenting opinion Judge Koroma page 198).
112 Хрестоматия: Действующее международное право

Г Л А В А 3 С У Б Ъ Е К Т Ы М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О П Р А В А
В соответствии с обычной нормой интерпретации, как сказано в ста-
тье 31 Венской конвенции 1969 года о праве международных договоров, условия договора должны толковаться «в их контексте и в свете его объекта и цели» и « вместе с контекстом должно учитываться”:
[...]
(б) последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования «.
Суд имел возможность применить это правило толкования несколько раз (см. арбитражное решение от 31 июля 1989 года (Гвинея-Бисау
против Сенегала), решение, ICJ Reports 1991, стр. 69-70, пункт 48; Земли, острова и Морской Пограничный спор (Сальвадор / Гондурас: Никарагуа),
решение, ICJ Reports 1992, стр. 582-583, пункт 373, и стр. 586, пункт 380; Территориальный спор (Ливийская Арабская Джамахирия / Чад) решение, ICJ, Reports 1994, стр. 21-22, пункт 41; делимитация морской границы и
территориальные вопросы между Катаром и Бахрейном (Катар против Бахрейна), юрисдикция и подсудность, решение, ICJ Reports 1995, p. 18,
пункт 33); он будет также применять его для целей определения того, возникнет ли в соответствии с Уставом ВОЗ, вопрос, на который он должен был ответить «в рамках» деятельности этой организации.
[Стр. 82-83] 29. Тем не менее, другие аргументы были выдвинуты в
ходе разбирательства, чтобы основывать юрисдикцию Суда в данном деле.
Тем самым утверждалось, что резолюция Всемирной ассамблеи
здравоохранения, будучи принятой требуемым большинством», следует считать законно принятой» (см. Правовые последствия для государств
продолжающегося присутствия Южной Африки в Намибии (Юго-Запад-
ная Африка), несмотря на резолюцию Совета Безопасности 276 (1970), консультативное заключение, ICJ Reports 1971, p. 22, пункт 20). В этой связи, суд рассматривал бы, что вопрос о том, что резолюция была при-
нята должным образом с процедурной точки зрения и вопрос о том,
что резолюция была принята в пределах своей компетенции, являются двумя отдельными вопросами. Сам факт, что большинство государств, в голосовании по резолюции, выполнили все соответствующие нормы по форме, не может само по себе быть достаточным для устранения каких-
либо фундаментальных дефектов, таких, как превышение полномочий,
которым резолюция может быть подвержена.
Как заявил Суд «каждый орган должен, в первую очередь, по крайней мере, определить его собственную юрисдикцию» (Определенные расходы Организации Объединенных Наций (статья 17, пункт 2, Устава), консуль-
Хрестоматия: Действующее международное право 113

Р А З Д Е Л I
тативное заключение, ICJ Reports 1962, р . 168). Следовательно, возник
вопрос для Всемирной ассамблеи здравоохранения принять решение о своей компетенции - и, тем самым, что и ВОЗ - подать заявление в суд о вынесении консультативного заключения по рассматриваемому вопросу, с учетом условий Конституции организации и условий Соглашения от
10 июля 1948 года, связывая это с Организацией Объединенных Наций.
Но более того, это обязанность суда убедиться в том, что условия, регулирующие их компетенцию на дачу требуемого заключения выполнены; ссылаясь на, в установленном порядке, статью 96, пункт 2 Устава, «сфера
деятельности» Организации и статьи X, пункт 2 Соглашения от 10 июля
1948 года о его «компетенции», Суд также считает себя обязанным, в данном случае, интерпретировать Конституцию ВОЗ.
Осуществление функций, возложенных на суд в соответствии со статьей 65, параграф 1, его Устава требует предоставлять такую интерпретацию, независимо от любой работы конкретного механизма обращения, который статьей 75 Устава ВОЗ оговаривается для случаев, когда возникает
вопрос или спор между государствами, касательно толкования или приме-
нения этого инструмента, и при этом суд приходит к выводам отличным от тех, что были достигнуты Всемирной ассамблеей здравоохранения, когда она приняла резолюцию WHA46.40.
[стр. 203 О.М. Корома] Хотя резолюция, содержащая запрос, не является договором, впрочем, как и суд в своем большинстве мнений, ее ин-
терпретация может руководствоваться соответствующими положениями Венской конвенции 1969 года о праве международных договоров, чтобы
установить, что вопрос, сформулированный в резолюции, относится к компетенции или сфере деятельности Организации, как это определено
в ее Конституции.
[стр. 219 О.М. Корома] На вопрос, имеет ли международная организация право определять свою собственную компетенцию и юрисдикцию,
Суд сказал следующее в своем консультативном заключении по делу
Определенные расходы:
«В правовых системах государств, часто бывает некоторый порядок
определения законности даже законодательных или правительственных актов, но в структуре Организации Объединенных Наций не найдена аналогичная процедура. Предложения, сделанные в ходе подготовки проекта Устава, чтобы возложить окончательное право для интерпретации Устава на Международный Суд не были приняты; мнение, которое суд собирается выносить является консультативным заключением. Как и предполагалось
в 1945 году, следовательно, каждый орган должен, в первую очередь, по
114 Хрестоматия: Действующее международное право
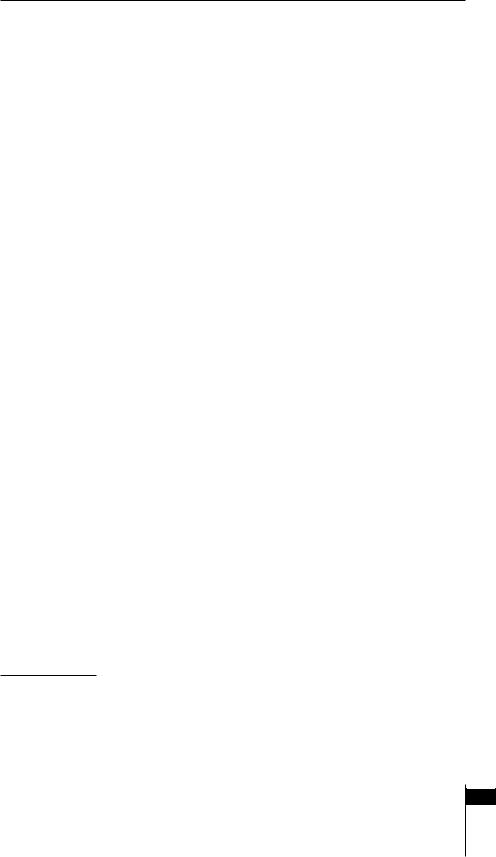
Г Л А В А 3 С У Б Ъ Е К Т Ы М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О П Р А В А
крайней мере, определить его собственную юрисдикцию» (Определенные
расходы Организации Объединенных Наций (статья 17 пункт 2 Устава), ICJ Reports 1962, стр. 168).
В том же заключении Суд заявил, что
«Когда организация принимает меры, которые оправдывают утверж-
дение, которое было подходящим для выполнения одной из заявленных целей Организации Объединенных Наций, презумпция такова, что такие
действия не являются превышением полномочий организации» (там же).
На мой взгляд, это показывает, что до настоящего дела и в соответствии
со своей судебной практикой, Суд постановил, что международные организации являются компетентными, чтобы определить свою компетенцию
и юрисдикцию. На этот раз суд принял решение отойти от этой своей судебной практики, но почти без объяснений или причин, но суд не только решил не следовать своей практике в этом случае, не отказывая себе
в праве проверять компетентность органа, обращающегося с просьбой, он отклонил также определенные возражения против его юрисдикции на
основе претензий, что такие органы не компетентны, чтобы делать запрос (Интерпретация мирных договоров с Болгарией, Венгрией и Румынией, первый этап, ICJ Reports 1950, стр. 72 и след., и оговорки к Конвенции о
предотвращении и наказании преступления геноцида, ICJ Reports 1951, стр. 19-20)
Сила резолюций Совета Безопасности
Применение Конвенции о предотвращении и наказании за преступления геноцида, Временные меры, Постановление от 13 сентября 1993 года (Босния/Герцеговина против Югославии), (Совет Безопасности/ООН)
***
[стр. 439-441 О.М. Лаутерпахт] 98. На первый взгляд, резолюция Совета Безопасности 713 (1991)43, является действующим запретом на поставку вооружений и военной техники тем, кто вовлечен в югославский кон-
43“[...] что все государства должны, в целях установления мира и стабильности в Югославии, немедленно ввести всеобщее и полное эмбарго на все поставки оружия и военного снаряжения в Югославию, пока Совет Безопасности не примет иного решения после консультаций между Генеральным секретарем и правительством Югославии” (резолюция 713 (1991), пункт. 6).
Хрестоматия: Действующее международное право 115

Р А З Д Е Л I
фликт и является обязательным для всех членов Организации Объединен-
ных Наций. Хотя резолюция открыта для замечаний, высказанных выше в пунктах 91-96, невозможно с уверенностью сказать, что сами по себе эти комментарии затрагивают сохраняющуюся законность этой резолюции. Тот факт, что некоторые члены Совета Безопасности заявили, что они бы
не поддержали резолюцию, в случае отсутствия согласия Югославии, в
отношении территории которой был принято эмбарго, может быть обоснованным только в отсутствии определения Совета Безопасности, что ситуация подпадает под главу VII Устава. Как только Совет Безопасности
указал, что он действует «в соответствии с главой VII», уже не было необ-
ходимости получать согласие какого-либо государства к мерам, которые считались необходимыми вследствие обстоятельств.
99.Это не означает, что Совет Безопасности может действовать свободно от всех видов правового контроля, но только то, что власть суда, судебного контроля, ограничена. Вряд ли можно сомневаться в том, что суд имеет некоторую степень власти такого рода, впрочем, может быть и
не меньше сомнений, что не охватывается какое-либо право суда заменить
свои полномочия на те полномочия Совета Безопасности по определению наличия угрозы миру, нарушение мира или акта агрессии, или политические шаги, которые следует предпринять после такого определения. Но
суд, как главный судебный орган Организации Объединенных Наций, имеет право, на самом деле обязан обеспечить верховенство права в рам-
ках системы Организации Объединенных Наций и, в случаях, правильно поставленных перед нею, настаивать на соблюдении всеми органами Организации Объединенных Наций правил, регулирующих их работу.
Суд уже, в деле Локерби, дал широкое толкование полномочий Совета Безопасности, действуя на основании главы VII, в судебном решении, что решение Совета способно, в силу статей 25 и 103 Устава, превалировать над обязательствами сторон по другим международным соглашениям (см. Вопросы толкования и применения Монреальской конвенции 1971 года,
возникающих в связи с воздушным инцидентом в Локерби (Ливийская
Арабская Джамахирия против Соединенного Королевства), временные меры, приказ от 14 апреля 1992 года, ICJ Reports 1992, p. 15 пункт 39).
100.Данный случай, однако, не может подпадать под действие только что провозглашенной доктрины. Это потому, что запрещение геноцида,
вотличие от вопросов, рассматриваемых в Монреальской конвенции в деле Локерби, в которой условия статьи 103 могут непосредственно применяться, как правило, принимаются как имеющие статус не обычной нормы международного права, но статус общего международного права (jus cogens). В самом деле, запрещение геноцида уже давно рассматривается
116 Хрестоматия: Действующее международное право

Г Л А В А 3 С У Б Ъ Е К Т Ы М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О П Р А В А
как одно из немногих несомненных примеров общего международного
права. Даже в 1951 году, в своем консультативном заключении по вопросу об оговорках к Конвенции о предотвращении и наказании за преступления геноцида, суд подтвердил, что геноцид «противоречит нравственному закону, духу и целям Организации Объединенных Наций», и что
«Принципы, лежащие в основе Конвенции являются положениями, признанными цивилизованными нациями как обязательные для госу-
дарств даже без какого-либо договорного обязательства» (ICJ Reports
1951, p. 22).
Прямое указание на особое свойство запрета на геноцид можно также увидеть в работе Комиссии международного права в подготовке статьи 50 проекта статей Закона о международных договорах (Ежегодник Ко-
миссии международного права, 1966, Том II, стр. 248-249), который, в конечном счете, материализовался в статье 53 Венской конвенции Закона
о международных договорах и в комментарии той же Комиссии по статье 19 (международные преступления и правонарушения) проекта статей об ответственности государств (Ежегодник Комиссии международного права,
1976, Vol. II, ч. 2, с. 103). Концепция общего международного права действует как концепция превосходящая как обычное международное право, так
и договоры. Судебная защита, которая предусмотрена статьей 103 Устава может дать Совету Безопасности в случае конфликта между одним из его решений и действующим обязательством по договору иерархичности,
но не может это распространить на конфликт между резолюцией Совета Безопасности и нормой jus cogens . На самом деле, надо только сформу-
лировать противоположное утверждение таким образом, что резолюция Совета Безопасности может даже потребовать участия в геноциде, чтобы
его неприемлемость стала очевидной.
101.Не следует упускать из виду значение положения в статье 24 (2) Устава, что при выполнении своих обязанностей по поддержанию между-
народного мира и безопасности, Совет Безопасности действует в соот-
ветствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций. Среди целей, изложенных в статье 1 (3) Устава, есть цель о достижении международного сотрудничества «в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам всех, без различия расы, пола,
языка или религии».
102.Это не должно рассматриваться, что Совет Безопасности когдалибо сознательно принял бы резолюцию, четко и преднамеренно не подчиняющуюся правилу общего международного права или требующую
нарушения прав человека. Но нельзя исключать вероятность того, что
Хрестоматия: Действующее международное право 117
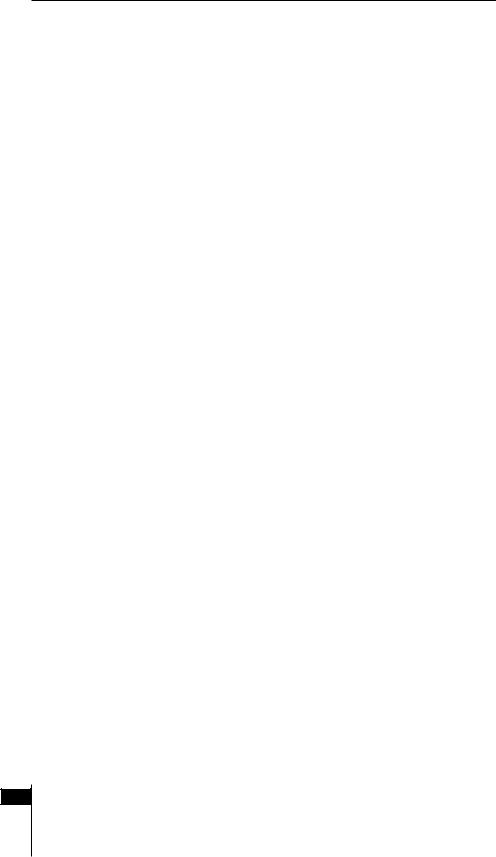
Р А З Д Е Л I
резолюция Совета Безопасности, могла бы непреднамеренно или непред-
виденным образом привести к такой ситуации. Оказывается это именно то, что произошло в данном случае. Исходя из этого, неспособность Боснии и Герцеговины достаточно сильно и эффективно бороться против Сербов, чтобы предотвратить реализацию сербской политики этнической
чистки, по крайней мере в части, непосредственно связанной с тем, что
доступ Боснии и Герцеговины к оружию и оборудованию был серьезно ограничен из-за эмбарго. С этой точки зрения, резолюцию Совета Безопасности, можно рассматривать как по сути призывающую членов Ор-
ганизации Объединенных Наций, хотя и бессознательно, и конечно не
желая того, стать в некоторой степени сторонниками геноцида сербов и таким образом и в той степени действовать вопреки правилу общего международного права.
103.Какие правовые последствия могут вытекать из этого анализа? Одна из возможностей заключается в строгой логике, когда действие пункта 6 резолюции 713 (1991) стало делать членов Организации Объ-
единенных Наций соучастниками к геноциду, он перестал быть действи-
тельным и обязательным в операции против Боснии и Герцеговины; и что затем члены Организации Объединенных Наций могли не соблюдать его. Тем не менее, трудно сказать, что затем они безусловно стали обязаны
предоставить оружие и военную технику заявителю.
104.Существует, однако, и другая возможность, которая, пожалуй,
больше соответствует действительности и ситуации. Следует признать, что цепочка гипотез в анализе включает в себя некоторые спорные ссылки
-элементы фактов, как например, эмбарго на поставки оружия привело к дисбалансу в хранении оружия обеими сторонами, и, что этот дисба-
ланс привел в большей или меньшей степени к геноциду, к этнической
чистке, а также элементы права, такие, что запрет геноцида является jus cogens, и, что резолюция, которая нарушает общее международное право должна затем стать недействительной и юридически недейственной. Не обязательно, чтобы Суд занял определенную позицию в этом отношении в настоящее время. Вместо этого, кажется достаточным, чтобы значи-
мость общего международного права была доведена до сведения Совета
Безопасности, как это будет предоставлено постановлением Суда с тем, чтобы Совет Безопасности мог уделять должное внимание этому в будущей переоценке эмбарго.
118 Хрестоматия: Действующее международное право

Г Л А В А 3 С У Б Ъ Е К Т Ы М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О П Р А В А
Дело Восточного Тимора (Португалия против Австралии), 199544
Генеральная Ассамблея/Совет Безопасности: Консультативное заключение по вопросу Восточного Тимора, 1995
***
[Стр. 103-104] 30. Австралия возражает, что Резолюция ООН в отношении Восточного Тимора не содержит требований Португалии о том, что они заявляют; что последняя Резолюция Совета Безопасности в отношении Восточного Тимора датируется 1976 годом и последняя Резолюция Генеральной Ассамблеи 1982 годом, и что Португалия не принимает во
внимание прошедшее с тех пор время и развитие, которое произошли; и что Резолюция Совета Безопасности не является резолюцией, которая
обязательна к исполнению согласно части VII Устава, или иначе, и, кроме того, что они не оформлены в обязательном порядке.
31. Суд отмечает, что аргумент Португалии основывается на предпосылке, что резолюции Организации Объединенных Наций, и в частности, Совета Безопасности, могут быть рассмотрены как устанавливающие
обязанность государств не признавать никакой власти со стороны Индонезии в отношении территории и, в случае последнего, иметь дело только
с Португалией. Суд не убежден, однако, что соответствующие резолюции
зашли так далеко.
Для двух сторон важно то, что территории Восточного Тимора оста-
ются не самоуправляемыми территориями и их, народ имеет право на
самоопределение. Кроме того, Генеральная Ассамблея, которая оставляет за собой право определять территории, которые должны рассматривать-
ся как не самоуправляемые в целях применения главы XI Устава, обошла Восточный Тимор в качестве территории как таковой. Компетентные органы Генеральной Ассамблеи продолжают рассматривать Восточный Тимор в таком качестве и по сей день. Кроме того, Совет Безопасности в своих резолюциях 384 (1975) и 389 (1976) прямо призвал к уважению «территориальной целостности Восточного Тимора, а также неотъемлемое право его народа на самоопределение в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 1514».
Не является проблемой между Сторонами то, что Генеральная Ассамблея прямо называет Португалию «управляющей державой» Восточного
44I.C.J. Opinion on Question East Timor (1995), paras. 30-32 and Weeramantry dissenting opinion page 190-91.
Хрестоматия: Действующее международное право 119
