
Iz_arkhiva_Izbrannye_trudy_V_G_Bogoraza_po_shamanstvu_1934-1936_gg
.pdf
СТАДНОЕ СОЗНАНИЕ И ДИФФУЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ1 [1935 г.]
В «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс дали следующее определение наиболее первобытной формы сознания: «Сознание, конечно, есть прежде всего осознание ближайшей чувственной среды и осознание ограниченной связи с другими людьми и вещами, находящимися вне начинающего сознавать себя индивида»2.
Сознание есть изначально исторический продукт и остается им, пока вообще существуют люди. Сознание не относится к животным: «Для животного его отношение к другим не существует как отношение»3. Сознание есть первоначальный переход от животного к человечеству: «Начало это носит столь же животный характер, как и сама общественная жизнь на этой ступени; это чисто стадное сознание, и человек отличается от барана лишь тем, что его сознание заменяет ему инстинкт»4.
В дальнейшем в «Немецкой идеологии» следует такое определение:
«В то же время оно — осознание природы, которая первоначально противостоит людям как совершенно чужая, всемогущая и неприступная сила, к которой люди относятся совершенно по-животному; следовательно, это — чисто животное осознание природы (естественная религия)»5.
1Научно-исторический архив ГМИР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36. Л. 184–236 (примеч. М. М. Ш.).
2К. Маркс и Ф. Энгельс. Немецкая идеология, Партиздат ЦК ВКП(б) 1935, стр. 21.
3Там же, стр. 21.
4Там же, стр. 21.
5Там же, стр. 21.
371
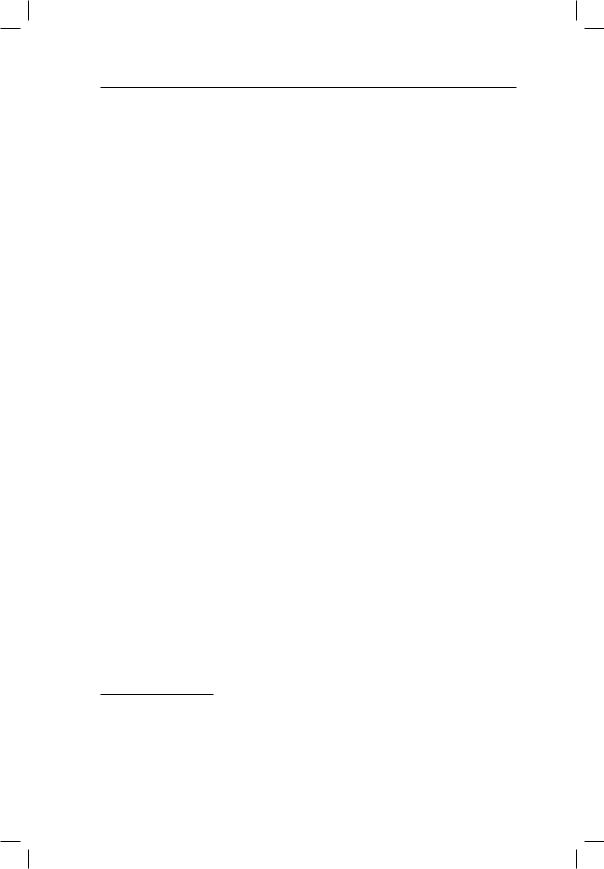
II. Статьи и доклады В. Г. Богораза
Новое учение о языке Н. Я. Марра отмечает соответствующий этому стадному сознанию диффузный характер первоначального мышления. Он соответствует стадии кинетической речи. Диссоциация диффузных представлений начинается только с началом звуковой речи. Диффузные представления развиваются одновременно по целому пучку направлений. Например: верх, низ, под, небо, земля, преисподняя, море, высокий, низкий, синий, голубой, сухой, крепкий, мокрый, прозрачный и т. д.6
Яфетическая теория в дальнейшем отмечает выход из стадного состояния и переход к космическому мышлению, далее следует переход к микроскопическому мышлению и потом к мифологическому мышлению. Вообще эти ступени мышления имеют характер слитного коллективного восприятия мира7.
В периоде мифологического мышления академик И. И. Мещанинов различал более ранний этнологический тотемизм и, наконец, по пути продвижения господства над природою, более поздний этнографический тотемизм.
Однако параллельно с этим можно было бы отметить в процессе первоначального коллективного сознания те своеобразные, более частные формы мышления, которые Леви-Брюль определяет как сопричастие. Термин «сопричастие» определяет способность первобытных людей перевоплощаться в чужое бытие, ничуть не теряя при этом своего собственного.
Так, например, южно-американское племя бороро говорит про себя, что они в то же самое время красные попугаи арара. Мещанинов по этому поводу ссылается на Леви-Брюля, а Леви-Брюль на фон ден Штейнена.
Надо, однако, отметить неточность, я сказал бы, небрежность цитат из книги фон ден Штейнена, приведенных Леви-Брюлем. У Леви-Брюля сказано: «Так, например, “трумаи” (племя северной Бразилии) говорят, что они — водяные животные. Бороро (соседнее племя) хвастает, что они красные (попугаи)»8.
И в другом месте: «Коллективное представление здесь совершенно сходно с тем, которое поразило фон ден Штейнена, когда “бо-
6Н. Я. Марр. Избранные работы, том I, стр. 265.
7И. И. Мещанинов. Язык и мышление в доклассическом обществе. Проблемы истории докапиталистических обществ, ГАИМК, 1934, № 9–10, стр. 22.
8Л. Леви-Брюль. Первобытное мышление. Изд. Атеист. М., 1930, стр. 48.
372

Стадное сознание и диффузное мышление [1935 г.]
роро” сказали ему, что они — арара, или когда трумаи заявили, что они — водяные животные»9.
Французский текст мало отличается от русского10.
Русский перевод представляет сочетание двух работ Леви-Брю- ля: работы «Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures», изданной в 1910 г., и второй работы — «La mentalité primitive», изданной
в1922 г. Вторая глава русского перевода: «Закон партиципации (сопричастие)» соответствует второй главе первой работы Леви-Брюля.
Однако у фон ден Штейнена сказано несколько иное. «Трумаи — это водяные животные потому, что они спят на дне реки. Так говорят бакаири совершенно серьезно. Мы встречаем такую же веру
влюдей, живущих под водой, также и у других племен. Бороро утверждают, что если пожевать известных листьев, то можно в течение целых часов оставаться под водою и ловить рыбу. Я мог узнать о “водяной жизни” народа трумаи еще одну подробность: они охотнее всего нападают на другие племена на реке и пленным связывают руки и бросают их в воду»11.
Дальше указано, что племя бакаири высмеивает и презирает племя трумаи за то, что они спят в реке и таким образом являются водяными животными.
После того приведено указание относительно племени бороро, которые хвастают, что они — попугаи арара.
Фон ден Штейнен не называет бороро соседями трумаи. Бороро живут в области Гран-Чако, а трумаи на плоскогорье Шингу. Это две обширные области, совершенно различные по своим географическим свойствам. Область обитания бороро — степная, область обитания трумаи — сплетение рек, как видно, между прочим, из приведенного текста.
Соседями трумаи являются совсем не бороро, а вышеупомянутые бакаири.
От этих указаний фон ден Штейнена довольно далеко до суммарного утверждения Леви-Брюля о том, что трумаи сами о себе говорят, что они — водяные животные.
9Там же, стр. 58.
10Ср. работу L. Levy-Bruhl. Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, 1910. гл. 2, стр. 77 и 94.
11Karl von den Steinen. Unter den Natur-Vőlkern Central-Brasiliens, Berlin, 1895, p. 352.
373

II. Статьи и доклады В. Г. Богораза
Кстати же и страницы у Леви-Брюля перепутаны: вместо страницы 352-й и 353-й указано страница 305-я и 306-я. Русский перевод дает еще более неточные указания страниц: 205 и 305.
И. И. Мещанинов, следуя за русским переводом сочинения Ле- ви-Брюля, говорит еще более решительно: «Так племя трумаи, в северной Бразилии, отождествляет себя с водяными животными, утверждая, что между ними имеется тождество по существу. Эти водяные животные, оказывающиеся племенным тотемом, воспринимаются как нечто однородное с самым общественным союзом и одновременно с каждым его членом»12.
Можно соглашаться с теорией о возникновении этнологического тотемизма и этнографического тотемизма как позднейшей стадии развития мифологического мышления. Однако сообщения фон ден Штейнена о племени трумаи отнюдь не может служить подтверждением этой теории.
Леви-Брюль определяет эти формы мышления как коллективные. Он говорит следующее: «Сознание первобытного человека уже наперед заполнено огромным числом коллективных представлений, под влиянием которых все предметы, живые существа, неодушевленные вещи и орудия, приготовленные рукой человека, мыслятся всегда обладающими множеством мистических свойств»13.
В данном случае можно оспаривать только «множество мифических свойств», которое опять-таки является, по-видимому, небрежным словесным оформлением.
Впрочем, при более внимательном рассмотрении оказалось, что в данном случае небрежность принадлежит не самому Леви-Брюлю, а его русскому переводчику. У Леви-Брюля сказано не «огромным числом коллективных представлений», а «большим числом коллективных представлений». И далее опять: вместо «мыслятся всегда обладающими множеством мистических свойств» — в подлиннике у Леви-Брюля сказано только: «они представляются имеющими мистические свойства». У Леви-Брюля нет «всегда», и нет «множеством», то и другое лежит на совести русского переводчика.
12И. И. Мещанинов. Язык и мышление в доклассическом обществе. Проблемы истории докапиталистических обществ, ГАИМК, 1934, № 9–10, стр. 10.
13Л. Леви-Брюль. Первобытное мышление, Изд. Атеист, М., 1930, стр. 47.
374

Стадное сознание и диффузное мышление [1935 г.]
Это стремление усилить, выделить наиболее спорную сторону теорий Леви-Брюля — весьма характерно для редакции перевода14.
Одновременно с этим Леви-Брюль старается подчеркнуть другой аспект первобытного мышления, его пралогичность, но он определяет его скорее по принципу отрицательному, по принципу отсутствия логических свойств.
Он, правда, указывает, что первобытное мышление представляет собою какую-то стадию, предшествующую по времени появлению логического мышления: «Существовали ли когда-нибудь такие группы человеческих или дочеловеческих существ, коллективные представления которых не подчиняются еще логическим законам. Мы этого не знаем, это, во всяком случае, весьма маловероятно».
Однако тут же он объясняет, что пралогическое мышление тоже не подчиняется логическим законам. Оно, конечно, не алогично,
итакже не аналогично, оно пралогическое. Но дело в том, что оно не стремится, подобно нашему мышлению, избежать противоречия.
Однако «не избегать противоречия» — это значит не подчиняться логике.
Анализ Леви-Брюля представляется метафизическим.
Дальше он объясняет, что эти пралогические свойства относятся только к коллективным представлениям и их ассоциациям. Рассматриваемый индивидуально человек будет чувствовать, рассуждать и вести себя так, как мы это от него ожидаем. Заключения и выводы, которые он будет делать, будут такими, какие и нам кажутся вполне разумными.
На деле мышление первобытных людей имеет свои собственные законы, лишь поскольку оно является коллективным, и таким общим законом является закон партиципации, закон пралогического мышления. Рассуждения Леви-Брюля представляются формальными. Мы видим в дальнейшем, что мышление отдельного человека
имышление коллективное являются в одинаковой мере двойственными. Они подчиняются одновременно двум причинностям: мистической и материалистической. То, что Леви-Брюль называет причинностью мистической, следовало бы определить скорее как причинность анимистическую.
14Перевод осуществлен под редакцией В. К. Никольского и А. В. Киссина (примеч. М. М. Ш.).
375

II. Статьи и доклады В. Г. Богораза
Первобытному человеку вселенная представляется наполненной множеством разнообразных духов, которые влияют на все то множество предметов, неодушевленных вещей, о которых говорит Леви-Брюль.
Что касается орудий, приготовленных рукою человека, мы видим, что они занимают особое положение. В моей работе «Идеи пространства и времени в представлениях первобытной религии», изданной по-английски и по-русски, приведены разнообразные примеры такого двойного или многократного бытия, которые входят в систему сопричастия по определению Леви-Брюля. Эти примеры относятся не только к таким первобытным народам, как трумаи
ибороро или чукчи с эскимосами, их можно отыскать у китайцев
ииндусов, а также в поверьях народов Западной Европы, кельтов, германцев и иных.
Чукотский пример: мыши, живущие на нашей человеческой земле, — это обыкновенные звери. Но где-то, вне нашего собственного мира, существует особая область, где мыши живут по-иному. С одной стороны, они похожи на земных мышей, а с другой стороны — они живут по-человечески. У них есть дома. Пищевые запасы, инструменты и орудия. Они исполняют обряды, совершают жертвоприношения. Земной шаман попадает в эту область. Там есть больная старуха, у нее болит горло, но он может разобрать истинную причину ее болезни. Эта старуха в нашем земном мире — это старая мышь, она попала в травяную пленку, расставленную людскими ребятишками. Лечить ее можно двояко: можно камлать и шаманить в той особой мышиной области до тех пор, пока больная старуха не выздоровеет. Тем самым на нашей земле лопнет травяная пленка
имышь убежит. Или можно на нашей земле просто разорвать пленку, мышь убежит, и старая женщина выздоровеет.
Мышиный народ платит шаману за лечение своими лучшими запасами. Они дают ему мяса и сала, свиток крепкого ремня, несколько больших кур. Но, будучи перенесены на нашу собственную землю, эти подарки, соответственно с образом жизни наших земных мышей, превращаются в сухие сучки, увядшие листья и т. д.
Точно так же в западноевропейских легендах феи и гномы могут ходить по земле. Но они обитают в собственной своей области, отличной от нашего человеческого мира. Если из области фей перенести в наш мир золото, оно превращается в увядшие листья, точно так же как подарки чукотских запредельных мышей.
376

Стадное сознание и диффузное мышление [1935 г.]
Подобным же образом сокровища и деньги, полученные от дьявола, здесь, на земле, превращаются в навоз, битые черепки и т. д.
Другой пример, опять-таки чукотский: человек, околдованный шаманом, бросается вон из своего жилища. Он пробегает сквозь внутреннее помещение. Оно кажется ему бесконечным. Он немного пробежит, посмотрит кругом, те же бесконечные стены. Тогда он окончательно теряет голову и бросается вперед. В конце концов он выскакивает вон из внутреннего помещения и тем самым выходит за пределы нашего земного мира. Теперь он пробегает сквозь внешнее помещение своего жилища. Оно тоже кажется бесконечным. Стены не имеют конца. Когда он выбегает наконец наружу из этого второго помещения, вместе с тем он выбежал вон из второго мира, который находится сверху над нашим собственным миром. Теперь он находится на другой стороне небес, где-то на непрочной твердыне качающихся облаков; он тонет в облаках и близится к смерти.
Таким образом, земное жилище, состоящее из двух помещений, соответствует двум мирам, и околдованный человек имеет одновременно два восприятия, параллельные друг другу, тесно соединенные и всё же раздельные.
Любое заклинание первобытных племен и даже современных народов построено именно по принципу этой двойственности. Например, человек, путешествующий в пустыне, прибегает к особому камню-амулету, в виде мелкого камушка, для того чтобы защититься от возможного нападения от злых духов. Он говорит так: «Меня нет здесь. Я внутри этого камушка, и этот камушек — это огромный утес, помещенные в середине открытого моря. Бока этого утеса скользкие и отвесные. Злой дух будет царапаться вверх, обломает себе когти и упадет в воду».
Другой пример такого же заклинания: «Меня нет здесь, я не сплю здесь на открытом месте. Я влез в ухо к моему упряжному оленю, злые духи не сумеют найти меня, не узнают, где я». Во всех этих случаях мы имеем четкие формы двойного параллельного сопряженного бытия.
Точно такой же характер имеет заклинание известной русской сказки: «Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой». Влез коню в ухо и вылез таким молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Точно так же в индийской сказке о приключениях Шактивега из известного собрания сказок Катасаритсагара, принцесса Кана-
377

II. Статьи и доклады В. Г. Богораза
кареха просит своих женихов прийти в золотой город. Шактивега после многих приключений попадает в сказочную страну. Там он находит в пышной палатке на золотой кровати тело, прикрытое покрывалом из тонкого холста. Приподнявши покров, он видит принцессу, свою возлюбленную, которая лежит на постели в бесчувственном состоянии. Он осматривает комнату за комнатой и везде находит то же самое: безжизненное тело красавицы, простертое на пышном ложе. Каждая из этих красавиц обитает одновременно на нашей человеческой земле и в сказочном золотом городе. На ней можно жениться в том или другом месте ее пребывания15.
Число этих примеров можно было бы при желании умножить до чрезвычайности.
Однако нельзя сказать, что теория сопричастия, выдвинутая Леви-Брюлем, дает достаточное объяснение всем этим примерам и представлениям.
Прежде всего, вместо множественного бытия надо поставить, по существу, двойное бытие. Каждая группа явлений, группа живых существ, нередко довольно сложная, имеет два параллельных бытия: одно здесь, на нашей человеческой земле, а другое — где-то в другом, сказочном, запредельном мире, «за тридевять земель, в тридесятом царстве».
В некоторых случаях, по-видимому, выдвигается множественное бытие, например, Вольга Святославович в русской былине превращается то в жеребца, то в горностая, в осетра, в шмеля, но все эти превращения рассматриваются по очереди, каждое из них является парным. Вольга Святославович, превращаясь в осетра, не перестает быть богатырем, и через несколько времени, совершив нужное магическое действие, он из звериного бытия возвращается опять в человеческое. После того он принимает второе превращение и становится шмелем. Мы имеем, таким образом, здесь не множественность бытия, а ряд парных бытий, исходящих из того же человеческого образа и рассматриваемых по очереди.
Поэтому термин Леви-Брюля «сопричастие» было бы уместно заменить или, по крайней мере, дополнить другим термином, который предполагается более точным — «перевоплощение».
Мещанинов отмечает идеи сопричастия как расщепление первобытного коллективного более раннего представления.
15Этот пример приведен также в книге В. Г. Богораза «Эйнштейн и религия» (гл. 5) (примеч. М. М. Ш.).
378

Стадное сознание и диффузное мышление [1935 г.]
Он указывает, что «отголоски этого состояния прослеживаются еще в родовом строе, где общественный союз (клан) отождествляет себя с тотемом, ставя знак равенства между ним, всем коллективомкланом и отдельными его представителями»16.
Было бы, впрочем, точнее сказать: знак равенства между всем коллективом-кланом и коллективом-тотемом, ибо клан и тотем одинаково являются общественными группами.
Отдельный индивидуальный представитель на данной стадии мышления всегда является только частью коллектива.
В «Капитале» Маркс говорит об этой связанности отдельного человека с коллективом.
«Те формы кооперации, господство которых в процессе труда мы находим на первых ступенях человеческой культуры, например у охотничьих народов или в земледельческих общинах Индии, покоятся, с одной стороны, на общем владении условиями производства, с другой стороны — на том, что отдельный индивидуум не порвал еще пуповины, связывающей его с племенем или общиной, и связан с ними столь же тесно, как отдельная пчела с пчелиным ульем»17.
Если, согласно Марксу, отдельный индивидуум еще не порвал пуповины, связывающей его с общиной, следовательно, эта связанность на предыдущих ступенях развития могла быть еще крепче.
В«Капитале», в другом месте, в главе «О товарном фетишизме
иего тайнах», сказано почти то же о более поздних общественных формах, об азиатском и античном способе производства:
«Эти древние общественно-производственные организации несравненно более просты и ясны, чем буржуазная, но они покоятся или на незрелости индивидуального человека, еще не оторвавшегося от пуповины естественно-родовых связей с другими людьми, или на непосредственных отношениях господства и подчинения»18.
Очевидно, что на более ранних ступенях развития общества эта связь крепка и всеобъемлюща.
В идеологии первобытных людей мы встречаем обильные и чрезвычайно рельефные примеры представлений, относящиеся
16И. И. Мещанинов. Язык и мышление в доклассическом обществе. Проблемы истории докапиталистических обществ, ГАИМК, 1934, № 9–10, стр. 25.
17К. Маркс. Капитал, т. I, Партиздат, 1937, стр. 78.
18К. Маркс. Капитал, т. I, Партиздат, 1937, стр. 78.
379

II. Статьи и доклады В. Г. Богораза
к различным вариантам и стадиям такого слитного мышления. Я ограничусь примерами из идеологии более знакомых нам северных народностей.
Так, в чукотском, гиляцком, юкагирском фольклоре можно отыскать многочисленные примеры представлений о коллективном сопричастии. Например: дельфины-касатки — это люди-охотники. Они охотятся на китов, на моржей и на тюленей партиями в 8 штук, подобно тому, как и чукчи с эскимосами промышляют зверя артелями по 8 человек, и каждая артель имеет особую большую кожаную лодку-байдару. Чукчи поэтому партию касаток, завиденную в море, — а их можно отличить издали по их острым торчащим плавникам, — называют тоже большей частью лодкой касаток.
С другой стороны, те же касатки зимою выходят на сушу и становятся волками. Группа таких волков-касаток в течение зимы гоняется за чукотскими оленьими стадами и также безжалостно убивает их, как летом касатки убивают морского зверя.
Таким образом, касатки одновременно являются дельфинамиохотниками, людьми-охотниками и волками-охотниками.
Эти три вида бытия существуют одновременно и совпадают друг с другом.
На одном из чукотских рисунков, опубликованных во второй части моей монографии о чукчах, изображена такая группа касаток, которая окружила группу моржей и готовится расправиться с ними. Касатки и моржи нарисованы весьма реалистично, но каждая звериная фигура имеет внизу две черточки, которые символизируют человеческие ноги. Таким образом, касатки при своих плавниках и хвостах являются одновременно двуногими охотниками.
Мы встречаем примеры такого же перевоплощения в различных областях и видоизменениях в духовной жизни человека в сопредельных религиях.
Прежде всего нужно упомянуть обширную и странную область сновидений. В мире первобытных восприятий сновидения, сны, как известно, являются одним из главнейших источников нашего религиозного знания, можно даже сказать, религиозного опыта. Многие тео- ретики-этнографы склонны считать сновидения нашим главнейшим и единственным источником наших религиозных представлений.
Человек видит во сне духов, чудовищ, покойников, встречается с ними при разных необыкновенных условиях, улетает в далекие места, потом просыпается и видит себя на том же самом месте. Он
380
