
История Всемирной Литературы / Коллектив авторов - История всемирной литературы Т.5 - 1988
.pdf
Основное отличие позиций Руссо, как они выразились в «Исповеди», от позиций автора «Новой Элоизы» в том, что в 1761 г. он еще питал иллюзии в отношении республиканского строя Швейцарии, Женевы, полагая, что за пределами феодальной, абсолютистской Франции, вдалеке от Парижа, еще возможно гармоническое общество. Со второй половины 60-х годов и особенно с 70-х годов Руссо окончательно отказывается от своих иллюзий, хотя они у него и ранее были значительно менее прочными и устойчивыми, чем у других просветителей (он, в частности, никогда не верил в идею «просвещенного абсолютизма»).
Как бы то ни было, он утверждает теперь, что «разврат повсюду одинаков», «что ни нравственности, ни добродетели нет нигде в Европе». Он, с одной стороны, становится трезвее и реалистичнее, а с другой — склоняется к пессимизму, смотрит на все более безрадостно, являясь предшественником романтиков — Шатобриана, Сенанкура, Нодье. Трезвость, реалистичность Руссо раскрываются наиболее полно в I—IV книгах «Исповеди», а его пессимизм проявляется в VII—XII книгах «Исповеди» и в «Мечтаниях любителя одиноких прогулок».
Руссо остается верен в «Исповеди» тому пафосу свободы и независимости, тем плебейским принципам, которые пронизывали его трактаты и его «Новую Элоизу». Герой «Исповеди» особо ценит свое сердце за то, что в нем имеется «закваска героизма и добродетели», внушенная ему его родиной, Женевской республикой и Плутархом. Он находит высокой и прекрасной возможность быть свободным и добродетельным, быть выше богатства и людского мнения, т. е. мнения знатных кругов. Он «обожает» свободу, ненавидит стесненность, подчинение, нужду, ценит деньги в кошельке, лишь поскольку они обеспечивают ему независимость. Антидеспотические устремления Руссо в «Исповеди» сочетаются с презрением к салонной, дворянской культуре. Ненависть героя к тому общественному кругу, в котором ему приходится жить, поддерживается в нем постоянным ощущением пропасти, отделяющей его, как плебея, от аристократов.
Оппозиционные по отношению к существующему строю взгляды складываются у героя «Исповеди» не сразу. В первых книгах он еще мечтает изменить свое плебейское положение, подняться выше по сословной лестнице, стать секретарем посла или офицером. Постепенно, однако, он чувствует себя все более чужим существующему строю, все более далеким от него и выдвигает в противовес жизни господствующего класса, ее изощренности и напыщенности своего рода культ простого и нерафинированного существования. Не довольствуясь пропагандой строгих принципов бедности и добродетели, он пытается привести в соответствие с ними и свое положение: так, он отказывается от должности кассира главного сборщика податей, отрекается от попыток приобрести богатство и сделать карьеру.
Отрицание культуры господствующих сословий и разрыв с нею идут в «Исповеди» рука об руку с растущим сочувствием к низам общества, к крестьянству, к народу. Так, в IV книге рассказывается о том, как герой встретил крестьянина, прячущего вино от акцизных досмотрщиков, а хлеб из-за налогов. Крестьянин заронил в душу героя «семя той непримиримой ненависти» к притеснителям несчастного народа. Он выходит из дома крестьянина возмущенным и растроганным.
Ставя выше всего моральные принципы народа, герой «Исповеди» объясняет это тем, что в молодости, когда он вращался главным образом среди людей из народа, он встречал гораздо больше добрых людей, а позже, когда оказался в «более высоких кругах», стал встречать их реже. Это связано с тем, что у народа чаще всего дают о себе знать природные свойства,
142
в дворянстве же эти свойства совершенно заглушены, под личиной чувства обычно скрываются только расчет или тщеславие.
Руссо полагает, что реальная действительность формирует характер человека, его психику. Тем самым человек рассматривается писателем в «Исповеди» как функция

среды, в которой он находится. Живя в доме отца, герой «Исповеди» смел, находясь у дяди — скромен, поступив в учение к хозяину граверной мастерской, он делается запуганным, молчаливым, угрюмым. После встречи с г-жой де Варанс к нему «возвращается жар», утраченный им у гравера. Однако, демонстрируя определенные черты характера как производное среды, Руссо вносит в это положение серьезные поправки и дополнения. Он отличает в характере наклонности, свойственные натуре человека, от наклонностей, явившихся результатом воздействия на него обстановки и других людей. Он отделяет тем самым основное ядро характера, его доминанту от дополнительных черт, которые со временем появляются у человека. Руссо неоднократно рассказывает о том, как герой «Исповеди» становится иным, непохожим на себя, таким, что его можно «принять за другого человека», как он пытается преодолеть некоторые черты своей натуры, пойти наперекор самому себе. А вместе с тем он признается и в том, что герой «возвращается» к своей натуре, к самому себе, снова делается таким, каким был прежде. Когда герой попадает в Париж, он «перестает быть самим собой». Уезжая из Парижа после шестилетнего пребывания в нем, он снова становится таким, каким был прежде.
Человек, как он изображен в «Исповеди», представляется более сложным, многосторонним даже по сравнению с образом человека у Прево и Дидро. По своим потенциям характер безграничен. Природное ядро характера, рождающееся вместе с человеком и как бы независимое от обстоятельств его жизни, противостоящее им, вмещает в себя не только сложившиеся, устоявшиеся особенности, но и черты, которые проявляются во внезапно вспыхивающих эмоциях и возникающих мыслях, часто идущих вразрез с установившимся характером. Объективные обстоятельства служат только поводом к появлению этих мыслей и эмоций, основа же их лежит в доминанте характера. Герой «Исповеди», по словам ее автора, «по временам бывает так мало похож на себя, что его можно принять за другого человека с характером, прямо противоположным его собственному».
Выделяя в характере первоначальное ядро, в котором имеется нераскрытый, неисчерпаемый резерв, Руссо пролагает путь психологическому роману XIX столетия, в известной мере предвосхищая открытия и Стендаля, и Льва Толстого, и Достоевского. Он начинает учитывать огромную роль, которую играют в жизни человека всякого рода темные, не проясненные разумом, иррациональные чувства и поступки, трактовавшиеся позже, уже в XX в., как чувства и поступки немотивированные. В то же время Руссо делает первоначальное ядро характера относительно независимым от внешнего мира, который формирует в человеке только его «динамические» качества, им приобретенные и им утрачиваемые. Он сохраняет тем самым в «Исповеди» ту относительную независимость сознания от действительности, тот особый интерес к душевной жизни человека как явлению особо сложному, который присутствовал уже в «Новой Элоизе» и который во многом был неизвестен предшественникам писателя. Он прямо заявляет в «Исповеди», что произведение его имеет своей целью дать точное представление об «истории души» героя.
Интерес к другим людям и к объективной действительности совмещается в «Исповеди» Руссо с сосредоточенностью автора произведения на внутреннем мире героя. Это объясняет, почему герой легко забывает свои «несчастья», т. е. события реальной жизни, но не может «забыть» свои «ошибки», «добрые чувства», т. е. то, что являлось составными частями его «я». Он может «пропустить факты» и изменить их последовательность, но не может ошибаться ни в том, что чувствовал, ни в том, как его чувства заставили его поступить. Именно поэтому сознание, воспоминание имеют в «Исповеди» преимущественное значение, оттесняя на задний план ощущение и восприятие. Герой «Исповеди» хорошо видит лишь то, о чем вспоминает, когда удаляется от виденного, «отходит» от действительности. К нему тогда возвращается все: он помнит место, время, интонацию, взгляд, жест, обстоятельства; ничто не ускользает от него.

Если судьба в первые 50 лет жизни героя «Исповеди» покровительствует его склонностям, то в течение следующих десятилетий она идет наперекор им. Образуется постоянное противоречие между его склонностями и его положением. Герой VII—XII книг — жертва несчастий, предательства, вероломства. Его подвергают травле в Париже и других городах, его преследуют как оборотня в деревне, обрушиваются на него с церковных кафедр; у него крадут его письма, отдельные тома его сочинений, изгоняют его из Франции, из Женевы, из Берна, из Невшателя, с о-ва Сен-Пьер, разбивают стекла его дома, бросают в него камнями, когда он появляется на улицах, угрожают
143
его жизни. Он превращается в вечного отщепенца, остается один, без средств. Старый и больной, он истерзан всякого рода житейскими бурями, устал от многолетних тревог и переездов.
Внешний мир теперь представляется враждебным герою. За ним неотступно следят. Герой уверен, что даже потолки над ним имеют глаза, а стены — уши; он окружен шпионами и соглядатаями. Внешний мир, как он показан во второй половине «Исповеди», утрачивает ясность и отчетливость очертаний, окутан для него «тьмой черного дела». Герой ощущает себя во власти тьмы и именно поэтому так боится потемок, страшится мрака. Его окружает и тревожит тайна, в которой ему лишь много времени спустя удается кое-что различить. Эта враждебность и, главное, непознаваемость действительности утрачивают здесь прежде всего свой социально-исторический смысл: против героя обращен не феодальный мир, а мир вообще. Тем самым психологизм трансформируется, утрачивает свою реалистическую основу. Это намечается уже во второй половине «Исповеди», но становится особенно заметным в «Мечтаниях любителя одиноких прогулок», написанных Руссо в последние годы жизни.
В этой книге сохраняется и даже сгущается атмосфера заговора и преследований, усиливается мотив одиночества. Герой «Мечтаний» чувствует себя на Земле, как на чужой планете, без ближнего, без друга, без собеседника. Люди представляются ему чужими, незнакомцами, он видит в них лишь «движущиеся массы», лишенных каких-либо «нравственных начал».
Прославление одиночества сочетается с отказом от мечты о счастливом будущем всех людей. На месте мечтаний об общем благе оказывается теперь мысль об обособленном счастье. Ранее герой обладал общительной душой. Теперь он отстраняется от других, но не забывает о себе. Ранее одинокие прогулки казались герою нелепыми и скучными. Теперь они приводят его в восхищение. Только отказавшись от общественных устремлений, он в полной мере обрел природу со всеми ее «чарами».
Руссо «Новой Элоизы» и «Исповеди» противополагал своего героя с его интенсивной душевной жизнью феодальному, абсолютистскому обществу. Герой «Мечтаний» становится отшельником, мизантропом, ненавидит людей всех сословий. Природа, самая дикая, оказывается милее для него, нежели общество злых людей, которое исполнено ненависти и предательства. Под сенью лесов он забыт, свободен, спокоен, словно других людей больше не существует. Он видит в одиночестве естественную основу своего отношения к миру. Враждебное окружение становится для него по существу безразличным. В этом отличие «Мечтаний» от последних книг «Исповеди». Он сосредоточен на самом себе и на своем внутреннем состоянии в пределах настоящего времени, даже без воспоминаний о прошлом и мечтаний о будущем.
Не менее существенно, что это чувство полной удовлетворенности, лишенное именно поэтому привкуса трагичности, порождаемое целостным, неаналитическим восприятием внешнего мира, протекает, как замечает сам автор «Мечтаний», без всякого «действенного участия души». Герой пассивен, позволяет своим мыслям и ощущениям течь беспрепятственно и непринужденно, как бы отдается во власть своих представлений. Отказ от аналитического восприятия действительности приводит к преобладанию иррационального. Герой «Мечтаний» недаром говорит о бессознательных движениях
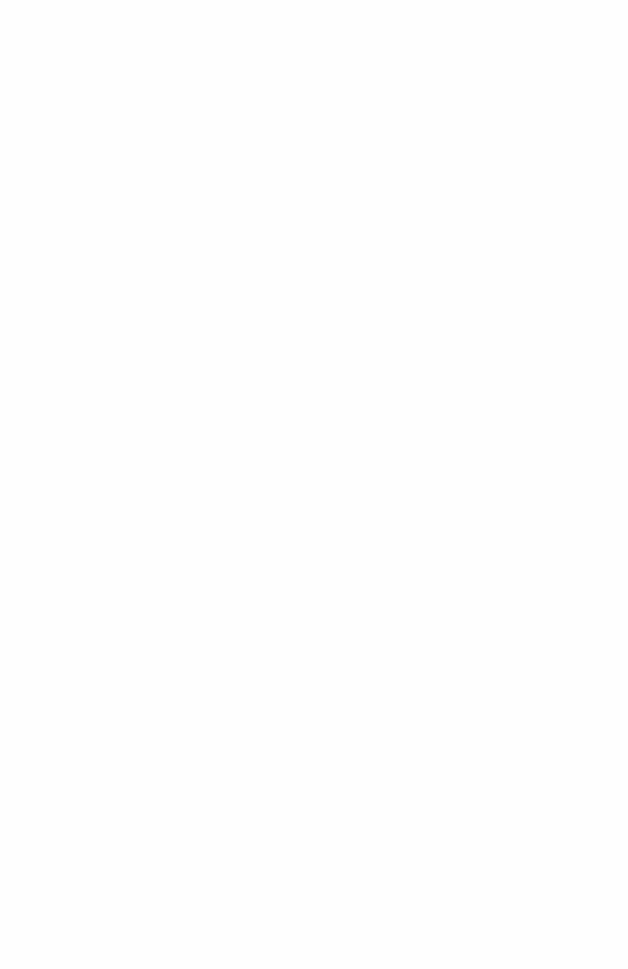
своего сердца; он лениво блуждает по лесам и горам, «не смея мыслить», «не давая себе труда мыслить», только ощущая свое существование.
«Новая Элоиза» и первая половина «Исповеди» сосредоточивают в себе все наиболее передовые и революционные стороны руссоизма, наметившиеся уже в ранних трактатах, в «Эмиле» и в более позднем трактате — «Общественный договор». Руссо предстает здесь прежде всего как гражданин, предшественник якобинцев, Робеспьера и Сен-Жюста, не скрывающий своей ненависти к «старому режиму», мечтающий о демократической республике, о новом человеке, который будет создан новой системой воспитания.
Вторая половина «Исповеди» и «Мечтания любителя одиноких прогулок» концентрируют
всебе иные стороны руссоизма, связанные с его особым положением в общественной борьбе Франции XVIII в.
В силу своей политической агрессивности и своего радикализма руссоизм содействует победе буржуазии в революции, как это показала якобинская диктатура, но наряду с этим
внем культивируется психологическое начало, оторванное и отрешенное от реальности, и
— более того — намечаются поиски помощи за пределами материального мира, у бога, в религии. Эта двойственность учения Руссо сказывается и за пределами творчества самого писателя.
Влияние Жан-Жака Руссо было решающим для большого круга писателей во французской и мировой литературе XVIII в. не только в 70—80-х годах столетия, но и позднее, в десятилетия господства романтизма. Понятие «руссоизм» охватывает широкий круг явлений, связанных
144
с мировоззрением и творчеством Руссо. Но чаще всего оно употребляется как синоним сентиментализма.
144
РАЗВИТИЕ СЕНТИМЕНТАЛИЗМА. МЕРСЬЕ. БЕРНАРДЕН ДЕ СЕН-ПЬЕР
(Обломиевский Д.Д.)
Во второй половине века развитие французской прозы, и в частности романа, происходит под сильнейшим воздействием Руссо, т. е. в рамках сентиментализма. Для этого направления, как известно, характерен своеобразный «культ чувства», выражающийся не столько в его противопоставлении разуму, сколько в повысившемся интересе к личности, в ее обусловленности окружающей средой, в том числе и миром природы.
Среди произведений, имеющих отношение к сентиментализму или во всяком случае им затронутых, следует отметить прежде всего пьесы, романы и очерки Мерсье, созданные в 70—80-х годах произведения Ретифа де ла Бретона, а также повесть Бернардена де СенПьера «Поль и Виржини» (1787).
Широкую популярность Луи-Себастьяну Мерсье (1740—1814) принесли в первую очередь пьесы «Дезертир» (1772), «Бедняк» (1772), «Судья» (1774), «Тачка уксусника»
(1775) и др.
Мерсье продолжает в своих драмах традиции театра Дидро, его установку на изображение людей, не принадлежащих к верхам общества. Он снимает вслед за Дидро комедийную, принижающую окраску с образа положительного героя, демонстрирует, как и Дидро, повседневную обыденную жизнь, далекую от чрезвычайных происшествий. Но существенно и отличие Мерсье от Дидро. Дидро видел новых людей, освободившихся от предрассудков старого режима, среди представителей буржуазии, он считал еще буржуазию не чуждой народу; он или сталкивал своих новых людей прямо со сторонниками абсолютной монархии, или видел в них борцов против пережитков прежнего общественного сознания. Мерсье, выдвигая новых людей, подчеркивая их душевную мягкость и человечность, их скромность и трудолюбие, имел при этом в виду, как ученик и последователь Руссо, уже не буржуазию, а низы третьего сословия. Так, в

центре «Тачки уксусника» стоит Доминик, сын мелкого торговца уксусом, в центре «Бедняка» — ткач Жозеф и т. д. Антагонисты центральных персонажей пьес Мерсье уже не всесильные деспоты и даже не люди, связанные с абсолютной монархией и обладающие, как командор д‟Овиле у Дидро, властью. Они превосходят героя только своим богатством. Так, противником Жозефа в «Бедняке» является де Люс, богатый, избалованный молодой человек, хотя и происходящий из крестьян. В «Тачке уксусника» аналогичную сюжетную функцию исполняет богатый буржуа Жюллефор.
Сентиментализм Мерсье проявляется прежде всего в том, что в его пьесах большую роль играет мотив «морального разоружения» противника. Писателю представляется, что каждый человек доступен нравственному, духовному перерождению, может быть переубежден и возвращен на «путь истины». Именно такой путь от злодея к положительному персонажу совершает у Мерсье де Монревель из «Судьи» и де Люс из «Бедняка».
Сентиментализм, определяющий самую суть пьес Мерсье, оказывается существенным и для других его произведений — для романов «Дикарь» (1767) и «2240 год» (1770). В первом из них рассказывается о жизни в девственных лесах Америки до прихода колонизаторов, прославляется мудрость природы; самое существование индейцев представляется как своего рода земной рай. Свой второй утопический роман Мерсье посвящает описанию страны свободных земледельцев, владеющих небольшими участками земли; здесь повествуется о городах-садах — о жизни, близкой к природе. Мерсье излагает здесь и систему воспитания, очень напоминающую идеи Руссо (выраженные в романе «Эмиль»). Но главное в романе не изображение этой блаженной страны, а критическое обозрение всех сфер жизни современной писателю Франции, а также некоторые смелые социальные прогнозы, показывающие, что Мерсье не идеализирует и буржуазное будущее своей страны. Интересом к простому человеку примечательны и «Картины Парижа» (1781—1788). Писатель изображает нравы столицы накануне гигантского общественного перелома, и его приближение явственно ощущается в тех непримиримых контрастах, которые Мерсье не просто подмечает в своих бытовых зарисовках, но подчеркивает их, заостряет на них внимание, предчувствуя, что они чреваты мощным взрывом. «Картины Парижа» Мерсье были ранним этапом в формировании традиций реалистического очерка.
В русле сентиментализма создаются и произведения Никола Ретифа де ла Бретон (1734— 1806). Сюда относится прежде всего его роман «Развращенный крестьянин» (1775), который рассказывает о столкновении городской цивилизации с «естественным» человеком, о том, как крестьянский юноша, неискушенный и проникнутый патриархальными представлениями, приезжает в Париж и попадает под влияние городской культуры. Она развращает его, ввергает его в круговорот страстей и делает его преступником.
145
Выдающимся произведением французского сентиментализма является «Поль и Виржини» Жака-Анри Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814), повесть, опубликованная накануне революции, в 1787 г. Действие ее происходит за пределами Франции, на острове Иль де Франс, затерянном в Индийском океане, в обстоятельствах, коренным образом отличных от феодального строя метрополии. Характеры Поля и Виржини складываются в условиях «естественного состояния», не омраченного ни сословными различиями, ни богатством, ни праздностью. Это состояние основано на всеобщем равенстве (причем им пользуются и оба негра-невольника, выведенные в романе), а также на труде, в котором принимают повседневное участие не только негры, но и мать Виржини, эмигрировавшая из Франции, потерявшая мужа, оставшаяся без средств, и мать Поля, сама происходящая из крестьян, и центральные персонажи повести. Поль и Виржини являются у Бернардена де Сен-Пьера идеальными героями, свободными от пороков цивилизованного общества, от тщеславия и корысти, не знающими сословных дистанций и предрассудков.

Необычные обстоятельства жизни героев повести раскрываются не только через призму их характеров, но и непосредственно — через пейзажи, описания девственной природы острова, могучей его растительности, его птичьего царства, через панораму заходящего солнца, в котором птицы видят «вторичный приход зари» и картины приближающегося урагана. Эти картины и панорамы составляют фон, на котором протекают переживания действующих лиц повести. Впечатления от окружающей тропической природы являются спутниками их детских лет, их возникающей влюбленности, их прощания, одиночества Поля, покинутого Виржини, уехавшей во Францию, их встречи, их гибели.
Выбором необычных обстоятельств, в которых живут с детства Поль и Виржини, подчеркивается невозможность появления подобных героев в самой Франции. В этом косвенно проявляется осуждение сословного строя, господствующего в метрополии, осуждение, которое поддерживается прямой критикой общественных отношений Франции, развернутой в речах Старика. От имени Старика, свидетеля и участника событий, составивших сюжет «Поля и Виржини», ведется и повествование. Старик рассказывает, как появилась на острове мать Виржини, как она встретилась с Маргаритой, матерью Поля, как родилась Виржини, как Виржини и Поль выросли, как они полюбили друг друга, как они расстались и погибли. Старик, впрочем, не только сообщает о событиях, происшедших на острове, он является и философом, размышляющим о судьбах Франции, об изменениях ее государственного строя, о королях, вельможах, о всеобщей продажности, положении в обществе безродных людей и простолюдинов, об участи таланта при сословном строе.
Отношения между Полем и Виржини, основанные на чувстве любви, которая охватывает их постепенно и которую они сами сначала не сознают, не изолированы у Бернардена де Сен-Пьера от большого мира, окружающего остров, от Франции. Этот большой мир вторгается в их жизнь то в лице богатой бездетной тетки, которая призывает к себе Виржини, обещая завещать ей свое огромное состояние, то в лице губернатора острова и духовника, которые уговаривают мать Виржини отправить девушку во Францию к тетке и тем составить ее счастье, то в лице самой этой матери, в которой еще не преодолены предрассудки знатности и богатства. Она боится оставить свою дочь в бедности, не до конца доверяет Полю, бедняку и крестьянину. Ей представляется недостаточной полнота счастья, которую испытывают в условиях естественного состояния сами Поль и Виржини, ибо для них не существует других форм жизни.
И сила повести именно в том, что она не завершается благополучной развязкой, идиллией, браком. Соблазны богатства и знатности сначала обрекают Поля и Виржини на разлуку, а затем приводят их к гибели. Идиллия оказывается непрочной, для нее нет реальных оснований в действительности, она обречена и потому оборачивается трагедией.
Именно отсюда вытекают пессимистические мотивы, столь существенные для мировосприятия Бернардена де Сен-Пьера, ощущение им бренности всего существующего, бесперспективности исторического развития человечества, ибо это развитие представляется ему нисходящим. Отсюда же — и религиозность писателя: бог недаром оказывается для него единственным покровителем человека, религия — единственным оплотом против вопиющей несправедливости социального строя.
145
ШОДЕРЛО ДЕ ЛАКЛО (Обломиевский Д.Д.)
Особое место в прозе конца века принадлежит роману Пьера-Амбруаза Шодерло де Лакло (1741—1803) «Опасные связи» (1782). Эта книга не укладывается в рамки

сентиментализма; в ней сильны тенденции реалистического отражения действительности. «Опасные связи» — это роман в письмах, по своему жанру явившийся дальнейшим развитием повествовательных приемов Ричардсона и Руссо. Мы имеем дело в «Опасных связях» не столько с рассказом о событиях,
146
сколько с предположениями о будущих событиях, с жизненными планами героев или с последующим анализом этих событий. Душевные переживания, связанные с планированием событий или с воспоминанием о них, составляют в первую очередь содержание романа.
Поскольку в «Опасных связях» всегда на первом плане то или иное состояние души человека, многие персонажи изображаются в романе совершенно так же, как герои в романах Ричардсона или Руссо — не такими, каковы они на самом деле, а такими, какими они представляются другим. Это придает своеобразную объемность. Так, Вальмон то таков, каким рисуется президентше де Турвель, судя по ее письмам к г-же де Воланж, то таков, каким воображают его себе Сесиль де Воланж и кавалер Дансени в их письмах, то близок к тому, каким хочет казаться маркизе де Мертей, и т. д. Это или раскаявшийся соблазнитель, или «истинно любезный» человек, делающий все для других, человек необыкновенный, обладающий «добрым сердцем», или лживый и опасный распутник, бесчестный и преступный, жестокий и злой, или, напротив, существо в конечном счете слабое, пытающееся перехитрить других, но само попадающее в конце концов в капкан. Двоится, троится и образ маркизы. То она такая, какой она представляется Дансени и Сесили, то такая, какой видит ее г-жа Воланж, рассказывающая о ней президентше, то такая, какой она видится себе самой, о чем свидетельствуют ее письма к Вальмону, которому она рассказывает историю своей жизни.
Другой существенной особенностью романа, тесно связанной с традициями сентиментализма, является резкое отличие в нем персонажей, переживания которых наиграны, неискренни, от тех, чьи чувства подлинны. Первые играют роль, надевают на себя маску. Вторые выражают то, что действительно чувствуют и сознают. Письма первых передают лишь сконструированные состояния души, в письмах вторых мы находим действительные, на самом деле существующие чувства и страсти. К первым персонажам относится виконт де Вальмон, соблазнитель молодой девушки Сесиль де Воланж и замужней женщины — президентши де Турвель; а также маркиза Мертей, вдохновляющая его на эти поступки, убеждающая его посмеяться над президентшей, соблазнить, а затем изменить ей на ее глазах, думающая, как бы отомстить будущему мужу Сесиль графу де Жеркуру, который когда-то покинул маркизу. Вторую группу персонажей составляют сама президентша де Турвель, полная набожных, добродетельных чувств, видящая в Вальмоне раскаявшегося грешника, а в самой своей любви к нему заботу о его душе, а также Сесиль и кавалер Дансени, которые оба любят друг друга чисто
инеиспорченно, без всякой задней мысли, без попыток кого-либо обмануть, совратить или кому-нибудь отомстить. Сесиль недаром представляется маркизе глупой и простодушной, а в Дансени виконт де Вальмон видит человека чересчур нерешительного
исовестливого.
Дансени уделяет очень много места рассказу о своем чувстве. Он горячо любит Сесиль, беспокоится о ней, тревожится, думает о ней беспрестанно. В то же время Вальмон, повествуя в письмах о своих любовных предприятиях, ведет о них рассказ в стиле военных реляций, сообщая о том, например, как президентша де Турвель прислала ему «план капитуляции», как сам он «вынудил противника принять бой», добился преимущества в выборе места сражения и диспозиции, сумел усыпить бдительность врага, чтобы застать его врасплох, смог, обеспечив себя надежной базой, укрыться в ней и сохранить все ранее завоеванное. Он вспоминает, информируя маркизу де Мертей о своем любовном поединке с президентшей де Турвель, о Тюренне, о Фридрихе, о Ганнибале. Что касается маркизы де Мертей, она в письмах к Вальмону более всего говорит не о том,
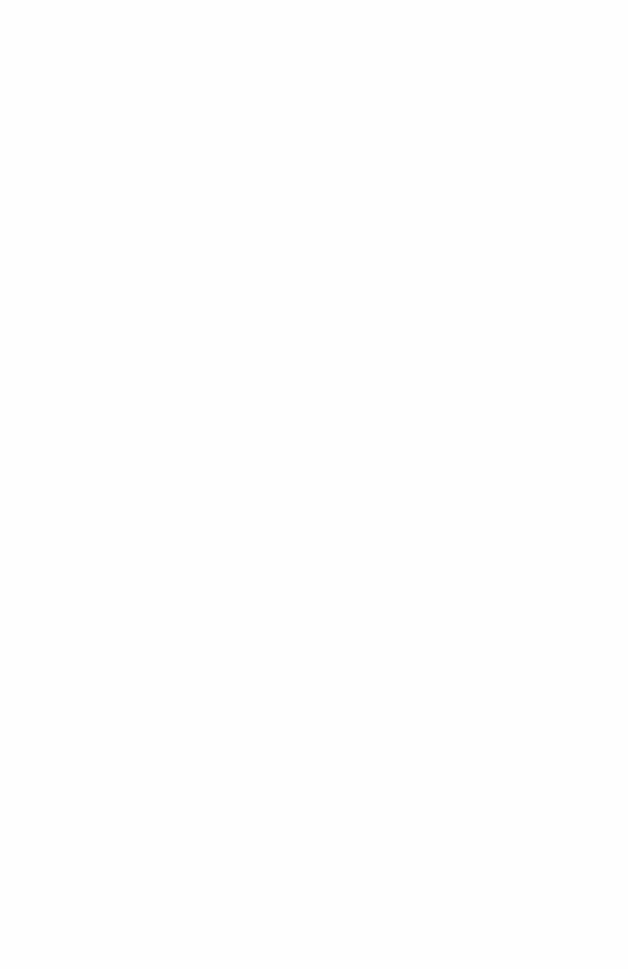
что она чувствует, а о своих планах мести, о замыслах, намерениях, о своем вмешательстве в душевную жизнь других людей. Она рассказывает, например, о том, как она сделалась госпожой ума и сердца Сесили, как она вскружила ей голову, посеяла в ее душе сомнения. Сообщая о своем поведении, маркиза все время подчеркивает расхождение между подлинными своими настроениями и тем, как она представляется другим. Она делает вид, что согласна с аргументами Сесили, тогда как на самом деле думает совсем иначе. Она испытывает удовольствие, появляясь перед окружающими в различных обликах. Она скрывает от окружающих свои истинные побуждения и чувства. Так, если она испытывает печаль, то старается принять вид беззаботный и даже радостный.
Подчеркивая различие между персонажами типа маркизы де Мертей и персонажами, вроде кавалера Дансени, Лакло показывает при этом конечное поражение рассудочного, рационального, победу природной страсти даже у таких героев, как маркиза и виконт. В этом и сказывается сентименталистский аспект романа, подчеркивающий примат чувства над разумом, чистоту природы и испорченность цивилизации.
Очень характерно в этой связи, что даже хитроумный Вальмон влюбляется в конце концов в президентшу де Турвель, которую так долго старался покорить, попадает в ловушку, им же самим расставленную. И только под влиянием
147
маркизы, которая возбуждает в нем чувство оскорбленного самолюбия, он преодолевает свою любовь, фактически насмехаясь над президентшей, изменяя ей на ее глазах с куртизанкой. Аналогичный процесс обнаруживает Лакло и у маркизы де Мертей. Она очень много рассуждает о роли сознания в жизни, строит все свое поведение, подчиняя его рассудку. Но и она оказывается в конце концов во власти бессознательного чувства и, забыв обо всем, ревнует Вальмона к президентше.
Очень важно, что в своем представлении о мире Лакло в целом исходит из социальных критериев. Проводя резкую дифференциацию героев, распределяя их как бы по двум категориям, Лакло кладет в основу различия между ними разграничение двух сфер в обществе, двух социальных кругов, к которым принадлежат эти персонажи. Маркиза де Мертей и виконт де Вальмон — это представители богатого дворянства, аристократии. Президентша де Турвель относится к буржуазии, близок ей и кавалер Дансени, не обладающий ни чинами, ни богатством, ни особой знатностью. Сесиль де Воланж, правда, по своему происхождению принадлежит к знатному и богатому дворянству, но она еще не относится к власть имущим, находится в подчинении у своей матери, г-жи де Воланж.
«Опасные связи» кончаются катастрофой, действие приводит большинство персонажей или к гибели, или к несчастью, причем погибают, терпят поражение и отрицательные, и положительные действующие лица. На дуэли погибает виконт де Вальмон, застреленный Дансени. Маркиза де Мертей, разоблаченная в своих преступных замыслах и деяниях общественным мнением, кончает свои дни за границей, всеми забытая. В то же время г-жа де Турвель, соблазненная в конце концов де Вальмоном и покинутая им, тяжело заболевает и умирает, а Сесиль де Воланж, обесчещенная Вальмоном, уходит в монастырь. Дансени разделывается на дуэли со своим соперником Вальмоном, но оказывается также в числе потерпевших поражение, утратив навсегда Сесиль. Судьбы де Вальмона и де Мертей показывают, что отрицательное начало, связанное со старым режимом, уже не так сильно, чтобы безраздельно, до конца торжествовать над добром. Зло в романе наказывается. И вместе с тем носители положительного начала — г-жа де Турвель, Дансени и Сесиль — еще недостаточно сильны, чтобы полностью одержать победу над злом.
147
БОМАРШЕ (Обломиевский Д.Д.)
Жизнь Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732—1799) напоминает приключенческий

роман. Истинный сын века, он в труднейших условиях предреволюционной Франции проявил необычайную энергию, предприимчивость и политический ум. Сын часовщика, начавший свою карьеру простым ремесленником, он проник ко двору, разбогател, был инициатором крупных политических и финансовых операций. Он снабжал оружием восставшие американские колонии, оказывал давление на короля в целях признания только что созданных Соединенных Штатов Америки; в Испании он предлагал организацию торговых компаний по эксплуатации богатств Южной Америки, во время революции закупал оружие для французской революционной армии.
Иллюстрация: П. О. Бомарше
Портрет Ж.-М. Наттье. 1755 г. Париж. Частное собрание
Столкнувшись с вопиющей несправедливостью французского королевского суда, Бомарше предал гласности известные ему факты и свидетельские показания, опубликовав в нескольких выпусках «Мемуары» (1773—1774). В историю литературы они вошли как блестящий образец просветительской публицистики. Сила и убедительность «Мемуаров» была не только в их документальности, неопровержимости подробно
148
изложенных фактов, но и в мастерстве полемики, которую писатель ведет с судейскими крючкотворами. Выпукло представлены портреты судьи, его жены, которая брала взятки за своего мужа, и других участников скандальной судебной истории. Высмеивая и разоблачая компанию мелких мошенников, Бомарше подрывал авторитет судебной системы и всего общественного строя, создавшего эту «систему».
«Мемуары» сразу принесли их автору большую литературную славу и громкую популярность смелого борца в лагере просветителей.
К одному из самых значительных явлений французской литературы второй половины века относится театр Бомарше, и прежде всего комедия «Женитьба Фигаро», созданная в 1784 г., т. е. за пять лет до революции. Подлинное значение переворота, произведенного Бомарше, станет ясным, если рассматривать его творчество как итог развития комедии во Франции на протяжении XVIII в.
Французскую комедию этого времени во многом характеризует освобождение от сатирических, обличительных свойств, что особенно существенно для произведений Детуша, который, как правило, рисует перевоспитание персонажа, освобождение его от причуды, страсти, показывает, как он постепенно становится менее опасным и вредным.
Бомарше в своих произведениях — и в первой комедии, «Севильский цирюльник» (1775), и в ее продолжении, в «Женитьбе Фигаро», — прежде всего восстанавливает сатирическую направленность комедии Мольера. Комические свойства характеров его отрицательных персонажей (графа Альмавивы, доктора Бартоло, Дона Базилио) трактуются не как биологические свойства, а как черта, во многом социальная; в то же время их носители оказываются не способны к перевоспитанию, к перестройке.
Если такие комедиографы, как Детуш, притушевывали характер отрицательного героя, то Бомарше, допускавший некоторое его смягчение в первой своей комедии, толкует его в «Женитьбе Фигаро» (образ Альмавивы) исключительно в отрицательном плане, восстанавливая тем самым жанр сатирической комедии.
Но Бомарше не ограничивается восстановлением традиций Мольера, частично утраченных у Реньяра и особенно у Детуша. Он пытается углубить Мольера в том отношении, что делает Фигаро (во второй части трилогии) не просто врагом графа Альмавивы, но и его политическим противником. Граф Альмавива держит в руках всех остальных героев комедии — и Фигаро, и Розину, и Сюзанну, и Керубино — как хозяин, как муж, как феодал, как верховный судья провинции. Бомарше сталкивает своего героя Фигаро не просто с дурным нравом хозяина, не только с соперником, ухаживающим за Сюзанной, невестой героя. Для него важно, что Альмавива принадлежит к господствующему классу феодального общества, что он выступает в борьбе против Фигаро в качестве помещика, собирающегося воспользоваться феодальным правом

«первой ночи».
Следует отметить отчетливый оптимизм комедии, не связанный с примиренчеством или с преуменьшением трудностей и препятствий. Оптимизм комедии Бомарше выражается прежде всего в том, что всемогущий граф Альмавива, казалось бы, непреодолимое препятствие на пути героя, на самом деле человек более слабый, чем все остальные персонажи, объединяющиеся к тому же против него в единый коллектив и действующие согласованным фронтом. Альмавива, представитель умирающего, дряхлеющего сословия, уступает многим из них в уме и сообразительности. Бомарше рисует его непрерывно одураченным. «Старый режим», олицетворением которого является Альмавива, изображен у Бомарше ослабленным, деградировавшим, уже неспособным сопротивляться общественным силам, идущим ему на смену. Слабость Альмавивы заметна, впрочем, уже в «Севильском цирюльнике». То, что граф женится на девушке из буржуазной семьи, которую он первоначально не собирался сделать своей женой, уже является поражением Альмавивы. Второе поражение графа составляет основное содержание «Женитьбы Фигаро». И оно является на этот раз окончательным.
Оптимизм «Женитьбы Фигаро», как бы предвещающий крушение «старого порядка» и победу революции, находит свое выражение не только в истории графа Альмавивы. Он еще отчетливее проявляется в образе самого Фигаро. Любопытен уже самый факт, что на месте центрального героя комедии здесь оказывается цирюльник, который затем становится слугой, т. е. человек, лишенный знатности и богатства, не обладающий никакими привилегиями, не относящийся ни к дворянству, ни к буржуазии. Бомарше заставляет вспомнить о слугах в комедиях Мольера, вроде Маскариля, Скапена, Туанеты, Дорины, — персонажах, которые вели действие и организовывали его, а также о Реньяре и его «Единственном наследнике», в котором направляющая роль также принадлежала слуге. В то же время, в отличие от Мольера и Реньяра, Бомарше не только поручает Фигаро ведение драматической интриги, но и делает его центральным персонажем произведения. Фигаро уже не помощник своего господина, графа Альмавивы, для которого он осуществлял многочисленные проделки в «Севильском
149
цирюльнике», комедии в этом отношении более традиционной. Так же как лесажевские слуги Криспен и Фронтен, Фигаро проявляет во второй комедии Бомарше максимум изобретательности и находчивости для построения своей личной, а не чужой судьбы.
И вместе с тем Бомарше освобождает Фигаро от черт буржуазного перерождения, основательно затемнявших образы Фронтена и Криспена, одержимых жаждой наживы. Он заставляет Фигаро добиваться в первую очередь не состояния, а жены. Цель его желаний не богатство, а женитьба на Сюзанне, и он ведет с Альмавивой длительную борьбу за девушку, используя в этой борьбе различные средства.
Фигаро совсем не случайно выступает во второй комедии Бомарше, если судить по речам Марселины, прежде всего «щедрым человеком», который не заботится о будущем. Он обладает слишком широкой натурой для того, чтобы только копить деньги или строить карьеру. Это в первую очередь жизнерадостный, полный буйного веселья человек. В ней воплотились черты всего третьего сословия, готовящегося к схватке с абсолютизмом.
Та же тема борьбы с абсолютизмом раскрывалась иными средствами и в другом жанре — тексте оперы «Тарар», написанной почти одновременно с «Женитьбой Фигаро» (1784, музыка Сальери). В остроконфликтной драме с условным сюжетом антагонистически противостоят два героя: царь Атар, деспот, жестокий и необузданный, и Тарар, солдат, прославившийся доблестью и честностью. В финале Тарар одерживает верх над кознями Атара и «народ его избирает царем».
Условно восточным колоритом и остро поставленной проблемой власти драма Бомарше близка вольтеровской трагедии, но счастливый финал, венчающий оперу, придает ей особый поворот, многозначительный в канун революции.
В революционные годы Бомарше завершает свою трилогию о Фигаро. Однако
