
История Всемирной Литературы / Коллектив авторов - История всемирной литературы Т.5 - 1988
.pdf
своему осваивал природу. Гейнзе также отвергает тезис Винкельмана о «спокойном величии» античного искусства, его сравнение с морем в состоянии покоя. «Для моря, напротив, естественнее всего движение, и уж, конечно, оно красивее в бурю, чем в штиль», — читаем мы в «Ардингелло». Одним из первых среди немецких теоретиков Гейнзе отмечает пагубное влияние церкви, державшей в зависимости художников Возрождения. И Гейнзе делает отсюда вывод в духе штюрмеровской эстетики: «Гений живет в стихии свободы, и кто хочет оказывать ему поддержку, должен прежде всего предоставить ему свободу. Всякое принуждение теснит и гнетет природу, и она не может тогда проявиться во всей своей красоте».
222
МОЛОДОЙ ГЕТЕ
С движением «Бури и натиска» связан один из самых ярких этапов в творчестве великого поэта и мыслителя — Иоганна Вольфганга Гете (1749—1832). Именно ему, стоявшему во главе «рейнских гениев», дано было создать выдающиеся художественные произведения, завоевавшие мировое признание. Творческие усилия молодого Гете и — несколькими годами позднее — молодого Шиллера придали особый вес эстетическим открытиям «Бури и натиска» и сделали их известными далеко за пределами Германии.
На ранних лирических и драматургических опытах Гете (Лейпциг, 1765—1768) лежит отпечаток
223
влияния анакреонтики («Крик», «Брачная ночь», драма «Капризы влюбленного», 1768) —
вэти годы поэт еще находится в поисках самостоятельного пути. Когда историки литературы говорят о молодом Гете, то они имеют в виду пятилетний период, начавшийся
вСтрасбурге (апрель 1770) и закончившийся переездом в Веймар по приглашению саксенвеймарского герцога (ноябрь 1775). Это годы феноменально быстрого раскрытия дарования поэта.
Уже в Страсбурге (где он прожил до августа 1771 г.) он поражает своих сверстников смелостью замыслов, богатством дарования, самостоятельностью творческих решений. «Красивый 25-летний юноша, с головы до пят воплощение гения, силы, мощи, сердце полное чувства, дух полный огня, с орлиными крыльями», — писал о нем Гейнзе в 1774 г. В Страсбурге Гете встречается с Гердером, увлеченно воспринимает многие из его новаторских идей — историзм, концепцию национальной культуры, интерес к Шекспиру. В ряде статей начала 70-х годов он развивает идеи, близкие гердеровским. Критически оценивая современную ему немецкую литературу, Гете видит главную ее слабость в том, что ей недостает национального содержания. Как и другие штюрмеры, он порицает нормативную эстетику и принцип подражания. В одной из программных статей — «О немецком зодчестве» (1773) — Гете прославляет немецкую готику, видя в ней одну из плодотворных национальных традиций, и с уважением называет имена немецких мастеров эпохи Возрождения. Речь «Ко дню Шекспира» (1771) — наиболее полное выражение культа великого английского драматурга, утверждавшегося в период «Бури и натиска». Гете поражается мастерству создания Шекспиром характеров: «Да, Шекспир соревновался с Прометеем! По его примеру, черта за чертой, создавал он своих людей, но
вколоссальных масштабах... и затем оживил их дыханием своего гения». По словам Гете, именно характеры, созданные Шекспиром, остаются камнем преткновения для сторонников классицизма. Величие этих характеров Гете видит в их глубокой жизненности: «...природа, природа! Что может быть больше природой, чем люди Шекспира». Глубокий интерес к Шекспиру Гете сохранил на протяжении всей своей жизни, о чем свидетельствуют романы «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» и «Годы учения Вильгельма Мейстера», а также статья «Шекспир и несть ему конца» (1813—1816). Обращаясь к Шекспиру, Гете отнюдь не призывал во всем следовать
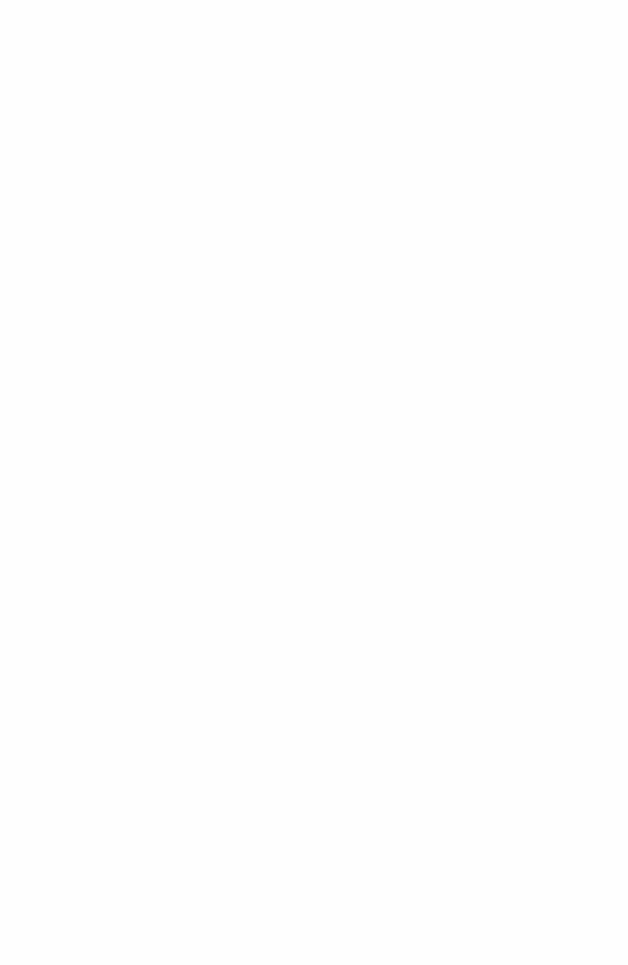
примеру английского драматурга. Поэт ставил конкретные задачи перед немецкой литературой своего времени, решение которых было уже подготовлено выдающимися просветителями XVIII в., и прежде всего Лессингом. Высоко оценивая драму Лессинга «Минна фон Барнхельм», Гете видит особое достоинство в ее близости к жизни.
Заслуживают внимания и те признания, которые делает Гете позднее в своей автобиографии относительно воздействия на него в юные годы французского Просвещения. Штюрмеры не принимали материализма французских энциклопедистов. Гете говорил, что «Система природы» Гольбаха разочаровала его, ибо, по его мнению, в этой «скучной атеистической полутьме» исчезли и земля и небо. Он порицает в этой философии «метафизику», этим термином поэт обозначает умозрительность, схематизм представлений, и противопоставляет ей «живое знанье», как это полнее всего выражено в истории стремлений и борьбы Фауста. Однако скептическое отношение к французскому материализму не отражается на его высокой оценке Дидро, имя которого он называет в одном ряду с Руссо: «Они направляли нас, заставляли нас держаться ближе к природе». Таким образом, немецкий поэт отмечает у Дидро и Руссо не столько то, что их разделяет, сколько то, что объединяет — их роль в борьбе за сближение искусства с жизнью.
Диапазон эстетических исканий молодого Гете необычайно широк. Преодолевая влияние анакреонтики, он обращается к разным традициям, как немецким, так и иноземным. Внимание поэта привлекает национальная самобытность Ганса Сакса. Гете даже пользуется его излюбленным стихом, так называемым книттельферсом.
В жанре оды он продолжает Клопштока, но еще в большей степени стремится усвоить тон и поэтическую манеру Пиндара, своеобразно сочетая мифологические образы и возвышенную лексику со штюрмеровской эмоциональностью и руссоистским восприятием природы («Песнь странника в бурю»).
Обогащенный разными литературными традициями, Гете-поэт обретает свою собственную неповторимую интонацию. Покоряющей была задушевность и простота его любовной и пейзажной лирики, его застольных песен. Впервые в немецкой поэзии были найдены безыскусные и в то же время емкие и точные слова, чтобы передать национальный колорит природы, взволнованно рассказать о человеческой жизни, отразить мысли и настроения охотника, путника на дороге.
Лирика молодого Гете покоряет ренессансным полнокровием, светлым, жизнерадостным мироощущением.
224
Как эту радость В груди вместить! —
Смотреть! и слушать! Дышать! и жить!
(«Майская песня». Перевод Л. Глобы)
Драматические опыты Гете-штюрмера предстают прежде всего как памятники его настойчивых, беспокойных исканий. «Одержимым» называл его друг Ф. Якоби. Гете переходит от одного замысла к другому, пробует перо в разных драматических жанрах, ищет героев во всех эпохах, легендарных и исторических (Прометей, Цезарь, Магомет, Бомарше), пишет масленичные действа в духе Г. Сакса, пародии, шутки, сатиры в драматической форме.
Активно не приемля окружающего убожества, Гете ищет настоящего героя, с характером и волей к действию. В монологе из неоконченной драмы (1773) его Прометей непокорен, бесстрашен, исполнен достоинства. Но Гете передает не только пафос сопротивления и борьбы, но и величие созидательных усилий. Его Прометей — творец, созидатель, мастер: «Здесь сижу я, людей ваяю, по своему подобию, род равный мне: чтобы страдать и плакать, наслаждаться и радоваться — и Зевсом пренебрегать, как я!».
В поисках героя поэт приходит к легенде о чернокнижнике XVI в. Фаусте. Ранний вариант «Фауста» (1773—1775), так называемый «Прафауст», многообразно отразил атмосферу «Бури и натиска», в которой он создавался. Штюрмеровским пафосом проникнут первый

монолог Фауста — непримиримо-страстное отрицание им мертвой схоластической науки. Дерзкая попытка Фауста заявить о себе как о равном Духу земли и трагическое ощущение беспомощности перед титанической мощью непостижимой Природы — это одна из тех коллизий, которые волновали «бурных гениев». В этом эпизоде концентрированно передан трагический аспект штюрмеровского бунта, так, как он выражен у Клингера и у молодого Шиллера.
Конфликт между Фаустом и Мефистофелем не стал еще основным в драме, не было «Пролога на небесах», не было сцены договора, определяющих философский смысл окончательного варианта первой части. На первом плане оказалась история Маргариты. Но популярная у штюрмеров тема получила в «Прафаусте» совершенно иную трактовку. Героини Ленца, Вагнера, Бюргера — соблазненные и обманутые девушки, жертвы вероломства. Образ Маргариты связан с философией чувства, с культом природы у Руссо. Для Фауста она воплощение природы, как для Вертера — Шарлотта.
Новаторской не только в немецкой, но и в европейских литературах была историческая драма «Гец фон Берлихинген» (две редакции: 1771 и 1773 гг.). Широкая панорама событий, связанных с эпохой Реформации и Крестьянской войны, множество действующих лиц, колоритно представляющих все сословия того времени, главный герой, в жизни которого перекрещиваются судьбы других и в драматической истории которого, как в фокусе, концентрируются противоборствующие силы эпохи, — все это впервые предстало на немецкой сцене. Гете творчески осмыслял опыт шекспировских хроник и трагедий.
Новыми были и сюжет, и тема, и герои. Смелым было и само обращение к бурной эпохе XVI в., и выбор героя — мелкопоместного рыцаря Геца фон Берлихингена, поднявшего бунт против усиления княжеской власти. Изображение двора князя — епископа бамбергского не уступало по силе обличения самой острой политической драме 70-х годов — «Эмилии Галотти» Лессинга. Некоторая нарочитая исключительность образа Адельгейды, демонической женщины, приближенной князя, не мешает автору раскрыть типичные черты не только придворных нравов, но и княжеской политики. Беззастенчивостью, коварством и жестокостью Адельгейда превосходит придворного Маринелли у Лессинга.
Лишь в немногих драмах «Бури и натиска» был представлен активной силой народ. Гете вывел на сцену восставших крестьян. В их грозном облике не все вызывало симпатии поэта. Стихия народного гнева пугает его. Но в драме нет абстрактного осуждения насилия. Его программный герой — честный, благородный Гец — действует мечом, и Гете поэтизирует эту вооруженную борьбу против несправедливости.
Гец борется против князей во имя восстановления неких патриархальных отношений между императором и рыцарями. Но таково было историческое заблуждение многих честных людей того времени, и Гете правдиво передает этот запутанный клубок тогдашних политических конфликтов, многими чертами предвосхищая художественные открытия романтиков, новаторство В. Скотта. Гете вместе с тем вносит в драму о XVI в. идеи и мотивы своего времени. Герой ее сродни «бурным гениям» 70-х годов. И трагедия его — трагедия одиночки, судьба сходна с судьбой героев Клингера или молодого Шиллера. Поэтизируя в Геце простоту и патриархальность, в сцене смерти героя даже вкладывая в его уста мысль о слиянии с природой, Гете парадоксально соединял руссоистско-гердеровские идеи и бытовые реалии XVI в.
225
При этом в финале он как бы сдвигает времена. Гец произносит речь, обращенную в будущее: «Я оставляю тебя в развращенном мире, — говорит он жене, — приходит время обмана, ему дана полная свобода. Негодяи будут править хитростью, и честный попадется в их сети». Читателю предлагалось подумать, не относятся ли эти слова и к его времени.
Мировую славу приносит Гете роман в письмах «Страдания юного Вертера» (1774). Герой его — молодой человек из третьего сословия, который задыхается в обществе, где царят

невежество и предрассудки. Он ищет успокоения и радости в общении с природой, погружается в патриархальный мир эпических поэм Гомера, находит непрочное прибежище в своей любовной мечте о Шарлотте, простой скромной девушке, которая также воплощает для него наивность и безыскусственность самой природы.
Вромане из реального немецкого быта Гете отказывался от героя-бунтаря. И все же в Вертере живет мятежный дух «бурных гениев». Это яркая индивидуальность, и, подобно другим литературным героям эпохи, он ищет выхода из мучающих его сомнений и неудовлетворенности в утверждении своей личности, своего свободного «Я».
Форма романа в письмах дала возможность глубоко раскрыть мир чувств героя, показать сложный процесс восприятия и осмысления впечатлений от немецкой действительности. Это роман сентиментальный, психологический и одновременно социальный, в котором точно найдены детали общественного быта и на ряде эпизодов раскрыты общественные противоречия. В начале второй книги романа все чаще начинают звучать ноты негодования. Героя возмущает «общество мелких людишек, кишащих вокруг». Речь идет о чиновниках, среди которых он оказался, поступив на службу в канцелярию посланника: «Какая борьба мелких честолюбий; все только и смотрят, только и следят, как бы обскакать друг друга хоть на шаг». Вертер в полной мере испытал на себе высокомерие местных аристократов, униженный, он вынужден был подать в отставку. Столкновение с официальным обществом обострило у него чувство одиночества. В финале романа упоминается «Эмилия Галотти» Лессинга — многозначительная деталь, подчеркивающая социальный смысл трагедии героя.
Идеи «Бури и натиска» находят в романе не только ярчайшее воплощение, но и переосмысление и критическую оценку. В первой части романа Вертер весь в плену руссоистских иллюзий — он искренне и убежденно противопоставляет жестокости и бесчувственности окружающего мира идеал естественной природы. Но реальный опыт разрушает эти иллюзии. Во второй части томик Гомера в руках у Вертера сменяется песнями-плачами Оссиана. Гармония разрушена, и поставлен под сомнение весь штюрмеровский индивидуализм: благородная личность — носитель высоких идеалов — оказывается бессильной в своем одиночестве.
Вэтом плане Вертер явился ранним предшественником образов молодого человека в европейской литературе XIX в.: с ним преемственно связаны так называемые «лишние люди» в произведениях многих романтиков и критических реалистов.
Роман «Страдания юного Вертера» — первое произведение немецкой литературы Нового времени, получившее международный резонанс. Однако его влияние не было однозначным — роман неодинаково воспринимался в разных странах и в различных общественных кругах. Основной конфликт романа часто истолковывался как романтический, т. е. в контексте литературы начала XIX в. Такая трактовка характерна, например, для Ш. Нодье во Франции.
Эмоциональным настроением, полнотой выражения чувства к «Вертеру» близко примыкает сентиментальная драма «Стелла» (1775) — одна из самых динамичных в драматургии Гете. Примерно спустя пять лет на немецкой сцене утвердилась сентиментальная мещанская драма, сочетавшая слезливость с плоским морализаторством (А. В. Иффланд, А. Коцебу). И характером конфликта, и стилем «Стелла» принадлежит к совершенно иному типу. В ней дана апология чувства в высоком — руссоистском и штюрмеровском — смысле слова. Герой драмы Фернандо показан в момент, когда он неожиданно встречает двух женщин — Стеллу и Цецилию, которых он в разное время оставил. И ту и другую он по-своему любит и жалеет, а каждая из них, любя его, готова пожертвовать своим счастьем, считая, что ее соперница имеет на него больше прав. В финале все трое бросаются друг другу в объятия под возглас Цецилии: «Мы — твои!» Это был достаточно смелый вызов официальной морали, и в таком виде пьеса не увидела
сцены. В 1806 г. Гете поставил «Стеллу» с другим финалом: самоубийством Фернандо и Стеллы.

Новым шагом в создании образа современного человека был роман «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» (1777—1785), работа над которым была начата спустя полтора года после переезда в Веймар. Вильгельм Мейстер — новый для Гете тип героя. Это не бунтующий Прометей, но и не пассивный мечтатель Вертер. Вильгельм поюношески энергичен, деятелен, он
226
стремится принести пользу обществу, действуя в той сфере, которая реально возможна в тогдашних условиях, — как реформатор театра.
Прототипом одной из героинь романа (мадам Ретти) стала известная театральная деятельница Германии Каролина Нойбер. Но в образе Вильгельма автор стремился представить реформатора более крупного масштаба. Гете мечтает о немецком Шекспире (на это намекает самое имя героя — Вильгельм), драматурге и театральном деятеле, призванном положить начало национальному театру, программа которого была начертана в «Гамбургской драматургии» Лессинга.
Роман «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» хронологически выходит за рамки периода «Бури и натиска», в основном завершившегося с переездом Гете в Веймар в 1775 г. Но идейно-тематически он продолжает ту линию в творчестве молодого Гете, которая связана с поисками правдивого изображения социального быта Германии и нашла выражение в его доштюрмеровской пьесе «Совиновники» (1768), в сентиментальной драме «Стелла» и ярче всего в романе о Вертере. В целом эта линия не стала центральной
втворческом развитии Гете, а позднее, с позиций веймарского классицизма, была целиком отвергнута. Роман «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» не только не был завершен, но и не был при жизни автора опубликован (рукопись обнаружена в 1910 г.). В конце 90-х годов Гете вернулся к образу Вильгельма, чтобы создать другой роман.
На долгом, 65-летнем, творческом пути Гете годы «Бури и натиска» были короткими. Но «феномен молодого Гете», как его называют историки литературы, составил целую эпоху
внемецкой и мировой литературе. Гете смело проложил новые пути в лирике, создав поэтические шедевры, прочно запечатлевшиеся в народной памяти. Драма «Гец фон
Берлихинген» предвосхищала исторические жанры эпохи романтизма. Не случайно В. Скотт начинал свой творческий путь с перевода этой драмы на английский язык. О значении романа «Страдания юного Вертера» Т. Манн писал: «Казалось, будто читатели всех стран втайне, неосознанно только и ждали, чтобы появилась книжка какого-то еще безвестного молодого немецкого бюргера и произвела переворот, открыв выход скрытым чаяниям целого мира». «Прафауст» еще не был известен, но уже обозначил контуры будущего великого творения Гете.
Решалась задача, поставленная Лессингом перед немецкой литературой: в раздробленной стране, сохранявшей в своем укладе остатки Средневековья, творческие свершения молодого Гете знаменовали единство национальной культуры. Опираясь на художественный опыт других стран, прежде всего Франции и Англии, Гете продолжал, развивал и поднимал на новую ступень идеи европейского Просвещения.
226
МОЛОДОЙ ШИЛЛЕР
Фридрих Шиллер (1759—1805) подхватил знамя штюрмеров в начале 80-х годов, уже после того как распался боевой круг тех, кто еще недавно рвался в бой, одушевленный «ненавистью к тиранам». Гете жил в Веймаре и посвящал почти все свое время административной деятельности. Покинули Германию и уехали в Россию Клингер (1780) и Ленц (1781). Шубарт сидел в тюрьме. Вагнера уже не было в живых. Три драмы молодого Шиллера («Разбойники», 1781; «Заговор Фиеско в Генуе», 1782; «Коварство и любовь», 1783) не только подводили итог немецкой драматургии 70-х годов, но и

знаменовали собой новый шаг в развитии идейно-образной системы «Бури и натиска». Общественный опыт молодого Шиллера был и горьким, и суровым. В этом смысле ему ближе всего был Шубарт. Поэтому в его драмах, как и в «Немецкой хронике» Шубарта, был острее выражен социальный и политический смысл бунтарства «Бури и натиска». Герой «Разбойников» Карл Моор разражается проклятиями против «чернильного века», века «ехидн и крокодилов», он хочет «жить как солнце и как солнце умереть», он берет за образец героев Плутарха, и в этой абстрактной патетике он близок, например, герою «Близнецов» Клингера. Но вместе с тем Шиллер (как Ленц и Вагнер) развертывает действие в конкретных социальных условиях современности, называет конкретных носителей социального зла — помещика, министра, священника. Шиллер решительно отверг предложение режиссера Дальберга перенести действие в Средние века. Социальные характеристики еще острее прочерчены в мещанской трагедии «Коварство и любовь». Президент фон Вальтер, гофмаршал фон Кальб, леди Мильфорд и правящий герцог (он не показан на сцене, но его присутствие постоянно ощущается) — ярко обрисованные социальные типы, а не абстрактное воплощение зла. Им противостоят люди третьего сословия — Миллеры, отец и дочь, носители новой морали, герои, утверждающие свое человеческое достоинство. И как это характерно для многих произведений XVIII в., молодой Шиллер делает главного героя Фердинанда рупором просветительских идей: за свое личное счастье Фердинанд
227
борется, прибегая к аргументам, почерпнутым из Руссо.
Влияние Руссо на раннего Шиллера очень велико и вместе с тем несколько односторонне. В «Разбойниках» звучит мотив неприятия современной цивилизации, ощутимы сомнения в прогрессе. В стихотворении «Руссо» (1782) сделана попытка осмыслить место великого мыслителя в современной борьбе идей. Для Шиллера он «гигант, которого не способны понять жалкие карлики, лишенные искры Прометея». И тут же подчеркнуто, что Руссо — настоящий христианин, но именно христиане довели его до гибели. Шиллер разделяет религиозную концепцию Руссо, направленную против официальной церкви. И в свете этих убеждений Шиллера становится понятным, почему среди многих пороков злодея Франца Моора в «Разбойниках» названо и его безбожие. Религиозные мотивы звучат и в знаменитой оде «К радости» (1785). Сочетая боевой политический пафос с идеалистическими и даже религиозными взглядами, Шиллер разделяет противоречивость мировоззрения, свойственного многим штюрмерам. И здесь намечается первая грань, отделяющая его от Гете, который, опираясь на Спинозу, неизменно тяготел к материализму.
Несомненно также, что Гете шире, универсальнее охватывал в своем творчестве наболевшие вопросы времени, видел жизнь богаче, многообразнее. Отношение обоих великих поэтов к Руссо очень показательно. Шиллер острее воспринял отдельные идеи Руссо и рельефно их выразил в словах своих героев. Руссо для Гете — сложный феномен, воспринятый им в тесной связи со всем идейным брожением эпохи. Но, главное, Гете учился у Руссо как художника, осваивал и углублял черты диалектики в изображении человеческого характера. Руссо и Гердер помогали Гете в преодолении метафизического рационализма раннего Просвещения.
Молодой Шиллер преподносит свои идеи в их обнаженной прямолинейности. В развитии сюжета он исходил из идеи, а не из жизненного факта. Поэтому человеческий характер у Шиллера чаще всего условен. «Он выдумает его, совершенно не зная мира и общества, опираясь только на скудный, но горький опыт своей юности» (А. Зегерс).
Как известно, Гете резко отвергал «Разбойников» Шиллера. И это объясняется не только тем, что Гете к этому времени отказался от боевых идей «Бури и натиска» (Гете еще напишет «Эгмонта»), но и неприятием самого метода молодого Шиллера и его идеализма. Вместе с тем обнаженность тенденции составляет не только слабость, но и силу писателя. Именно пафос утверждения, страстность, с которой герои Шиллера отстаивают права

человека, завоевали ему почетное место на сценах передовых театров мира.
Иллюстрация: Фр. Шиллер. Коварство и любовь
Гравюра Д. Ходовецкого. 1786 г.
Политический конфликт стоит в центре драмы «Заговор Фиеско в Генуе». Это первая пьеса Шиллера, написанная на исторический сюжет, и впервые драматург создает образ мужественного борца за свободу — республиканца Веррину, отступая от той тенденции стихийного бунтарства, которая воплощена в «Разбойниках». Более того, претензии отдельной личности здесь ставятся под сомнение: главный герой Фиеско представлен как честолюбец, который республиканский заговор превращает в ступеньку для завоевания единоличной власти.
Три редакции драмы отличаются только финальными сценами. И в этих поисках решения драматургического конфликта отразились раздумья поэта над политическими проблемами современности. В найденной в 1943 г. так называемой «дрезденской редакции» Веррина убивает Фиеско и выносит свой поступок на суд
228
генуэзцев. Такой финал требовал острого активного отношения немецкого зрителя к происходящим на сцене событиям. Он заставлял задуматься уже не над генуэзскими делами XVI в., а над перспективами возможных перемен в условиях германских деспотических режимов.
Для просветителя-Шиллера театр был ареной борьбы за сознание современников, способствовал формированию общественного мнения в стране в соответствии с одним из главных теоретических тезисов, сформулированных им в статье «Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение» (1784): «Что так скрепляло воедино Элладу? Что так неудержимо привлекало народ к ее театру? Не что иное, как патриотическое содержание пьес, греческий дух, громадный, всеохватывающий интерес к государству и к лучшему человечеству».
Годы 1783—1787 — время работы над «Дон Карлосом». Это был переломный период в развитии мировоззрения и творческого метода Шиллера, когда он критически оценивает свой краткий штюрмерский опыт.
В ходе работы над «Дон Карлосом» складывается новый взгляд на задачи писателя и цели театра, меняется самый аспект изображения действительности. Шиллер обращается к Испании конца XVI в. не для того, чтобы воспроизвести страницу истории. Испания Филиппа II предстает перед ним как некий символ всего феодального мира, позволяющий более полно и обобщенно изобразить зло века, чем это возможно на примере захолустной немецкой резиденции. Поиски обобщенного художественного образа приводят к изменению стиля: грубоватую прозу (в «Разбойниках» пересыпанную диалектизмами) сменяет классический стих. Именно в «Дон Карлосе» впервые раскрылся поэтический талант Шиллера.
Другим стал и герой Шиллера: на смену бунтарю-штюрмеру приходит мечтательгуманист, который называет себя «гражданином мира», «гражданином грядущих поколений». Карл Моор собственными руками задушил попа, скорбевшего об упадке инквизиции. Маркиз Поза в «Дон Карлосе» бросается на колени перед Филиппом II, умоляя его даровать свободу совести. Но оба — и Карл, и Поза — терпят поражение. «Век не созрел», — горестно констатирует Поза.
Всем ходом событий автор убеждает, что гуманная проповедь Позы бессильна не потому только, что ее не хочет принять Филипп, но прежде всего потому, что за Филиппом стоят грозные силы феодально-католической реакции.
Ложная мудрость мрачной эпохи передана в грозном облике девяностолетнего старца — Великого инквизитора. Именем Бога он обрекает на смерть Карлоса и строго выговаривает Филиппу свое неодобрение:
На что он был вам нужен?
Что мог открыть вам этот человек? Иль неизвестен вам язык хвастливый

Глупцов, что бредят улучшеньем мира?
(Перевод В. Левика)
А. Зегерс справедливо подметила: «Шиллеровский Великий инквизитор — это всесильный, злой и слепой дух, не верящий ни в бога, ни в человечество и верящий только в собственную власть».
Сцена с инквизитором подводила итог размышлениям драматурга о природе власти, о сложном взаимодействии разных сил, составляющих общество, о том, что субъективная воля правителя — просвещенного или жестокого — неотвратимо подчинена господствующей политической структуре. По глубине исторического анализа эта сцена превосходит многие политические трактаты XVIII в. — не случайно она привлекла внимание Ф. М. Достоевского.
Примечательна в «Дон Карлосе» и тема национально-освободительной войны — Поза призывает Карлоса выступить в защиту Нидерландов, борющихся против испанского гнета. Для Шиллера это не просто новая тема: поэт впервые начинает задумываться над ролью и местом в истории массовых народных движений. Вскоре после окончания «Дон Карлоса» в деятельности драматурга наступает длительная, 10-летняя пауза. Эти годы он посвящает изучению истории и философии, с 1789 г. читает лекции по всеобщей истории в Иенском университете.
Движение «Бури и натиска» — одна из ярких страниц в европейской литературе XVIII в. Во Франции в середине века «Энциклопедия» объединяла могучую когорту мыслителей и писателей. Но это было сотрудничество на широкой идеологической основе, своего рода единый фронт просветителей, часто даже весьма далеких друг от друга; в центре их интересов стояли не эстетические вопросы, а общественные и философские; общей целью был подрыв идеологических основ старого режима.
Антифеодальная просветительская программа объединяла и писателей «Бури и натиска». Но эту программу они осмысляли неотрывно от тех художественных задач, которые они ставили перед собой как поэты, драматурги и прозаики. На решения этих проблем была нацелена и теоретическая мысль Гердера и штюрмеров.
229
Глубоко самобытное и оригинальное как неповторимый комплекс общественных и эстетических идей, выросшее из потребностей национального развития литературы, движение «Бури и натиска» вместе с тем неотделимо от исканий в других европейских литературах.
Оно вливается в общий поток сентиментального направления и в этом смысле ближе всего французскому руссоизму, т. е. всему многообразию литературных явлений, которые сложились в эпоху Руссо и в значительной мере под его влиянием. С руссоизмом связаны не только культ природы и идея естественного человека, но и разработка эстетики ведущего жанра — драмы; штюрмеры здесь опирались на Мерсье.
Многое связывает штюрмеров и с английской литературой. И здесь оказались наиболее значимы не Стерн и не собственно сентиментализм, а отдельные грани предромантического движения. Интерес к фольклору сближает Гердера с Перси, статья молодого Гете о Страсбургском соборе и изучение истории Геца фон Берлихингена отражают новую тенденцию в литературе XVIII в. — обращение к прошлому, к национальной культуре. И в этом смысле изменение отношения к готике в Англии и Германии так же характерно, как и споры о Данте в Италии.
В сложном контексте сентиментального романа о Вертере возникают образы Макферсонова Оссиана. Здесь важны два аспекта: преодоление внеисторически одностороннего негативного отношения к эпохе Средневековья, характерного для большинства просветителей, и решительный разрыв с представлением об античности как единственном образце.
Всюду сентиментализм отмечен крупными завоеваниями в изображении внутреннего мира человека. Но движение «Бури и натиска» отличается особенным богатством поэтического творчества. Любовная лирика Ленца, политические стихотворения Шубарта,

баллады Бюргера, «Антология» Шиллера и, наконец, бурная, эмоциональная, многоликая лирика молодого Гете — такого стремительного взлета поэзии не знала ни одна из западноевропейских литератур XVIII в.
Если утверждение чувства и культ природы характеризуют «Бурю и натиск» как один из вариантов европейского сентиментализма, то культ гения, бунтарский индивидуализм придают этому движению неповторимое своеобразие.
Однако многие нити, связывающие творчество писателей «Бури и натиска» с Перси и Макферсоном, не дают оснований рассматривать немецких писателей 70-х годов в русле предромантизма. Определяющим следует признать боевой антифеодальный, просветительский пафос их творчества.
Если для английской литературы не только предромантизм, но и самый сентиментализм представляет поздний этап литературы XVIII в., начало кризиса Просвещения, то движение «Бури и натиска» образует одну из вершин немецкого Просвещения.
229
ВЕЙМАРСКИЙ КЛАССИЦИЗМ. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА ВЕКА
Переворот, вызванный в немецкой литературе «бурными гениями», был необычайно глубоким и весьма плодотворным. Но их философская, социальная и эстетическая концепции не могли утвердиться надолго. Для этого было несколько причин.
Во-первых, не имел реальной перспективы бунт «гения-одиночки». Показательно, что первая драма Шиллера заканчивалась капитуляцией героя. Борьба одиночки не могла перерасти в массовую борьбу, ибо в стране не было для этого условий.
Во-вторых, если сентиментализм «Бури и натиска» был своеобразной реакцией на рационализм раннего этапа Просвещения, то культ чувства также быстро обнаруживал свою односторонность и толкал на поиски некоего синтеза разума и чувства.
И наконец, третье: тенденция к изображению обыденного и будничного, прозаизация, снижение героя, сближение с мещанской драмой (у Ленца, Вагнера и даже у Шиллера) в какой-то мере означали отказ от большой проблематики Просвещения, шаг назад по сравнению, например, с теми задачами, которые ставили Лессинг и Винкельман да и сами штюрмеры (Гердер, Гете и Ленц), когда они, например, указывали на великий пример Шекспира.
Кризис эстетики «Бури и натиска» и поиски новых путей художественного освоения мира
— лишь частный случай общего процесса в эстетике Просвещения. В XVIII в. в европейских литературах не прекращалась борьба между двумя тенденциями: демократизацией тематики, сближением с жизнью в ее будничном, тривиальном аспекте, с одной стороны, и стремлением к генерализации образов, к наиболее обобщенному воплощению важнейших идей и программных принципов Просвещения — с другой.
Во второй половине 80-х годов в немецкой литературе складывается новая концепция, получившая название веймарского классицизма и нашедшая выражение в творчестве двух крупнейших писателей — Гете и Шиллера, а
230
также в теоретических и критических работах Вильгельма Гумбольдта и в живописи Тишбейна и Карстенса.
В эстетической программе веймарского Гете были сплавлены элементы разных учений. Позднее, уже после смерти Шиллера, Гете назвал имя своего учителя — Винкельмана. Образы греческой скульптуры, живо представленные в книге Винкельмана, прекрасного стилиста, будили воображение немцев XVIII в. и покоряли прежде всего новым масштабом героя. И, меряя этой высокой мерой окружающую современность, вдумчивый читатель еще острее ощущал в ней узость и духовную пустоту. Эта масштабность
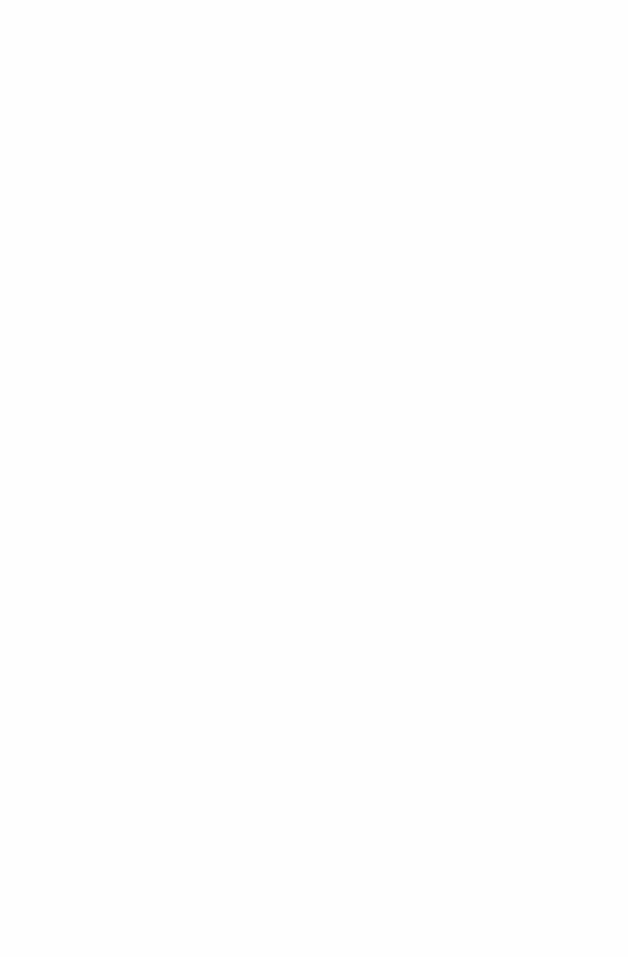
винкельмановского представления о человеке и была противопоставлена эмпиризму мещанских драм «Бури и натиска» в середине 80-х годов XVIII в.
Воздавая хвалу Винкельману, Гете произносит главное слово: «Высший продукт постоянно совершенствующейся природы — это прекрасный человек». Многие ученики Винкельмана, особенно живописцы и скульпторы, рабски следовали его заветам, в частности знаменитому положению о подражании грекам как о единственном средстве стать неподражаемыми. Гете был преемником гуманизма Винкельмана — самой важной стороны его учения. Его восприятие античности было творческим, активным; еще острее и многограннее, чем Винкельман, он соотносил высокий нравственный пафос героев древности с делами и заботами своего времени.
Важнейшее в эстетических исканиях двух великих веймарцев — стремление к генерализации художественного образа, отказ не только от бытовизма штюрмеровского периода, но и от изображения всего того, что представляется поэту преходящим, частным. Особенно резко выражена эта тенденция у Шиллера. Кроме того, в проспекте журнала «Оры» (1794) и в оповещении об его издании автором даже рекомендовано уклоняться от обсуждения политических вопросов. Еще раньше, в стихотворении «Художники» (1789), Шиллер объявил искусство высшим проявлением человеческой культуры, а эстетическое воспитание — главной задачей в борьбе за совершенствование человека (Письмо Г. Кернеру 9 февраля 1789). В рецензии на стихотворения Бюргера (1791) Шиллер критикует его как продолжателя эстетических принципов «Бури и натиска» за приземленность его образов, за близость его творчества пониманию простого народа. Более того, он осуждает в поэзии Бюргера мотивы социальной критики, напоминая, что поэт не должен спускаться «с высот идеальной всеобщности до несовершенной индивидуальности». Сходные позиции Шиллер обнаруживал и в критике Гете: «Строй его представления, — писал он Г. Кернеру 1 ноября 1790 г., — по-моему, слишком чувственный и слишком эмпиричный».
Гете со своей стороны порицал крайности в идеалистической эстетике Шиллера, не принимал многих его абстрактных спекуляций и побуждал к художественному творчеству, связанному с реальной действительностью. Оба великих поэта взаимно обогащали друг друга. Шиллеру во многом обязан Гете завершением первой части «Фауста», углублением философского замысла трагедии в сравнении со штюрмеровским вариантом. С другой стороны, Шиллер, вначале мечтавший написать «Сцену на Олимпе», создал произведения, в которых отражены исторические конфликты современности.
Журналы Шиллера «Оры» (1795—1797) и Гете «Пропилеи» (1798—1800), обращенные к литературной элите, с трудом находили подписчиков и быстро прекращали свое существование. Нелегко было Гете формировать репертуар веймарского театра, которым он руководил.
У рядового зрителя огромный успех имела мещанская драма, возобладавшая на немецкой сцене еще к началу 80-х годов. А. В. Иффланд (1759—1814) и А. Коцебу (1761—1819), сочетая сентиментальность и морализацию, создавали видимость постановки важных жизненных проблем; чаще всего они обращались к изображению нравственных конфликтов, которые происходили в реальных обстоятельствах немецкого провинциального быта. Громкую славу принесла Коцебу трагедия «Ненависть к людям и раскаяние» (1789) — трогательная история жены, изменившей мужу, но осознавшей свою нравственную вину и глубоко раскаявшейся. По словам одного немецкого историка литературы, это была «спекуляция на нравственной бесхарактерности и слезливости общества путем восхваления кающейся прелюбодейки».
Характерно, что драмы Дидро «Отец семейства» и «Побочный сын», не удержавшиеся на французской сцене, имели довольно значительный успех в Германии. Более того, начало популярности этого жанра в Германии положил О. Г. Гемминген пьесой «Немецкий отец семейства», написанной «под Дидро». Геммингену принадлежит и теоретическое обоснование жанра мещанской драмы «Маннгеймская драматургия» (1779—1780), книга,
