
Лебедев И.Б. История психологии. Хрестоматия
.pdf341
представить себе действительные связи, действительные сложные отношения,
которые здесь имеются.
До некоторой степени это относится и к одной из труднейших проблем — локализации высших психологических систем. Их локализовали до сих пор двояко. Первая точка зрения рассматривала мозг как однородную массу и отказывалась от признания того, что отдельные его части неравноценны и играют разную роль в построении психологических функций. Эта точка .зрения явно несостоятельна. Поэтому в дальнейшем функции стали выводить из отдельных мозговых участков, различая, например, практическое поле и т. д.
Поля связаны между собой, и то, что мы наблюдаем в психических процессах,— совместная деятельность отдельных полей. Это представление,
несомненно, более правильно. Мы имеем сложное сотрудничество ряда отдельных зон. Мозговым субстратом психических процессов являются не изолированные участки, а сложные системы всего мозгового аппарата. Но вопрос заключается в следующем: если эта система заранее дана в самой структуре мозга, т. е. исчерпывается теми связями, которые существуют в мозгу между отдельными его частями, мы должны предположить, что в структуре мозга заранее даны те связи, из которых возникает понятие. Если же мы допустим, что здесь возможны более сложные и не данные заранее связи,
мы сразу перенесем этот вопрос в другой план.
Позвольте пояснить это на схеме, правда очень грубой. В личности соединяются формы поведения, которые раньше были разделены между двумя людьми: приказ и выполнение; раньше они происходили в двух мозгах, один мозг воздействовал на другой, скажем, при помощи слова. Когда они соединяются вместе, в одном мозгу, то мы имеем такую картину: пункт Л в мозгу не может достигнуть пункта Б прямым соединением, он не находится в естественной связи с ним. Возможные связи между отдельными частями мозга устанавливаются через периферическую нервную систему, извне.
Исходя из таких представлений, мы можем понять целый ряд фактов патологии. Сюда относятся прежде всего факты, когда больной с поражением
342
мозговых систем не в состоянии сделать чего-либо непосредственно, но может выполнить это, если скажет об этом сам себе. Подобную клинически ясную картину мы наблюдаем у паркинсоников. Паркинсоник не может сделать шаг;
когда же вы говорите ему: «Сделайте шаг» или кладете на полу бумажку, он этот шаг делает. Все знают, как хорошо паркинсоники ходят по лестнице и плохо — по ровному полу. Для того чтобы больного привести к лабораторию,
приходится разложить на полу ряд бумажек. Он хочет идти, но не может воздействовать на свою моторику, у него эта система разрушена. Почему паркинсоник может ходить, когда на полу разложены бумажки? Тут два объяснения. Одно давал И. Д. Сапир: паркинсоник хочет поднять руку, когда вы ему говорите, но этого импульса недостаточно; когда вы связываете просьбу с еще одним (зрительным) импульсом, он поднимает. Добавочный импульс действует вместе с основным. Можно представить картину и по-другому. Та система, которая позволяет ему поднять руку, сейчас нарушена. Но он может связать один пункт мозга с другим через внешний знак.
Мне представляется вторая гипотеза относительно движения паркинсоников правильной. Паркинсоник устанавливает связь между одним и другим пунктами своего мозга через знак, воздействуя на самого себя с периферического конца. Что это так, подтверждают эксперименты с истощаемостью паркинсоников. Если бы дело заключалось только в том, что вы истощаете паркинсоника до конца, эффект добавочного стимула должен был бы расти или, во всяком случае, равняться отдыху, восстановлению, играть роль внешнего раздражителя. Кто-то из русских авторов, впервые описывающих паркинсоников, указывал, что самое важное для больного — громкие раздражители (барабан, музыка), но дальнейшие исследования показали, что это не так. Я не хочу сказать, что именно так происходит у паркинсоников, но достаточно сделать вывод, что это принципиально возможно, а в распадении мы на каждом шагу наблюдаем, что такая система действительно возможна.
343
Всякая система, о которой я говорю, проходит три этапа. Сначала интерпсихологический — я приказываю, вы выполняете; затем экстрапсихологический — я начинаю говорить сам себе, затем интрапсихологический — два пункта мозга, которые извне возбуждаются,
имеют тенденцию действовать в единой системе и превращаются в интракортикальный пункт.
Позвольте остановиться кратко на дальнейших судьбах этих систем. Я
хотел указать на то, что в дифференциально-психологическом разрезе я от вас,
вы от меня отличаетесь не тем, что у меня внимания немножко больше, чем у вас; существенное и практически важное характерологическое отличие в социальной жизни людей заключается в тех структурах, отношениях, связях,
которые у нас имеются между отдельными пунктами. Я хочу сказать, что решающее значение имеет не память или внимание, но то, насколько человек пользуется этой памятью, какую роль она выполняет. Мы видели, что сновидение может выполнять центральную роль у кафра. У нас сновидение — приживальщик в психологической жизни, который не играет никакой существенной роли. То же и с мышлением. Сколько бесплодных умов, идущих на холостом ходу, сколько умов, которые мыслят, но совершенно не включены в действие! Все помнят ситуацию, когда мы знаем, как нужно поступить, а
поступаем иначе. Я хотел указать на то, что тут есть три плана, чрезвычайно важных. Первый план — социальный и классово-психологический. Мы хотим сравнить рабочего и буржуа. Дело не в том.как думал В. Зомбарт, что у буржуа основное — жадность, что создается биологический отбор жадных людей, для которых главное — скопидомство и накопление. Я допускаю, что есть много рабочих более скупых, чем буржуа. Суть дела будет заключаться не в том, что из характера выводится социальная роль, а в том, что из социальной роли создается ряд характерологических связей. Социальный и классовый тип человека формируется из тех систем, которые вносятся в человека извне,
которые являются системами социальных отношений людей, перенесенными в личность. На этом основаны профессиографические исследования процессов
344
труда — каждая профессия требует известной системы этих связей. Для вагоновожатого, например, действительно важно не столько иметь больше внимания, чем для обыкновенного человека, сколько уметь правильно пользоваться вниманием, важно, чтобы внимание стояло на том месте, на котором оно у писателя, например, может не стоять, и т. п.
И наконец, в дифференциальном и характерологическом отношении надо существенно отличать первичные характерологические связи, которые дают те или иные пропорции, например шизоидной или циклоидной конституции, от связей, которые возникают совершенно иначе и которые отличают человека нечестного от честного, правдивого от лживого, фантазера от делового человека, которые заключаются не в том, что у меня меньше аккуратности, чем у вас, или больше лжи, чем у вас, а в том.что возникает система отношений между отдельными функциями, которая складывается в онтогенезе. К. Левин правильно говорит, что образование психологических систем совпадает с развитием личности. В самых высших случаях там, где мы имеем этически наиболее совершенные человеческие личности с наиболее красивой духовной жизнью, мы имеем дело с возникновением такой системы, где все соотнесено к одному. У Спинозы есть теория (я ее несколько видоизменю): душа может достигнуть того, чтобы все проявления, все состояния относились к одной цели; здесь может возникнуть такая система с единым центром, максимальная собранность человеческого поведения. Для Спинозы единая идея является идеей бога или природы. Психологически это вовсе не необходимо. Но человек может действительно привести в систему не только отдельные функции, но и создать единый центр для всей системы. Спиноза показал эту систему в плане философском; есть люди, жизнь которых является образцом подчинения одной цели, которые доказали практически, что это возможно. Перед психологией стоит задача показать такого рода возникновение единой системы как научную истину.
Я хотел бы закончить, еще раз указав на то, что я представил лестницу фактов, пусть разбросанную, но все же идущую снизу вверх. Все теоретические
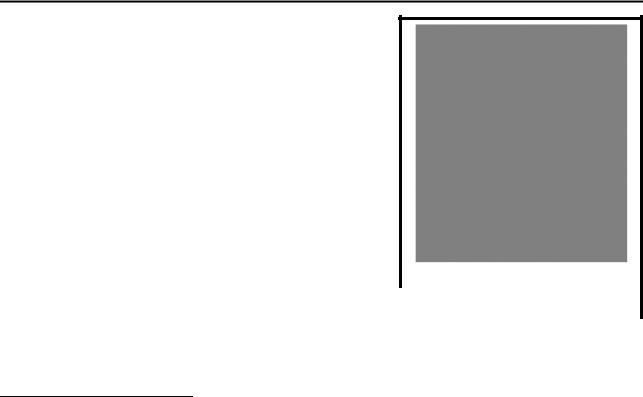
345
соображения я почти опустил. Мне кажется, что наши работы освещаются и становятся на место с этой точки зрения. У меня не хватает теоретической силы все это объединить. Я представил очень большую лестницу, но в качестве идеи,
охватывающей все это, я выдвинул общую мысль. И сегодня мне хотелось бы выяснить по поводу основной мысли, которую я несколько лет вынашивал, но не решался до конца высказать, подтверждается ли она фактически. И наша ближайшая задача — выяснить это самым деловым и детальным образом. Я
хотел бы, опираясь на приведенные факты, выразить свое основное убеждение,
которое заключается в том, что все дело не в изменениях только внутри функций, а в изменениях связей и в бесконечно разнообразных формах движения, возникающих отсюда, в том, что возникают на известной стадии развития новые синтезы, новые узловые функции, новые формы связей между ними, и нас должны интересовать системы и их судьба. Мне кажется, что системы и их судьба — в этих двух словах для нас должны заключаться альфа и омега нашей ближайшей работы.
Г.И.Челпанов Предмет, методы и задачи психологии67
Определение психологии. Термин
«психология» происходит от греческих слов
«псюхе» и «логос» и значит «учение о душе».
Но так как существование души совсем не |
28 апреля 1862г. - 13 февраля 1936 г. |
|
|
|
|
очевидно, то и определение психологии как учения о душе для многих представляется неправильным. Поэтому в последнее время предлагают другое
67 1 Челпанов Г.И. Учебник психологии (для гимназий и самообразования).15-изд. Харьков, 1918.Ñ.1—11.
346
определение психологии, именно, говорят, что психология есть наука о душевных явлениях или о законах душевной жизни. Нам следует разобрать оба эти определения. Но что такое душевные явления?
Под душевными явлениями нужно понимать наши чувства,
представления, мысли, желания и т.п. Что мы называем чувством, мыслями,
желаниями, всякий хорошо знает. Всякий, кто произносит эти слова, уже знает,
что они обозначают. Ясно, что так называемые душевные явления нам непосредственно известны, каждый может воспринять их с полной определенностью.
Но существует ли душа, и что мы понимаем под душой?
Для признания существования души, между прочим, имеется следующее основание. Мы не можем мыслить о том или другом чувстве, о том или другом представлении, вообще о том или ином душевном явлении без того, чтобы в то же самое время не мыслить, что “имеет” чувства, представления. Мы не можем представить себе душевные явления, как не принадлежащие ничему; мы не можем представить себе ни чувств, ни мыслей, ни желаний, которые были бы ничьими. Сделайте попытку представить чувство радости, которое не принадлежало бы ничему, — такая попытка вам не удастся. Мы, думая о мыслях, чувствах, желаниях и т.п., всегда редставляем себе нечто, что
«мыслит», «чувствует», «имеет желания» и т.п.
Это “нечто” философы называют субъектом, “я”, душой. Душа, по их мнению, есть причина душевных явлений: только благодаря деятельности души мы имеем представления, чувства и вообще душевные явления. Она есть носительница, основа душевных явлений, душевные же явления суть обнаружения души: душа в своей деятельности обнаруживает свои свойства.
Исследование природы и свойств души и есть, по мнению некоторых философов, задача психологии.
Различие между приведенными определениями психологии очевидно.
По одному определению, психология занимается исследованием психических явлений; по другому определению, психология занимается
347
исследованием природы души, которая сама по себе недоступна для нашего непосредственного познания, т.е. в существовании души мы не можем убедиться с такою очевидностью, с какою мы убеждаемся в том, что существуют чувства, представления и т.п.
Какое же из этих двух определений нужно считать правильным?
Прежде думали, что есть две психологии, именно: психология рациональная и психология эмпирическая. Различие меж-
ду этими двумя психологиями заключалось в том, что психология рациональная изучает свойства души, именно, есть ли она материальное или нематериальное, смертное или бессмертное и т.п. Психология эмпирическая занимается исследованием душевных явлений. Различие в названиях происходило оттого, что эмпирическая психология разрабатывается путем исследования того, что дается в опыте <...>, рациональная же психология разрабатывается путем умозрения, умозаключения или рассуждения <...>.
Умозрение, именно, означает познание при помощи разума в отличие от познания посредством опыта. Как мы видели выше, существование души есть предмет умозаключения, умозрения. В настоящее время такого самостоятельного существования двух психологий допустить нельзя. Следует признать, что учение о душе и учение о душевных явлениях составляют две части одной и той же психологии. Полная система психологии должна состоять из двух частей, и, именно, потому, что умозрение и опытное познание не могут быть совершенно отделены друг от друга. Умозрительное познание природы и свойств души без опытного познания природы душевных явлений невозможно.
Поэтому и построение так называемой рациональной психологии без эмпирической невозможно. С другой стороны, и построение эмпирической психологии находится до известной степени в зависимости от умозрения.
Мы в настоящем сочинении будем излагать только эмпирическую психологию, следовательно, будем изучать природу психических явлений.
Предмет психологии. Итак, задача эмпирической психологии заключается в определении законов душевных явлений. Под душевными или психическими
348
явлениями, как мы видели, следует понимать наши мысли, чувства, волевые решения и т.п. Их называют также: “психические состояния”, “состояния сознания”. Что такое состояние сознания, мы определять не станем: оно понятно для всякого, кто пережил то или другое психическое состояние. “Видеть” ,“слышать” что-либо, иметь “чувства радости”, переживать чувство страдания, прийти к какому-нибудь решению и т.п. значит иметь то или другое состояние сознания. Состояния сознания и являются предметом психологии.
Для того, чтобы особенности предмета психологии сделались для нас ясными, нам необходимо рассмотреть его отличие от предмета естествознания в широком смысле слова, или наук о природе, т.е., другими словами, мы должны рассмотреть отличие психических явлений от явлений физических или материальных, которые составляют предмет наук о природе.
Это различие сводится к следующим трем пунктам.
Психические явления не могут быть воспринимаемы и познаваемы через посредство внешних органов чувств (глаза, уха и т.п.). Если я изучаю какой-
нибудь минерал, то все его свойства становятся для меня познаваемы при участии деятельности органов чувств. Его форму, цвет я воспринимаю при помощи глаза, его твердость, шероховатость — при помощи органа осязания и т.п. Для изучения звуковых, электрических явлений, теплоты, химических процессов и т.п., я должен “видеть”, “слышать”, “осязать”, “обонять” и т.п.;
словом, я должен пользоваться своими органами чувств. Таким образом, все физические или материальные явления я воспринимаю при помощи органов чувств. Совсем не то с психическими явлениями. Ни одного из них я не в состоянии воспринять при помощи какого-либо органа чувств. Например, я
испытываю “чувство обиды”; я его познаю, я знаю его свойства, потому что я отличаю его от всех других чувств, но для всякого ясно, что это психическое явление или состояние сознания я знаю не через посредство органа чувств
(глаза, уха и пр.). В настоящую минуту у меня есть “мысль о справедливости”.
Я эту мысль отличаю от других мыслей, но о свойствах ее я знаю не через посредство какого-либо органа чувств. В психологии принято этот способ
349
познания называть самонаблюдением, познанием при помощи внутреннего опыта в отличие от внешнего опыта, которым пользуются в науках о физической природе. Таким образом, психические явления могут познаваться только путем самонаблюдения или внутреннего опыта.
Второе различие между психическими явлениями и физическими заключается в том, что в то время, как физические явления одновременно могут быть доступны непосредственному наблюдению большого числа лиц,
психические явления непосредственно доступны наблюдению только того лица, которое их переживает.
Например, какой-либо минерал может быть одновременно наблюдаем множеством лиц, а “чувство радости”, которое я переживаю, никто не может наблюдать, кроме меня. Метеор, который проносится по небесному своду,
может быть наблюдаем тысячами людей, моя “мысль” о доме доступна лишь для меня одного. Третье существенное различие между физическими и психическими явлениями или между “физическим” и “психическим” заключается в том, что предметам и процессам мира физического могут быть приписаны свойства протяженности, между тем как психическим явлениям свойства протяженности приписаны быть не могут. Например, если мы возьмем какой бы то ни было предмет наук о природе, мы всегда можем о нем сказать,
что он «большой» или «малый», что он «толстый» или «тонкий», что он находится «справа», «слева», и т.п. Если мы возьмем какой-нибудь физический процесс, например, горение, какую-либо химическую реакцию, то мы о нем должны сказать, что он совершается где-нибудь в пространстве. Всем предметам и процессам, физическим или материальным, может быть приписана пространственная протяженность. Наоборот, если мы возьмем какие бы то ни было процессы психические, то мы увидим, что протяженность им ни в коем случае приписана быть не может. Например, о “чувстве сомнения”, которое в данную минуту находится у меня в сознании, я не могу сказать, что оно имеет ширину, длину, толщину и т.п. О моей “мысли о великом переселении народов” я никак не могу сказать, что она находится вправо или влево от “мысли о
350
барометрическом давлении”. Самая попытка применить свойства протяженности к психическим явлениям всегда должна оканчиваться полной неудачей. Нельзя также сказать, что психические явления “совершаются” где-
нибудь в пространстве. О психических явлениях можно сказать, что они совершаются во времени: они совершаются одновременно или одно вслед за другим.
Задача психологии. Мы видели, что задача психологии заключается в определении законов душевной жизни или законов душевных явлений. Для того, чтобы это определение было ясно, нам следует рассмотреть, что понимается под законом.
Закон - это определенная постоянная связь между явлениями. Если мы,
например, усматриваем, что между теплотой и расширением тел есть постоянная связь, то мы можем сказать, что положение “тела расширяются от теплоты” есть закон природы. Возьмем в пример один какой-либо закон,
например, закон причинной связи. Если между двумя явлениями А и В существует такая связь, что появление А влечет за собой появление В, и
уничтожение А влечет за собою уничтожение В, то мы говорим, что между явлениями А и В есть причинная связь. Установление причинной связи есть одна из задач наук о природе. Такую же задачу поставляет и психология, т.е.
она желает определить причинную связь между психическими явлениями. Если мы говорим, что “ощущение горького вкуса вызывает неприятное чувство”, то мы устанавливаем причинную связь между известным «ощущением» и
известным «чувством». В психической жизни мы замечаем известную закономерность, т.е. психические явления следуют друг за другом, повинуясь известным законам. Определение этой закономерности и есть задача психологии. Но следует заметить, что законы, устанавливаемые психологией,
не обладают той всеобщностью, которая присуща законам физики и химии.
Если мы, например, говорим, что “угол падения равняется углу отражения”, то мы нигде и никогда не допускаем исключений из правил этого закона. Этот закон всеобщ. Если мы в психологии говорим, что “науки облагораживают
