
- •Ростовцев н.Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школы рисунка.— м., Просвещение, 1982,240 с. Русская школа рисунка
- •Глава I.
- •1. Миниатюра из «Добрилова Евангелия». 1164
- •2, 3 . Инициалы из «Остромирова Евангелия». 1056-1057
- •4. Прорись
- •5. Титульный лист из пособия и. Д. Прейслера
- •6. Таблица из пособия и. Д. Прейслера
- •7. Таблица из пособия и. Д. Прейслера
- •8. Таблица из пособия и. Д. Прейслера
- •9. Таблица из пособия и. Д. Прейслера
- •10. Таблица из пособия и. Д. Прейслера
- •11, 12. Таблицы из пособия и. Д. Прейслера
- •17. Ф. Ф. Репнин. Рисунок с оригинала
- •18. Родчев. Натурщик
- •19 А, б. П. И. Соколов. Анатомический рисунок.
- •20. Ф. А. Бруни. Академический рисунок
- •21. А. П. Лосенко. Таблица из пособия
- •22. А. П. Лосенко. Таблица из пособия
- •Глава II.
- •Глава IV.
- •90. Ф. А. Малявин. Академический рисунок
- •91. Б. М. Кустодиев. Натурщик
- •92. И. И. Бродский. Рисунок с натуры.
- •93. Н. И. Фешин. Рисунок
- •94. Н. И. Фешин. Рисунок
- •95. Н. И. Фешин. Рисунок
- •Советская школа рисунка советская школа рисунка
- •Глава I.
- •102. Сущность строения формы носа
- •Глава II.
- •103. М. И. Курилко. Схема головы.
- •102. А. С. Голубкина. Схема головы.
- •105 А, б. Чемко. Методическая последовательность построения рисунка.
- •106. В. Н. Яковлев. Педагогический рисунок
- •107. В. Н. Яковлев. Педагогический рисунок
- •Глава III.
- •125. Таблица из пособия «Рисование. III класс»
- •126. Таблица из пособия «Рисование. IV класс»
- •379История искусств. Искусство Древней Греции. (ю. Колпинский)
Глава II.
МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСОВАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Первая половина XIX века была временем наивысшего расцвета академической школы рисунка. В этот период было много сделано в области теории и методики обучения рисованию. Над проблемами учебного рисунка и методикой его преподавания работают такие прославленные художники, как Г. И. Угрюмов, А. И. Иванов, А. Е. Егоров, В. К. Шебуев, А. Г. Венецианов и многие другие. Большой интерес представляют теоретические труды И. И. Виена, А. Войцеховича, И. В. Буяльского, Г. А. Гиппиуса, А. Галича, А. П. Сапожникова, учителя рисования Скино.
К началу XIX века русская академическая школа рисунка становится лучшей в Европе. Она не только утверждала свое право считаться первоклассной школой, но и раскрывала роль и значение методики в деле художественного образования. Много нового в этот период вносится и в систему академического образования и воспитания художников, в утверждение реалистического направления в искусстве.
В Академии художеств начинается серьезное научное изучение натуры. Здесь в данный период курс анатомии ведет талантливый педагог, известный ученый, адъюнкт-профессор Медико-хирургической академии И. В. Буяльский (1789-1866)41[1]. Он читает лекции не в аудитории с кафедры, а в анатомическом театре; воспитанники Академии художеств изучают анатомию не по таблицам и экорше, а на специально подготовленных трупах. Буяльский сам препарирует их на глазах своих учеников, наглядно объясняет закономерности строения человеческого тела, подробно показывает действие каждого мускула, характерные особенности строения формы костей и сухожилий. Согласно методической установке Буяльского, знание пластической анатомии помогает художнику сознательно изображать фигуру человека, правильно и убедительно передавать в рисунке особенности движения живой человеческой фигуры.
Талантливый хирург-анатом, имевший глубокие научные познания в области пластической анатомии, любящий искусство и хорошо понимавший задачи художественного образования, Буяльский давал своим воспитанникам такие знания, каких не получали ученики в прославленных академиях художеств Европы. Просматривая анатомические рисунки Шебуева, выполненные им во время пенсионерского пребывания в Италии, Буяльский отмечал, «что трупы, с которых Шебуев рисовал в Италии, вероятно, были приготовляемы для учения врачей, а не художников, ибо для последних сии приготовления должно делать совсем другим образом, а именно: сколько можно сохранить в них при снятии кожи ту самую форму, которую они под ней имеют, когда человек в живых еще находится». И далее: «Чтоб доказать справедливость своего заключения, г-н Буяльский приготовил один труп и представил его в этом виде г-ну Шебуеву. Сей истинный художник, удостоверясь, что новое анатомическое приготовление г-на Буяльского гораздо превосходнее тех, которые он в сем роде видел в Италии »42[2].
В этот период в рисовальных классах воспитанники академии досконально изучают натуру, внимательно наблюдают за каждой деталью формы, тщательно ее прорисовывают. Профессора академии следят за тем, чтобы натура была изображена не только правильно, но и выразительно, чтобы ученики изображали натуру такой, какой она находится перед ними в действительности, а не была похожа на мертвый гипс.
Отмечая это общее направление в методике преподавания академического рисунка, А. И. Иванов начинает даже беспокоиться — правильный ли метод преподавания избрала академия, не следует ли взять курс, которого придерживаются европейские академии. В своем письме к сыну от 9 мая 1839 года он пишет: «...теперь у нас в Академии, с преподаванием воспитанникам теории изящных искусств г. Григоровичем, строго держатся правила копировать натуру, что и весьма похвально, особливо когда натура предъявляется в хорошем виде, но как это бывает очень редко и даже невозможно найти человека во всех частях совершенным, то не следует ли те его несовершенства дополнять тем, чему художник научается предварительно в гипсовом классе, рисованием с антиков, и не должно ли приучать молодых людей к тому заблаговременно, чтоб не сделать их слепыми подражателями натуре без разбора»43[3]. А. И. Иванов боялся потерять классическое направление в методике преподавания рисунка, предусматривающее штудирование антиков. Он не учитывал, что чрезмерное следование античным канонам и классическим формам античных скульптур может привести к другой крайности — к отходу от реальной действительности, к идеализации, к потере внимательной академической студии.
Опасения А. И. Иванова были напрасными, время показало, что академией был избран правильный метод преподавания, давший прекрасные результаты. Все новое в методике преподавания рисования было закономерным развитием форм и методов обучения, которые были заложены еще А. П. Лосенко (рис. 30). Именно в этот период из академии выходят такие блестящие рисовальщики, как О. А. Кипренский, А. Е. Егоров, В. К. Шебуев, К. П. и А. П. Брюлловы, Ф. А. Бруни и многие другие. В своих академических рисунках они смогли не только показать высокие профессиональные навыки, но и ярко проявить свою индивидуальность. Это легко проследить на примерах выполнения учебных заданий.
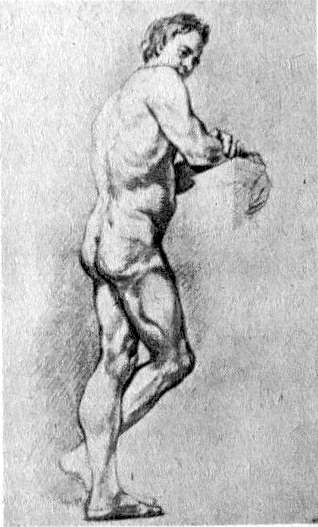
30. А. П. Лосенко. Рисунок с натуры
На работах Кипренского представлено два вида учебных заданий; линейно-конструктивный рисунок с легкой прокладкой тона (рис. 31) и объемно-пространственный, с тональной проработкой формы (рис. 32). На рисунках 33 и 34, исполненных Егоровым, — задания такого же характера, но решение их отличается от предыдущих, в чем проявилась индивидуальность художника. В линейно-конструктивном рисунке Кипренского (см. рис. 31) контурная линия более спокойная, в некоторых местах она сливается с фоном, увязывая форму с пространством. В рисунке Егорова (см. рис. 33) контурная линия более четкая, жесткая, даже когда художник ошибается в контурах, он уверенной рукой делает поправку (бедро вытянутой ноги, икроножная мышца, пятка). В длительных рисунках также легко обнаружит, индивидуальность художников. Кипренский модулирует форму очень мягко, тонко, границы светотеней сглаживает — переходы их еле заметны. Выявляя большую форму мышечных групп, художник старается все подчинить общему впечатлению (см. рис. 32). Егоров, наоборот, делает акценты на самом принципе выявления большой формы, он как бы обрубает основные объемы, выделяет градации светотени, подчеркивает ими характерную пластику форм человеческого тела. Это хорошо видно в лепке формы ягодиц, икроножных мышц (см. рис. 34).
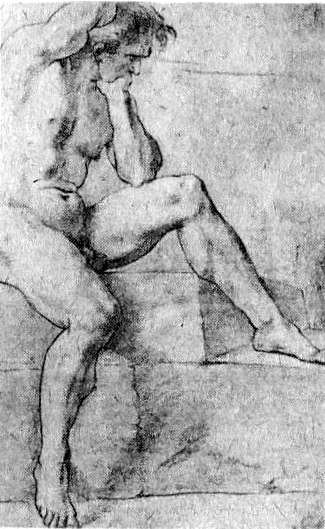
31. О. А. Кипренский. Академический рисунок
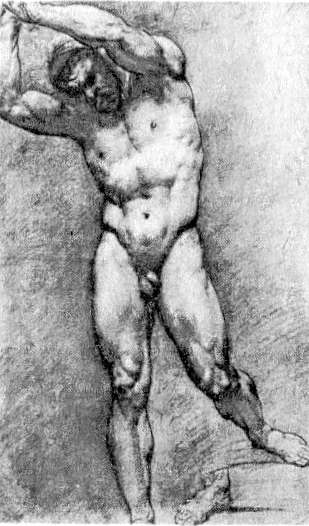
32. О. А. Кипренский. Академический рисунок
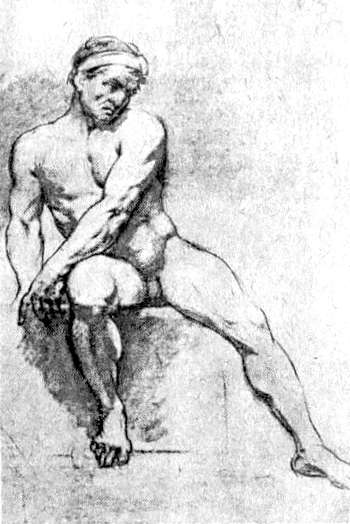
33. А. Е. Егоров. Академический рисунок
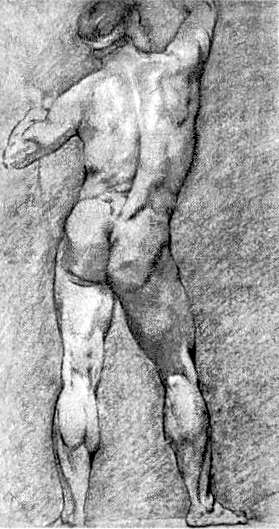
34. А. Е. Егоров. Академический рисунок
Работая над учебным рисунком, молодой рисовальщик познавал законы природы и законы построения изображения. Главным в этом деле было твердое знание схем, правил и канонов, которые помогали художнику в дальнейшем успешно справляться с творческими задачами. В композиционных набросках Кипренского отчетливо видны академические схемы конструктивного строения частей человеческого тела. Заученные каноны и схемы построения формы явились здесь отправной точкой в работе над рисунком, они выявляют конструктивную схему строения формы головы, торса, локтевых и коленных суставов (рис. 35, 36).
Подобно тому как правила в музыке и гармонические схемы ложатся в основу творчества будущего композитора, так и в рисунке правила, схемы и законы построения формы помогали художнику заниматься творчеством. Некоторые считают, что правила, схемы, каноны «сковывают» художника, однако практика показывает обратное. Схематический рисунок дает достаточно ясное представление о форме предмета, времени у художника отнимает немного и, таким образом, сосредоточивает все внимание художника на решении композиционного замысла.
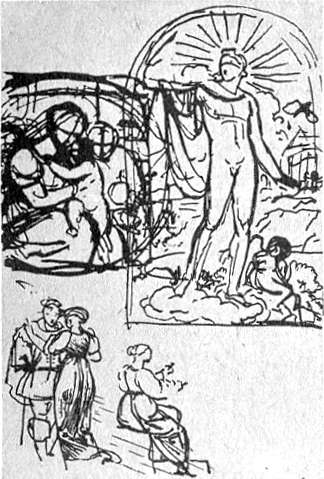
35. О. А. Кипренский. Композиционный рисунок

36. О. А. Кипренский. Композиционный рисунок
С этим доводом трудно не согласиться. Но существует и такое мнение, что постоянное употребление схем в конце концов «засушит» художника. И это неверно. Кипренский с пятилетнего возраста заучивал в академии схемы и каноны построения живой формы. Позднее они явились основой его творческой работы. В своих эскизах вместо реального изображения тела он постоянно употреблял схемы. Это мы видим, например, в изображении богоматери в круге, в фигуре Аполлона. Однако это не сделало его искусство условным. Наоборот, именно благодаря превосходному знанию закономерностей строения формы натуры он смог создавать необычайно жизненные и выразительные произведения искусства, как, например, портреты Г. Бакунина (рис. 37), Н. И. Салтыкова (рис. 38) и героев Отечественной войны 1812 года (рис. 39—41). Какой изумительной реалистической глубины образов добивался художник скупыми средствами карандашного рисунка!

37. О. А. Кипренский. Портрет Г. Бакунина

38. О. А. Кипренский. Портрет Н. И. Салтыкова

39. О. А. Кипренский. Портрет Е. И. Чаплица

40. О. А. Кипренский. Портрет А. Ланского

41. О. А. Кипренский. Портрет П. Ланского
Те же принципы построения рисунка мы видим и у К. П. Брюллова. В рисунке лежащего натурщика мы ясно видим схему расположения косых и прямых мышц живота, характер грудных мышц и схему расположения костей грудной клетки (рис. 42). Канонизированные основы академического рисунка в начале построения изображения даются схематично, упрощенно; постепенно в процессе прорисовывания они принимают новые формы выражения, более живые и экспрессивные. Если внимательно присмотреться к рисунку грудной клетки и живота, то можно увидеть еле заметные линии конструктивной схемы торса (рис. 43). Вначале художник наметил схему, а затем стал уточнять характер формы по натуре и придавать ей реальную форму живого тела.
Доскональное изучение натуры было основным условием в академическом обучении рисунку. Здесь мы говорим об этом потому, что до сих пор еще в некоторых художественных заведениях студенты и преподаватели боятся тщательной проработки рисунка, считая, что этот метод может воспитать натуралиста. В результате учебные рисунки не прорабатываются в надлежащей мере, кисти рук и ступни ног, как правило, не прорисовываются. В учебных рисунках прошлого века внимательно промоделирована каждая мышца, показаны даже кровеносные сосуды.
Профессора академии, уделяя серьезное внимание академической штудии, детальной проработке рисунка, в то же время большое значение придавали умению видеть большую форму, умению выразить в рисунке основную массу объема. Прекрасным образцом такой моделировки формы может служить рисунок П. Соколова (рис. 44). Этот и другие примеры — свидетельство не случайных достижений учеников Академии, а результат правильной методики обучения и воспитания художников. В этот период начинает получать свое развитие и рисунок по памяти. Правда, официального признания в системе курса рисования он еще не имел, но воспитанники академии уже сами почувствовали необходимость его и на свой страх и риск стали предлагать различные методы работы. Так, Ф. Толстой по совету оканчивающего академию О. А. Кипренского стал заниматься рисунком по памяти самостоятельно и придумал свою методику работы над ним. «Я придумал заготовить дома папку с такою же точно бумагой, какая была у меня в натуральном классе, для того, чтобы, приходя из Академии, рисовать на ней напамять натуру, поставленную в классе, и так продолжал рисовать всю неделю. Так я делал при каждой новой позе натурщиков, а также при постановке групп. Позже я завел у себя большую деревянную доску, выкрашенную черной краской и вылакированную, на которой рисовал мелом, тоже наизусть, в натуральную величину те модели, которые ставились в натурном классе. Этот мною изобретенный способ учиться принес мне много пользы, потому что ускорил и много способствовал изучению натуры»44[4].
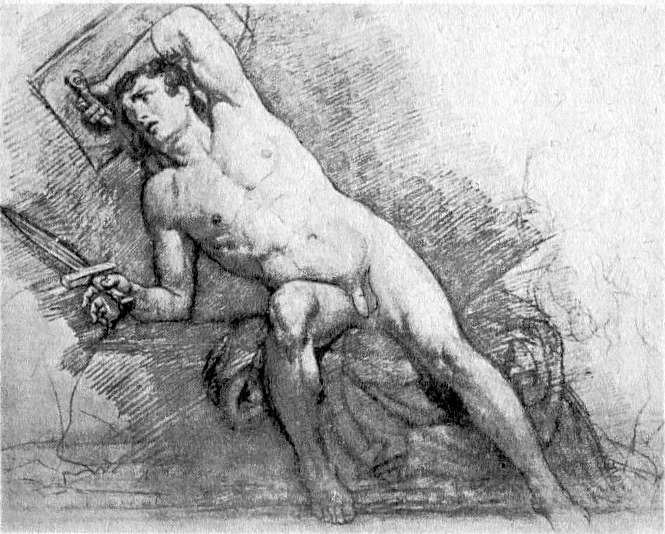
42. К. П. Брюллов. Академический рисунок
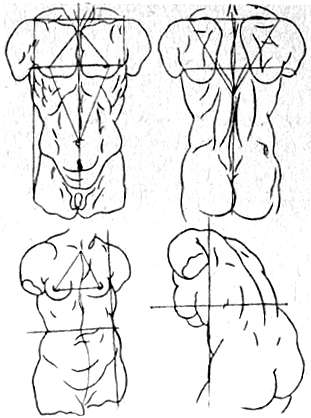
43. Схема строения торса. Таблица из старинного пособия
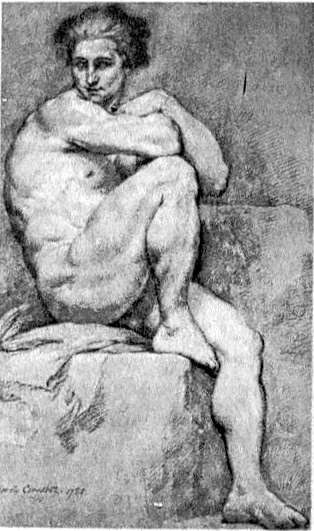
44. П. И. Соколов. Академический рисунок
Развитию рисования как учебного предмета и методики его преподавания во многом содействовал президент Академии художеств А. Н. Оленин (1763—1843). Это был образованнейший человек своего времени, большой знаток не только живописи, скульптуры и архитектуры, но и музыки, литературы. Характеризуя деятельность Оленина, Н. Молева и Э. Белютин пишут: «Личные вкусы и убеждения нового президента, совпадая отчасти и с общими взглядами правительства, обусловливали особую активность Оленина в проведении отдельных официальных установок в отношении искусства. В то же время, будучи незаурядным организатором и хорошо разбираясь в вопросах методики преподавания и построения учебного процесса, Оленин немало сделал для укрепления Академии и дальнейшего развития ее педагогической системы. Его прямой заслугой было полное переоборудование академических классов и мастерских сообразно с требованиями современной методики, улучшение постановки преподавания ряда общеобразовательных, и специальных дисциплин, как, например, перспективы и анатомии, и, наконец, участие в пересмотре методики обучения рисунку, живописи и перспективы, который производился передовыми педагогами Академии на новой научной основе»45[5].
Особое внимание Оленин обратил на теоретическую подготовку молодых художников. Понимая, что практика без теории слепа, Оленин мечтает создать ряд учебников для художников, в которых всесторонне освещались бы вопросы искусства. С этой целью Оленин разрабатывает проспекты этих учебников: «Опыт полного курса правил рисования и анатомии для питомцев Императорской Академии художеств», «Курсы теории и начальной практики в подражательных искусствах», «Курсы теории архитектуры и строительного искусства», «Курсы обычаев древних, средних и новейших народов». Одновременно с этим он стал подбирать и авторский коллектив для разработки этих пособий. Для создания «Опыта полного курса правил рисования и анатомии» Оленину удалось привлечь к работе замечательного художника-педагога В. К. Шебуева46[6].
А. Н. Оленину принадлежит заслуга в реорганизации учебно-воспитательной работы в академии. В целях повышения качества творческо-композиционной работы для воспитанников академии Оленин организует класс манекенов, «...где манекенов в человеческий рост одевали в римский и греческий костюмы; здесь находились также греческие шлемы и латы, сделанные из латуни, туники — греческая, римская, египетская и многие другие вещи»47[7].
Оленин старался улучшить условия работы в рисовальных классах и снабдить необходимыми материалами: «В натурном классе до него рисовали красным карандашом, что было крайне неудобно, так как от малейшей ошибки оставалось пятно. Алексей Николаевич подметил это неудобство и вместо красного ввел олонецкий карандаш — это был превосходный графит без глянца. К тому же карандашей, равно как и бумаги, весьма неудобной для рисования, отпускалось недостаточно, да и то с трудом; резинка выдавалась только архитекторам, а живописцы должны были стирать ошибки куском калача. При Оленине все эти неудобства были устранены, взамен прежней бумаги введена ольхинская бумага толстая, вроде нынешней английской Ватмана»48[8].
Как президент академии, Оленин с большой душой отдавался своему делу: «Алексей Николаевич чуть ли не каждый день посещал академию; случалось нередко, он приезжал и по ночам. Во все вникал сам, доверял только себе и никому более; все распоряжения исходили от него самого»49[9].
Серьезное внимание было обращено на методику преподавания художественных дисциплин и прежде всего рисунка. Оленин считал, что в каждом классе (оригинальном, гипсо-фигурном, натурном) педагог должен обстоятельно, в соответствии с методической последовательностью раскрывать и наглядно показывать сущность того или иного положения академического рисунка, помогая тем самым воспитаннику академии быстрее и увереннее овладевать искусством. Только тщательно разработанная методика поможет академии успешно решать свои задачи. Администрация академии не должна уповать только на творческий опыт своих художников-педагогов, необходима научно-теоретическая разработка методов преподавания, «составление особых учебных книг, служащих для наставления учащихся в теории и начальной практике изящных искусств». И в этом плане А. Н. Оленин как администратор сделал очень многое.
Итак, к середине века русская Академия художеств выдвинулась в первый ряд художественных академий Европы. Один из современников писал: «Наша академия, по своему способу преподавания, стоит наравне (а в некоторых отношениях и выше) с лучшими в Европе. Воспроизведение натуры у нас строже всех»50[10].
К этому времени в академии была создана стройная система художественного образования и воспитания, а также своя особая традиция. Высококвалифицированный состав профессоров создал академии репутацию первоклассного учебного заведения. Иностранные художники считали за честь быть в ее составе.
Воспитанники русской академии показали всему миру, насколько серьезно было поставлено в России обучение: Кипренский написал портрет своего приемного отца Швальбе, который неаполитанская Академия приняла за работу Рембрандта; убедившись, что автором был молодой художник, она провозгласила его «русским Ван-Диком»; А. Е. Егоров 51[11] 52[11] прославился, как «российский Рафаэль» и замечательный педагог рисунка; о Шебуеве говорили, что он выше Пуссена; картина К. Брюллова «Последний день Помпеи» прославила художника во всех странах и его встречали как триумфатора.
В своих произведениях Лосенко, Иванов, Акимов, Угрюмов, Егоров, Шебуев, Кипренский и Брюллов дали блестящие образцы искусства, которые являлись результатом академического обучения. Каждый живописец, скульптор, архитектор того времени прежде всего был прекрасным рисовальщиком. Н. Кукольник писал: «От Лосенко до наших времен все наши лучшие художники обладали твердым и правильным рисунком, а это должно отнести к заслугам нашей Академии» 53[12] . .
Правила и законы рисунка, которые Академия художеств раскрывала перед учениками, облегчали им понимание закономерностей строения формы. Знание законов изобразительного искусства предостерегало художников от грубых ошибок и помогало им правильно изображать предметы реального мира. Не интуитивным путем, а благодаря полученным глубоким знаниям достигали мастера искусств высокой ступени художественной культуры.
Среди замечательных русских художников-педагогов, работавших над проблемами учебного рисунка, особое место занимает Василий Кузьмич Шебуев (1777—1855) 54[13] 55[13] . Он воспитал замечательную плеяду русских художников: А. А. Иванова, К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни, П. В. Басина и многих других. Шебуев был не только превосходным живописцем, но и великолепным рисовальщиком. Его рисунки, хранящиеся в Государственной Третьяковской галерее и Русском музее, убедительно свидетельствуют о его великом даровании.
С первых же дней своей педагогической деятельности в академии Шебуев взялся за составление руководства по антропометрии. А. Андреев писал: «Кроме примера и уроков его, он увековечил свое имя изданием и составлением обширного курса антропометрии, или практической художественной анатомии, руководства, приспособленного к современному состоянию науки, чего совершенно недоставало для наших молодых художников» 56[14] 57[14] . .
Шебуев понимал, что для правильного изображения фигуры человека необходимо хорошо знать ее строение. Рассматривая рисование как учебный предмет, Шебуев считал, что каждое положение рисунка должно быть научно обосновано. Этой работе он посвятил всю свою жизнь.
В 1812 году Шебуев был назначен преподавателем рисования во всех воспитательных заведениях Санкт-Петербурга и получил звание профессора. В этот период он стал особенно интересоваться педагогическими проблемами и вопросами методики преподавания. Будучи противником метода пассивного обучения рисунку по образцам, он по предложению А. Н. Оленина взялся за составление «Полного курса правил рисования и анатомии для воспитанников Академии художеств». В 1822 году Шебуев закончил свой труд. В одном из документов архива Академии художеств читаем: «...приготовляем к изданию предпринятое им (Шебуевым. — Н. Р. ) весьма важное классическое творение, содержащее курс рисования тела человеческого и курс анатомии для художников. Творение сие, которому, по обширности его предположения, еще нет подобного ни у одного народа, будет самым прочным памятником для сего художника» 58[15] 59[15] . Об этом писал в 1823 году и «Журнал изящных искусств»: «Профессор Шебуев составил опыт о размере, образований и анатомии человеческого тела. Рисунки его с натуры костей и мускулов превосходят все, что было создано доселе в чужих краях» 60[16] 61[16] . .
Будучи загружен самой различной работой, Шебуев так и не успел при жизни издать свой курс рисования. 17 июня 1855 года он скончался. Чтобы увековечить имя Шебуева, академия решила выпустить в свет «Курс рисования», составленный им. Но труд этот так и не был издан. Денег на издание учебника казна не отпустила.
Следует отметить, что свою работу Шебуев переделывал три раза. Курс правил рисования содержал 150 рисунков. Некоторые рисунки, например голова, кисти рук и следки ног, были даны в натуральную величину. Все это было приведено в строгую систему. После Шебуева уже никто не взял на себя труд составить что-либо подобное. Даже такой замечательный педагог, как П. П. Чистяков, и тот не решился изложить свои мысли в систематизированном виде.
Работая в архивах, автору этого пособия удалось собрать материал, который дает возможность ознакомить читателя с содержанием учебника Шебуева. Учебник состоял из четырех книг. На титульном листе первой книги был изображен наставник, указывающий рукой на рисунок, и около него три мальчика (рис. 45).
Изучение рисунка начинается с линий и плоскостей, затем идут тела «в прямом их виде». После этого начинающие художники знакомятся с основами перспективы и изображением предметов в перспективных ракурсах.
Здесь Шебуевым предложена своя методика рисования, возможно основанная на системе «поверочного рисования». Об этом мы узнаем по кратким упоминаниям П. П. Чистякова. Видимо, эта методическая проблема волновала Шебуева так же глубоко, как и методы раскрытия законов антропометрии, и П. П. П. Чистяков об этом знал: «— А все-таки система поверочного рисования, о которой хлопотал Леонардо да Винчи и которую старался разрешить наш Шебуев, система, где научная картинная плоскость применяется как посредник между рисующим и предметом, который он рисует, система, которая относительно справедливости ставит гения из гениев на одну доску с начинающим учеником, выдумана и приведена в ясность, без заимствования с иностранного истинно русским человеком» 62[17] 63[17] . После рисования простых предметов ученик переходил к рисованию гипсовых голов. Изучение головы начинается с анализа деталей — глаз, носа, уха, губ, где раскрывается конструктивная основа формы и пропорции. Затем изучается конструктивная основа головы, костяк и пропорции (рис. 46—48).
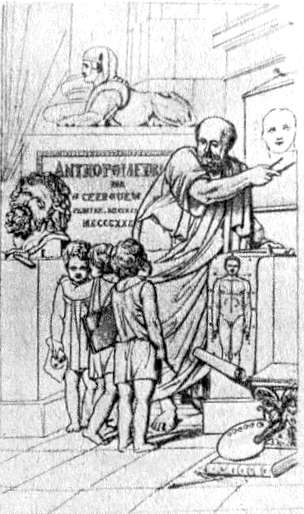
45. В. К. Шебуев. Титульный лист пособия
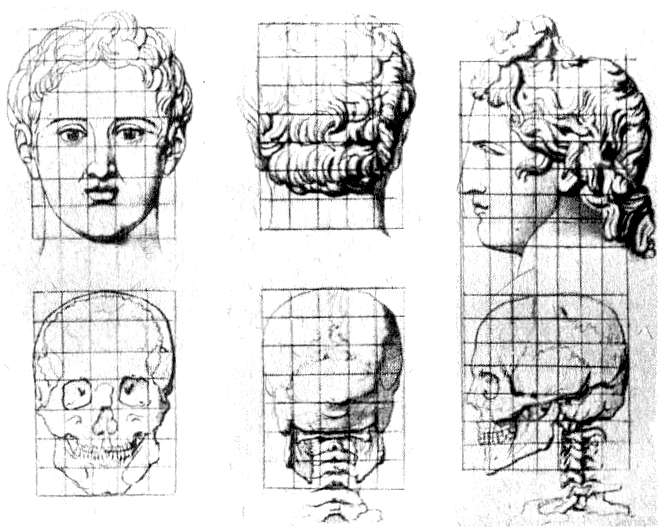
46-48. В. К. Шебуев. Таблицы из пособия
Вторая часть курса была посвящена строению человеческой фигуры. Изучение по-прежнему начиналось с разбора отдельных частей. Далее рисовальщики знакомились с пропорциями и конструктивной основой шеи, плеч с грудью, торса, рисовали «остов до окончания таза» во всех положениях «в костях и покрытых телом», кисти рук «в костях и теле», локти, руки с кистями, «ляшки с коленками» со всех сторон, «коленки особо», следки со всех сторон, ноги со следками.
В третьей части, «Полный размер тела человеческого», рассматривается рисование фигуры человека. Вначале даются сведения о пропорциях, затем об анатомическом строении мужской и женской фигур, затем «размеры разных возрастов» и «немеханическое движение членов в теле человеческом».
Четвертая часть содержит методические советы, как надо работать с натуры, как применять знание законов перспективы и пластической анатомии в рисунке.
Девяносто рисунков Шебуев сам перевел в гравюру на меди. При большой педагогической работе Шебуев не прерывал и своей творческой работы. В этом отношении он служит блестящим примером художника-педагога.
В 1832 году, став ректором Академии художеств, Шебуев особенно ревностно стал следить за художественным образованием воспитанников. Он постоянно посещал рисовальные классы, давал ученикам разъяснения, изготовлял для них анатомические муляжи. Н. Рамазанов пишет; «Анатомические фантомы из папье-маше для анатомического театра Василий Козьмич расписывал сам красками, при содействии учеников» 64[18] 65[18] . .
Изучение наследия Шебуева показывает, что метод обучения Шебуева был реалистическим. Он стремился приблизить ученика к природе, к познанию объективных законов строения формы. Это нашло отражение и в творчестве самого Шебуева (портрет Швыкина, «Нищий старик», «Подвиг купца Иголкина» и другие произведения). Такое направление было новым, прогрессивным в системе академического образования.
Особо нужно сказать о научно-исследовательском подходе к делу. Так, устанавливая пропорциональную закономерность строения человеческого тела, Шебуев исходит не из приблизительных расчетов классического канона, а ищет более точную и удобную в употреблении меру. В архивных материалах мы читаем по этому поводу: «Г-н Шебуев, взяв за образец красоты европейских народов голову Аполлона Бельведерского, после многих над нею исследований наконец решился разделить ее по удобности на семь равных частей, которые должны уже служить мерою всем другим мелким частям тела человеческого. Определив таким образом сию новую начальную меру, он расположил очертание головы по весьма основательному соображению в прямых квадратных линиях, а не в круглых или овальных, как то доселе почти всеми художниками употреблялось» 66[19] 67[19] . .
Как мы видим, уже с начала XIX века вопросам методики преподавания рисования уделяется большое внимание как в практическом, так и в теоретическом плане. В различных фундаментальных по тому времени теоретических трудах закладывались научные основы методики преподавания рисования. Среди них: Иванов А. Понятие о совершенном живописце. СПб., 1789; Чекалевский П. Рассуждение о свободных художествах. СПб., 1792; Урванов И. Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанное на умозрениях и опытах. СПб., 1793; Виен И. И. Краткое историческое обозрение скульптуры и живописи с полным показанием сильного влияния анатомии в сии два свободных художествах. СПб., 1803; Гевлич А. Об изящном. СПб., 1818; Войцехович А. Опыт начертания общей теории изящных искусств. М., 1823, Басин П. В., Сапожников А. Л. Анатомия для живописцев-скульпторов, СПб., 1823, и другие.
В этих трудах давались принципиальные установки в направлении всей учебно-воспитательной работы. Овладевать искусством рисунка следует не механическим путем, а на основе познания закономерностей окружающей действительности, «подражание» природе в рисунке должно быть не слепым, а разумным. Так, И. И. Виен пишет: «Не следует также думать, что знания по анатомии могут быть получены одним срисовыванием с натуры модели, без анатомического разбора, это бессмыслица, потому что позирующая нам модель, воспроизводящая какое-либо движение, через несколько минут утомляется, она принуждена искать себе упор, как-то обыкновенно в палке или веревке, дабы продлить и сохранить намеченное движение. Но сие напрасно! Модель уже не та и показывает противное природе, предъявляя взору копировать слабые и спадшие мышцы там, где бы они должны быть пухлыми и напряженными.
Поэтому часто изображаются неверные контуры в тех местах, где бы им следовало быть иными» 68[20] 69[20] . .
Уже в этих словах автор ставит перед педагогом целый ряд методических вопросов; об организации наблюдения натуры, о постановке натуры и ее использовании в учебной работе, о методике организации учебных занятий. Главное, что должно помогать художнику, — это науки.
Не интуиция и природное дарование служат художнику в работе, а знание геометрии, перспективы, оптики, механики и анатомии с ее основными разделами — остеологией, миологией, антеологией.
Выражая прогрессивные взгляды представителей академической системы обучения искусствам, поэт Княжнин писал:
Без просвещенья напрасно все старанье:
Скульптура — кукольство, а живопись — маранье.
Академическая система обучения рисунку и методика его преподавания разрабатывались на основе научного обоснования каждого положения, на разумном использовании каждого действия художника. Разум считался главной действующей силой искусства. Совершенствование человеческого разума, распространение просвещения могут не только привести искусство к небывалым высотам, но и уничтожить неравенство между людьми. Под влиянием разума люди способны очиститься и переродиться, и не только каждый человек в отдельности, но и все общество. Такие идеи и мысли содержатся почти во всех теоретических трудах по искусству того времени.
«Истинная и благороднейшая цель искусства состоит в том, чтобы сделать добродетель ощутительною, предать бессмертию славу великих людей, заслуживших благодарность Отечества, и воспламенить сердца и разум к последованию», — читаем мы в книге А. Писарева «Предметы для художников» (СПб., 1807).
Указывая на современное состояние эстетических взглядов, А. Гевлич в книге «Об изящном» пишет: «В наше время все измеряют математически, и самые удовольствия воображения и сердца подчинили холодной строгости рассудка». Подчиняясь таким законам, художник, естественно, видит свою цель в том, чтобы затрагивать разум, а не человеческие чувства, просвещать и возвышать, а не услаждать и развлекать человека.
Для своего времени эта система художественного образования была полна благородного пафоса, веры в человеческий разум, в чистоту морали, построенной на законах разума. Особенно благотворное действие эта система оказала на академический рисунок, на методы его преподавания, на развитие методики.
Исследуя историю становления и развития методов преподавания рисования в России, мы видим, что достижения в области методики обучения рисунка явились результатом огромной работы отечественных деятелей искусства. В иностранной и отечественной литературе долгое время указывалось, что русская школа академического рисунка целиком и полностью обязана зарубежным специалистам. Эту несправедливость отмечали уже и современники. В «Журнале изящных искусств» мы читаем: «Может быть — по предрассудку весьма неблагоприятному для Отечества, но, к несчастью, вкоренившемуся почти повсюду, долго еще будут отдавать преимущество иностранным, но торжество Русского, природного Гения будет некогда тем блистательнее, чем труднее было превозмочь невыгодное мнение самих соотечественников» 70[21] 71[21] . .
Однако авторитет русской Академии был очень высок. Как мы уже говорили, к этому времени Академия художеств становится центром методической работы по вопросам изобразительного искусства по всей России. Здесь зарождались новые взгляды на искусство и утверждались научные методы преподавания изобразительных искусств для целой сети русских учебных заведений; обсуждались вопросы постановки преподавания не только в самой академии, но и в других художественных школах, училищах, на курсах. Так, Арзамасская школа живописи Р. Ступина находилась под покровительством Академии художеств 72[22] 73[22] . Венецианов постоянно обращался в академию за советом и помощью, рисовальная школа Общества поощрения художеств имела тесный контакт с академией.
Развитие методов обучения в это время идет по восходящей. Не только совершенствуется методика академического обучения, но и начинают самостоятельно развиваться частные системы отдельных художников-педагогов.
Школа А. Г. Венецианова организовалась в 1820-е годы XIX века по типу частных мастерских XVIII века. Видимо, примером для Венецианова послужила частная мастерская В. Л. Боровиковского, у которого он в свое время учился. Это наложило отпечаток на педагогические взгляды Венецианова и на методы преподавания изобразительного искусства.
Хотя Венецианов и советовался с профессорами Академии художеств, все же его метод работы с учениками был отличен от академической системы. Венецианов считал, что основой метода обучения рисунка должно быть рисование с натуры с самых первых шагов обучения. Копирование образцов на начальной стадии обучения рисунку Венецианов считал ненужным и даже вредным. «У него была своя собственная метода преподавания. Он отвергал первоначальное рисование с так называемых оригиналов. Он начинал учение прямо с гипсов и с других предметов, каковы коробочки, яйцо, стул, фуражка, корзинка, находя, что ученик этим способом вместе с линиями привыкнет и к осязанию форм» 74[23] 75[23] . .
Художник, по мнению Венецианова, должен постоянно иметь связь с реальной действительностью, в то время как классическая система художественного воспитания подавляет индивидуальные качества рисующего. Обучая грамоте искусства, педагог должен внимательно относиться к индивидуальности каждого ученика. «Алексей Гаврилович умел передавать всем ученикам своим одно начало, но давал полную свободу развиваться особенностям их талантов; даже учил он нас не одинаковым образом: приноравливался к способностям каждого и только помогал ему своею методою, так сказать, только слегка наталкивая его на прямую дорогу, и оттого каждый шел по-своему хорошо, каждый развивал особенность своего дарования. Это умение давало то, что все ученики шли ровно, никто не выскакивал вперед; а это весьма важное достоинство в преподавателе» 76[24] 77[24] . Это было новым в педагогической системе преподавания рисования.
Главным в овладении искусством рисунка Венецианов считал научные знания, и прежде всего о перспективе. Без научных знаний художник превращался в ничто. Однако науку о перспективе Венецианов понимал по-своему. Под термином «перспектива» он объединил все научные положения академического рисунка. Отсюда его «перспективы» делились на две части: практическую и теоретическую. К практической перспективе он относил приемы перспективного построения изображения на плоскости, при этом научные положения упрощались до предела. К теоретической перспективе он относил теорию теней, анатомию и эстетику. «На рисование или живопись я всегда смотрел со своей точки», — говорил Венецианов. Умение видеть и изображать — это и есть «перспектива» в понятии Венецианова. Конечно, такое смешение понятий заставляло многих смотреть на Венецианова как на провинциала, да и сам Венецианов не сумел разрешить те задачи, которые поставил перед собой. В этом он признался после выхода в свет книги А. П. Сапожникова «Курс рисования»: «Мои многолетние старания о приспособлении начертательной геометрии к живописи убедили меня в необходимости изучения сей науки, а опытами над многими молодыми людьми я имел случай еще более убедиться в важности ее: ибо видел быстрые успехи учения, основанного на ее началах; впрочем, мне не удалось еще подчинить моих опытов, привести к твердым правилам, потому в особенности, что беспрерывно открывались новые, легчайшие, и еще потому, что не имел и времени. Теперь же отличнейший труд почтеннейшего Андрея Петровича Сапожникова... восхитил меня и оживил; это издание внесло любовь мою к художествам тем высоким чувством удовольствия, которое свойственно человеку, надеющемуся на прекрасную будущность для любимого им предмета занятий; с удовольствием сердечного наслаждения сознаюсь даже, что я никогда не имел столько силы, терпения и знания порядка в изложении первых правил рисовального искусства, словом, все тех достоинств, какие вижу в отличной книге Андрея Петровича, с помощью которой каждый родитель или наставник могут взять научно приготовленные для сего фигуры (тела) или сделать линейку, квадрат, куб, цилиндр и конус, заставить ребенка смотреть на них и чертить с них, а от них переходить к вещам, у каждого в комнатах находящимся, сравнивать линии стола и стула с линиями квадрата и куба, подсвечника, чашки и прочего с цилиндром и конусом и так далее» 78[25] 79[25] . .
Однако ученики Венецианова стремились развить дальше педагогические стремления своего учителя и то положительное, что ему удавалось достигнуть в разработке методов преподавания рисования. Так, С. К. Зарянко, продолжая дело Венецианова, прекрасно понял главное, за что ратовал известный педагог, раскрывая ученикам правила и законы перспективы, — он стремился к простоте и наглядности. Для этого, считал Зарянко, нужно упростить способы изучения. «Перспектива должна быть до крайности проста и сразу понятна каждому ученику, а для этого... необходимо проделать ряд простейших опытов, чтобы ученик воочию убедился, как все происходит в действительности» 80[26] 81[26] . .
Проделывал ли подобные опыты Венецианов — неизвестно, но те его рассуждения, которые он излагает в статье «Нечто о перспективе», аналогичны данному примеру (Правило I) 82[27] 83[27] . .
Основополагающим в преподавании рисования Венецианов считал поиски такого метода, который бы ближе подводил ученика к натуре, выработку таких правил, которые в простой и ясной форме раскрывали бы сложные законы природы и искусства.
Конечно, полностью согласиться со всеми положениями Венецианова мы не можем, как не могли согласиться и его современники — профессора Академии художеств. Вместе с тем в области методики преподавания Венецианов сделал очень много. Он первый правильно подошел к методике преподавания как к творческому процессу и справедливо подчеркивал роль и значение метода преподавания. Если в Академии художеств методика преподавания рисунка была достаточно ясной, устоявшейся, не требующей особого напряжения от педагогов, так как состав учеников был однородный, то в школе Венецианова этого не было. Ученики в его школе имели самую различную подготовку и уровень развития, их надо было объединить, найти правильный подход к каждому. Одной «методой» обучать всех учеников было невозможно, необходимо было подыскать индивидуальную методику для работы с каждым в отдельности, а это требовало больших усилий, творческого подхода к построению учебного процесса.
До Венецианова над этими сугубо методическими вопросами серьезно никто из художников не задумывался, он первый обратил на них должное внимание. Венецианов одним из первых понял, правда интуитивно, что преподавание искусства — это также искусство. Этим сложным искусством многие профессора Академии художеств не владели.
Метод работы Венецианова с детьми близок методике работы учителей общеобразовательных школ и педагогов учреждений — руководителей кружков, студий, Дворцов культуры. Этот материал может заинтересовать руководителей домов народного творчества, вдохновить их на поиски новых методов и приемов обучения рисунку 84[28] 85[28] . .
Общая постановка художественного образования в Академии художеств, правильный подход к рисунку и методике его преподавания оказали благотворное влияние и на развитие методики преподавания рисования как общеобразовательного предмета. Рисование в этот период преподается во многих учебных заведениях, и вопросы методики преподавания начинают волновать преподавателей рисования. В 1804 году школьным уставом рисование вводится в число учебных предметов во все уездные училища и гимназии. Это потребовало большого количества учителей рисования. Учитывая запросы школы, в 1825 году по инициативе графа С. Г. Строганова в Москве основывается Училище технического рисования, где было отделение, специально готовившее учителей рисования для общеобразовательной школы. В 1843 году Министерством народного просвещения было издано циркулярное предложение о замещении учителей рисования, черчения и чистописания в уездных училищах учениками школы Строганова.
Ощущается острая необходимость в учебных и учебно-методических пособиях. Пособия и руководства по рисованию, которыми пользовались в общеобразовательных учебных заведениях, были предназначены в основном для специальных художественных заведений и начинающих художников. Для общеобразовательных школ требовалось иное направление. В 1834 году выходит в свет «Курс рисования», составленный военным инженером, известным художником-любителем А. П. Сапожниковым. Это было первое методическое пособие по рисованию, предназначенное для общеобразовательных учебных заведений, автором которого был русский художник. В нем указывались новые направления в преподавании рисования, а само рисование рассматривалось не только как специальный учебный предмет, но и как общеобразовательный. В предисловии к изданию 1879 года автор писал: «...цель, с которою учреждены рисовальные классы в большей части учебных заведений, состоит не в том, чтобы сделать из учеников художников, но в том, чтобы развить в них способность изображать на бумаге видимые предметы понятно и правильно» 86[29] 87[29] . .
По-новому Сапожников подошел и к методике преподавания рисования. Он поставил своей задачей приучить рисовальщиков во время работы мыслить, рассуждать, анализировать. Этой цели и служила серия моделей из проволоки и картона, которые помогали учащимся понимать строение формы предмета, явления перспективы и законы светотени (рис. 49, 50). Немалую роль в этом деле сыграли его занятия с Шебуевым, вместе с которым он изготовил анатомические муляжи.
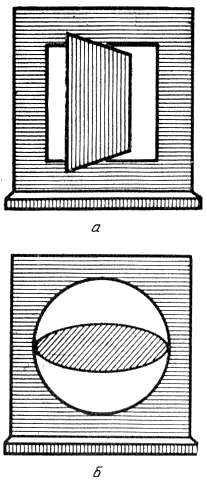
49. А. П. Сапожников. Прибор для демонстрации
явлений перспективы: а) квадрата, б) окружности
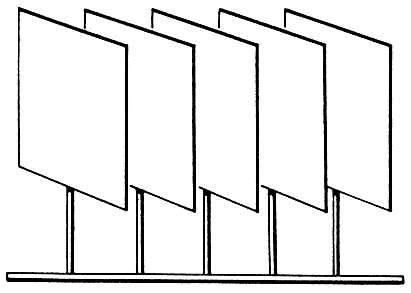
50. А. П. Сапожников. Прибор для демонстрации явлений светотени
Метод преподавания рисования, предложенный Сапожниковым, произвел переворот в учебно-воспитательной работе. Обучение рисованию во всех общеобразовательных учебных заведениях до выхода пособия Сапожникова проходило исключительно по книге Прейслера, причем царило сплошное копирование с оригиналов. Рисованию с натуры почти не уделялось внимания, а над методом раскрытия отдельных положений реалистического рисунка никто серьезно не задумывался.
Сапожников указывал, что лучшим средством помочь ученику правильно построить изображение формы какого-либо предмета является метод ее упрощения в начальной стадии рисования. Вначале ученик должен определить геометрическую основу формы предмета, а затем уже переходить к уточнению. «Одним из таких способов является способ разложения любого из видимых предметов на простейшие геометрические фигуры, каковы треугольники, четырехугольники и тому подобное, — писал Сапожников. — Нет животного, птицы, насекомого, цветка, растения, формы которых в общем не могли быть окованы сказанными фигурами; нет почти случая, где фигуры эти не послужили бы остовом для описания около последнего подробностей контура данного предмета» 88[30] 89[30] . .
По мнению Сапожникова, учитель должен не столько выправлять рисунок ученика, сколько объяснять его ошибку словесно. «Обучающий должен поправлять рисунки учеников словами и уметь доводить учеников вопросами до того, чтобы они по собственному соображению могли правильно направлять каждую из поставленных перед ним новых моделей, следующих одна за другой по порядку преподавания» 90[31] 91[31] . Для достижения этой цели и служат методические модели. Модели у Сапожникова служат не для срисовывания, а для раскрытия закономерностей строения натуры. Они находятся рядом с натурой и помогают ученику разобраться в особенностях конструкции формы. Так, при рисовании гипсовой головы Сапожников предлагает пользоваться проволочной моделью: «Быв поставленная рядом и в том же повороте с гипсовою головою, служащею для образца, она может пояснить перспективное изменение частей, ее составляющих» 92[32] 93[32] (рис. 51).
Новый метод, предложенный Сапожниковым, нашел самое широкое распространение не только в общеобразовательных школах, но и в специальных художественных учебных заведениях. Успех нового метода преподавания объяснялся тем, что он наглядно и просто раскрывал самые сложные моменты анализа формы предмета при помощи наглядных средств.
Все специалисты и критики давали самую высокую оценку методу Сапожникова, однако в методической литературе имя его не было должным образом отмечено. Много писалось и говорилось о методе братьев Дюпюи, Гальяра, указывалось, что их метод «новейший и лучший метод обучения», а об А. П. Сапожникове не было ни слова. Между тем метод Сапожникова имел много общего и с моделями Дюпюи, и с моделями Гальяра, и опубликован он был раньше (метод Сапожникова — в 1834 году, Дюпюи — в 1842, а Гальяра — в 1844 году). Кроме того, метод Сапожникова имел преимущество по сравнению с методом Дюпюи. Дюпюи использовал методические модели в качестве натуры, Сапожников же предлагал свои модели только в качестве наглядного пособия для раскрытия закономерностей строения формы, законов светотени и перспективных явлений.
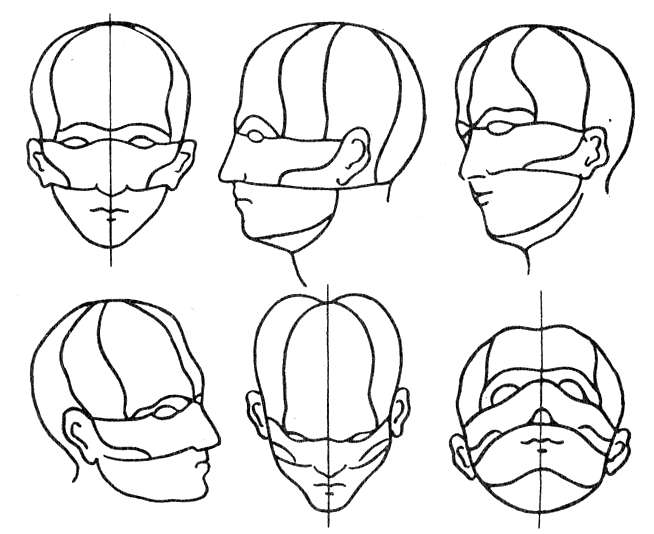
51. А. П. Сапожников. Конструктивная модель головы
Положительные моменты методики преподавания А. П. Сапожникова не потеряли своей значимости и в наше время.
«Курс рисования» Сапожников начинает со знакомства с различными линиями, затем углами, после чего идет освоение различных фигур. Прежде чем приступить к рисованию объемных предметов, Сапожников предлагает продемонстрировать учащимся с помощью специальных моделей законы перспективы, опять начиная с линий, затем переходя к различным поверхностям и, наконец, к геометрическим телам.
Законы распределения света на поверхности формы предметов Сапожников также объяснял с помощью наглядных методических пособий. Это белые, согнутые различным образом картонки, а также картонки, поставленные в различных положениях по отношению к падающему свету, служащие для наблюдения света, тени, полутени, рефлексов и падающих теней. Освещение круглых тел объясняется точно так же, как и многогранных. Рисующий представляет себе для этого только грани, постепенно все уменьшающиеся по своей ширине до тех пор, пока они не сольются в одну поверхность.
Заканчивалась первая часть «Курса...» рисованием головы человека.
Вторая часть «Курса...» посвящена рисованию человеческой фигуры, а также некоторым правилам композиции. Сапожников эту часть считал дальнейшей ступенью в обучении рисованию, а также в последующем приобщении любителей искусства к творческо-композиционной работе. Однако, несмотря на лаконизм и краткость изложения учебного материала, эта часть «Курса...» вышла за пределы тех скромных задач, которые ставил перед собой Сапожников. Она была приемлема не только для самодеятельных художников, но и для художников-профессионалов и в дальнейшем стала использоваться как учебное пособие в специальных художественных учебных заведениях. Поэтому в первых изданиях эта часть начиналась с XX главы, а в последующих — с I главы как самостоятельное учебное пособие для художников.
Изложение материала во второй части пособия начинается со знакомства с размерами человеческого тела и скелетом. Сапожников пишет: «Основою человеческого тела служат кости, соединенные в своих сочленениях и составляющие общую связь, называемую скелетом …Длина костей взрослого человека не изменяется, полнота же и худощавость тела его зависят от увеличения и уменьшения объема мускулов, следовательно, что при размере человеческого тела, правильнее принять в основание положение и пропорцию его костей» 94[33] 95[33] , фигуру человека Сапожников, как и Лосенко, разбивает на 30 частей. Единицей измерения служит высота стопы — «вышина следка» (рис. 52).
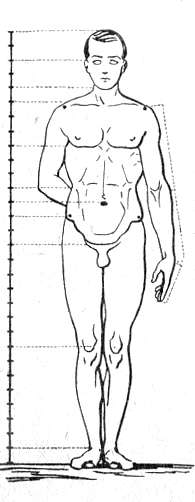
52. А. П. Сапожников. Пропорции фигуры человека
Глава «Об основных точках человеческого тела» повествует об узловых пунктах (точках), на которые рисовальщику надо обратить особое внимание, так как они являются основными ориентирами, в каком бы положении тело человека ни находилось. «Зная сущность и необходимость основных точек,— говорит Сапожников, — для верного изображения положения целой фигуры человека, надобно с подробностью рассмотреть их на каждом члене и, вместе с тем, указать на зависимость движения этих членов» 96[34] 97[34] . .
В главе «Равновесие человеческого тела» Сапожников знакомит рисовальщика с законами равновесия тел (статикой) и правилами изображения человеческой фигуры в движении (рис. 53, 54). Автор наглядно показывает, как надо устанавливать ось равновесия: вертикаль должна пройти от яремной ямки к середине расположения пяток, если фигура опирается на две ноги; если фигура опирается на одну ногу, то вертикаль соединяет яремную ямку и середину пятки, на которую опирается человек. В последнем случае надо учитывать, что кости таза сместятся в сторону той ноги, на которой человек стоит. Оси плечевого и тазобедренного суставов также изменят свое направление: ось таза от ноги упора пойдет книзу, а плечевого пояса — в противоположную сторону. «Художнику, копирующему натурщика (который в постановке своей невольно должен сохранить равновесие), можно ограничиться знанием простейших начал статики; они необходимы для руководства в рисунке, потому что облегчают понятие о равновесии человека и определяют с точностью движение и постановку его фигуры» 98[35] 99[35] . .
Заканчивается раздел рисования человеческой фигуры методическими указаниями для преподавателей, где автор подчеркивает важность активизации познавательной деятельности учащегося во время рисования с натуры: «Обучающий, установя натурщика, указывает на положение всех частей его тела, которые определяются основными точками , объясняет постановку фигуры и линию центра тяжести , посредством нескольких отвесов.
Художник, рисующий наглядно , никогда не будет в состоянии судить правильно о своем рисунке. Не рассуждая о проведенных чертах, не зная, какие точки на теле могут служить основанием для первоначального очертания фигуры, такой художник беспрестанно будет делать грубые ошибки противу здравого смысла. Давно уже сказано, что «надо рисовать головою, а не руками» 100[36] 101[36] . .
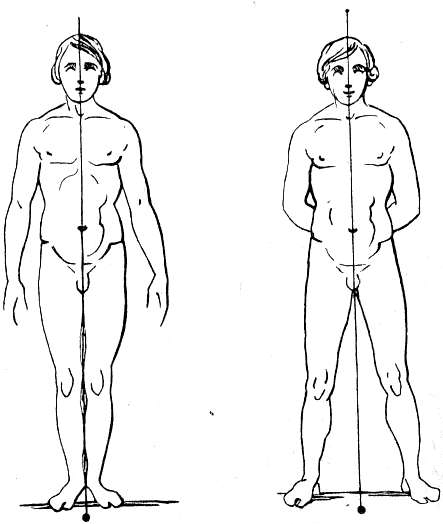
53. А. П. Сапожников. Законы равновесия
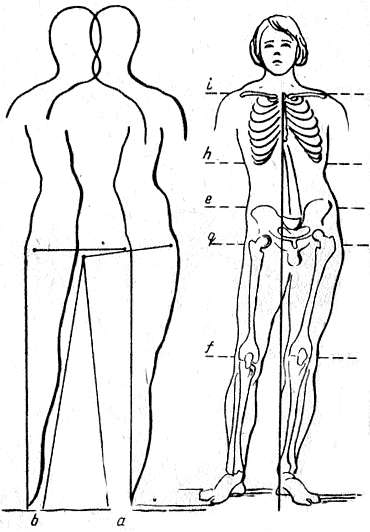
54. А. П. Сапожников. Законы равновесия
Заканчивается «Курс рисования» разделом «Сочинение картин», в котором автор знакомит учащихся с некоторыми правилами перспективы, необходимыми при создании картин, после чего следует изложение основ композиции. Здесь Сапожников как бы предвосхищает будущее расширение видов занятий изобразительным искусством на уроках рисования в общеобразовательных школах (в частности, тематическое рисование).
Навыки в рисовании не только дают необходимую подготовку человеку для успешной работы в различных специальностях, но и содействуют развитию творческой мысли, что также крайне необходимо человеку в жизни. «Художник, выучившийся правильно рисовать с натуры человеческую фигуру в различных положениях, выучился только еще одной азбуке. Ему надобно от простого изображения предметов, как они есть в природе, перейти в область фантазии .
Расстояние между писцом, переписывающим рукопись, и писателем творящим (т. е. излагающим свои идеи языком изящным), точно то же как и между рисовальщиком, копирующим человеческую фигуру, и живописцем, производящим картину» 102[37] 103[37] . .
Метод преподавания Сапожникова давал прекрасные результаты, и Академия художеств впоследствии не раз выносила решения о переиздании книги Сапожникова. В предисловии к изданию 1875 года читаем: «То чем книга И. Д. Прейслера была для прадедов и дедов наших; для нашего времени представляют курсы рисования покойного Сапожникова, с талантом изобретательного рисовальщика - художника соединяющего в себе просвещенные понятия об искусстве и его требованиях. Неудивительно поэтому, что составленные Сапожниковым курсы в первую же пору обнародования их встречены были с полнейшим сочувствием и верою, вполне оправдавшеюся впоследствии всеми теми, кто так или иначе должен был стоять близко к делу обучения рисованию. В кружках русских художников труды Сапожникова пользуются громаднейшею известностью, и редкий из посещавших классы Академии художеств не держал и не держит у себя составленные им книги, как настольные, ничем покуда на русском языке незамененные» 104[38] . .
Идея использования изобразительного искусства в общеобразовательных школах находит отражение и в целом ряде работ, изданных в начале XIX века. Так, А. Войцехович в книге «Опыт начертания общей теории изящных искусств» указывает на необходимость создания теоретических работ по искусству в целях общего развития людей. Он писал; «Просвещение в России идет быстрыми шагами к совершенству, большая часть отраслей учености принесла уже зрелые плоды, и юные питомцы имеют многочисленные пособия к легчайшему прохождению первоначального пути наук; однако ж, учащиеся все еще нуждаются в учебных книгах по теоретической части изящных искусств» 105[39] . .
Искусство, считал Войцехович, помогает человеку шире видеть мир, и его элементарными основами может овладеть каждый человек, если он будет систематически и с детских лет заниматься им. «Искусство, вообще, есть не что иное, как умение что-либо сделать, приобретенное посредством изучения и многократных опытов» 106[40] . .
Рисование помогает познать форму предметов и лаконичными средствами «посредством одного очертания» изобразить их 107[41] . .
Рисунком мы передаем наше представление о предмете, говорит Войцехович, поэтому это представление должно быть правильным, объективным, и этот принцип должен быть положен в основу методики преподавания. «Истина есть сходство наших представлений, или понятий, с самою вещью. Она должна быть основанием каждого произведения изящных искусств» 108[42] . .
Хотя искусство и основывается на чувствах, путеводителем должны быть сознательные логические рассуждения: «Восторг и энтузиазм требуют верных путеводителей, которые суть: Ум, Разум, Рассудок» 109[43] . .
В 1844 году Г. А. Гиппиус издает труд — «Очерки теории рисования как общего учебного предмета», посвященный рисованию как общеобразовательному предмету. Это был первый капитальный труд по данной теме, он охватывал как общетеоретические вопросы педагогики и изобразительного искусства, так и вопросы методики преподавания рисования. Здесь были сконцентрированы все передовые идеи педагогики того времени. Сим автор писал: «Относительно источников, которыми я пользовался, долгом почитаю сказать, что большую часть оных я почерпал из опыта, во время самого преподавания, но многое заимствовал также и из сочинений известнейших педагогов и других писателей, каковы, например: Гербарт, Пимейер, Шварц, Денцелъ, Дистервег, Гразер, Бенеке, Браубах и, в особенности, Песталоцци, уроками которого я сам имел счастие пользоваться» 110[44] . .
Книга делится на две части — теоретическую и практическую. В теоретической части излагаются основные положения педагогики и изобразительного искусства. В практической части раскрывается методика обучения.
Уже во введении автор указывает, что рисование как общеобразовательный предмет нельзя преподавать так же, как в специальных художественных школах, методика преподавания здесь должна быть иной: «Обучать однако же питомцев наших в учебных заведениях точно таким же образом, как мы сами учились, — нельзя; потому что мы посвящали себя исключительно искусству; а цель воспитания в училищах совершенно другая, и состоит в приготовлении детей не по одному только какому-либо предмету наук, но по многим вместе, т. е. в образовании многостороннем, в развитии всех человеческих способностей таким образом, чтобы один предмет науки служил пособием другому и чтобы, несмотря на разнообразие учебных предметов, все они в уме учащегося соединялись в одно целое; а об этом-то именно и не помышляли никогда доселе преподаватели рисовального искусства» 111[45] . .
С таким взглядом на методику преподавания рисования мы встречаемся впервые не только в отечественной литературе, но и западноевропейской.
Гиппиус стремится научно-теоретически обосновать каждое положение методики преподавания рисования. По-новому он рассматривает и сам процесс преподавания. Методика преподавания, говорит Гиппиус, не должна придерживаться определенного шаблона, разными методами преподавания можно достигнуть хороших результатов. В этом отношении Гиппиус предвосхищает современное понимание методики преподавания как искусства преподавания: «Первоначальное обучение рисованию не должно ограничиваться, сколько мне кажется, только советами и известными правилами, но требует строгого систематического изложения, как и всякая другая наука; за всем тем весьма несправедливо было бы думать, что та или другая метода заслуживает предпочтение перед всеми прочими. Одной и той же цели можно достигнуть различными путями, несмотря на то, что предлагаемая мною метода первоначального обучения, имея целию единственно только изощрение зрения учащихся посредством наглядности, развитие их умственных способностей, их чувства к изящному и их охоты к учению,— столь проста в своем основании и так естественна, что для достижения этой цели не может быть различных путей. Гораздо труднее и даже почти невозможно дать определенную форму учению, которое следует за первыми началами, потому что деятельность умственная требует неограниченной свободы и вообще весьма различного направления, смотря по состоянию, полу и предназначению учащихся» 112[46] . .
И далее: «Обучение рисованию есть искусство и требует человека, знающего дело; в этом нетрудно увериться тому, кто начальствует учебным заведением и им от души занимается. Такой человек старается не только упражнять детей, но и возбуждает собственную их деятельность, применяется к духовной потребности каждого воспитанника, нисколько не упуская из виду общности преподавания» 113[47] . .
Чтобы научиться правильно рисовать, нужно научиться рассуждать и мыслить, говорит Гиппиус, а это необходимо всем людям, и надо это развивать с детского возраста: «Говорить значит: думать вслух, а рисовать — думать видимо. Кто рисует, тот думает формами и облекает ими каждую мысль свою. Мы тогда только основательно говорим, когда основательно думаем; так и рисовать правильно можем только то, что со вниманием рассмотрим; следовательно, чтобы научиться рисовать, должно сначала выучиться думать при пособии зрения. Так наглядность, возбуждая представления и обращая их в понятия, составляет превосходное средство изощрения детского ума, — истинную первоначальную логику» 114[48] . .
Много ценных методических советов и рекомендаций дает Гиппиус во второй части своей книги «Первоначальное обучение. А. О наглядности». В примечаниях он пишет: «Учение о наглядности представлено здесь не так, как оно выдумывается за письменным столом; но так, как оно произошло и развилось действительно в кругу детей. Хорошо обдумав план постепенного естественного развития, учитель должен только начать, чтобы возбудить деятельность учеников: а впоследствии только показывать направление к назначенной цели. Каждый ученик должен иметь свой глаз, свой язык, свое собственное мнение» 115[49] . .
Методика преподавания, по мнению Гиппиуса, должна основываться не только на данных практической работы, но и на данных науки, и прежде всего психологии: «Психолог подметит то, каким образом дитя получает понятие о свете, виде, объеме, расстоянии и посредством которых оно учится видеть, само того не зная. Одни глаза ничему не научат нас: нас учит ум наш, который посредством чувств привыкает мерить, сравнивать и чувствовать. Следственно, надобно знать ум детский, дать ему идеи, — тогда и телесный глаз утончится» 116[50] . .
К учителю Гиппиус предъявляет очень высокие требования. Педагог должен не только много знать и уметь, но и выступать перед учениками как актер: «Учитель в некотором отношении должен подражать актеру: точно как актер никогда не должен показывать собственное свое расположение духа, но только такое, которого требует роль; так и учитель, входя в класс, должен приносить с собой спокойное, веселое расположение духа. Кто к тому не способен, тот не учитель» 117[51] . .
Работа каждого ученика должна быть в поле зрения преподавателя; «Надобно осматривать все ученические работы; и хотя это в полных классах отнимает довольно времени, но и здесь опыт и навык много облегчают. Тетради должны лежать открытыми пред каждым из учащихся, учитель ходит между лавок и смотрит наскоро, что так или не так сделано» 118[52] . .
С вопросами методики Гиппиус тесно связывает обеспечение класса оборудованием и материалами: «Как худым пером невозможно хорошо писать, так точно нельзя хорошо рисовать худым карандашом. Следственно, учитель должен заботиться о хорошем материале; никто более его не чувствует в нем нужды, никому другому недостаток в хорошем материале столь не чувствителен, как учителю. Пусть же он потрудится выбрать оный» 119[53] . .
Труд Г. А. Гиппиуса явился значительным вкладом в теорию и практику преподавания рисования как общеобразовательного предмета, он во многом обогатил методику преподавания. Не случайно в своем отзыве на книгу Гиппиуса А. Эриксен писал: «Если же к сказанному выше я прибавлю, что главное основание методы Г. Гиппиуса состоит в побуждении детей к размышлению, то нельзя не согласиться, что оная имеет решительное преимущество пред всеми, доселе известными и, к сожалению, может быть, слишком благосклонно принимаемыми методами» 120[54] . .
Такого серьезного и глубокого изучения вопросов методики преподавания в тот период мы не находим ни у одного, даже самого выдающегося представителя педагогической мысли. Все они ограничивались изложением общетеоретических положений педагогики, на которых должна строиться методика; художники-педагоги основное внимание обращали на правила рисования. Между тем основная масса учителей нуждалась именно в раскрытии самой методики преподавания, и в этом плане Гиппиус сделал дело огромной важности. Многие исследователи истории методов обучения рисования эти важные моменты опускали в своих трудах. Так, например, М. М. Попов в своей «Иллюстрированной истории методики рисования» говоря о Гиппиусе, совершенно не обратил внимания на методическую сторону, а ограничился лишь изложением содержания глав книги. Да и вообще русским методистам он не уделил должного внимания. Всей истории развития педагогической мысли в России он отвел лишь несколько страниц в конце книги, отдавая предпочтение зарубежным методистам. Между тем русская школа рисунка, в особенности в первой половине XIX века, находилась на очень высокой ступени развития и ее вклад в теорию и практику преподавания был весьма значительным.
Много было сделано в этот период и в области издания различных пособий, руководств и самоучителей по рисованию. Целый ряд пособий представляет большой интерес как с методической точки зрения, так и с точки зрения художественного оформления.
К числу таких пособий относятся: Соколов Н. Новейшая рисовальная азбука. М., 1808; Станкевич Н. Рисовальная школа. СПб. 1811; Краткое наставление о рисовании и черчении. СПб., 1811. Книга может заинтересовать методистов средней общеобразовательной школы. Новейший учитель рисования. М., 1815; Учитель рисовального художества, или Основательные правила к усовершенствованию юношества, обучающегося рисовальному искусству с 30 фигурами. М., 1816. Книга представляет интерес для художников-педагогов; Кинигер Т. Начальные и главные основания рисовального искусства. М., 1817, 1928. Методическое пособие по рисованию типа руководства Жюльена. Имело широкое распространение, однако предназначалось главным образом для копирования; Новейшее руководство к рисовальному искусству. М., 1818; Франкер Л. Руководство к линейному рисованию. СПб., 1831. Басин П. и Сапожников А. Анатомия для живописцев и скульпторов. СПб., 1832; Способ рисования с натуры с первого урока, основанный на правилах геометрии и перспективы. М., 1833; Рейсиг . Об изучении искусства рисования. СПб., 1840. Автор высказывает ряд оригинальных мыслей о специфике преподавания рисования с натуры в средней художественно-промышленной школе; Лангер В. Краткое руководство к познанию изящных искусств, основанных на рисунке. СПб., 1841. Содержательная книга о роли и значении рисунка в изобразительном искусстве.
Особый интерес представляет издание «Рисовальная школа на 20 листах, изданная Обществом поощрения художеств» (СПб, 1844). Это альбом таблиц-рисунков без текста. Рисование начинается с изучения частей человеческого лица и головы (рис. 55, 56). Здесь наглядно показывается методика работы, в основе которой лежит линейное построение рисунка, и предлагаются методы выявления формы. Основная задача пособия — раскрыть богатые возможности рисунка карандашом. Техника рисунка в этом альбоме очень высокая. Мастерски передается фактура материала: блеск глаз, фактура волос, мягкость человеческой кожи.
Изучив части головы, ученик переходит к рисунку всей головы (рис. 57). Здесь также объясняется, как следует пользоваться штрихом, как должен штрих подчеркивать и выражать характер формы, как надо передавать фактуру материала. Так, в рисунке юноши в шляпе прекрасно передано освещение, тень на лице от полей шляпы и рефлексы на лбу (рис. 58).
Освоив рисование головы, ученики изучали рисунок кистей рук и следков ног (рис. 59).
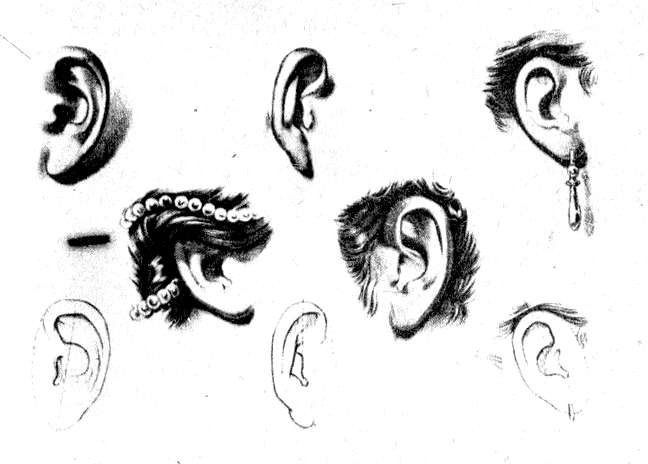
55. А. Т. Скино. Таблица из пособия
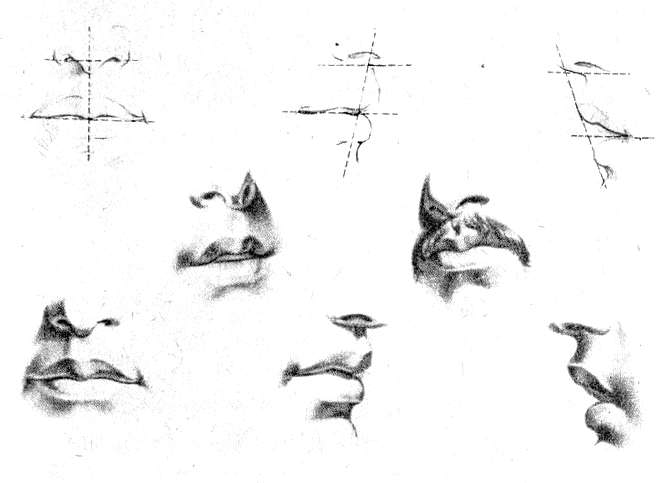
56. А. Т. Скино. Таблица из пособия
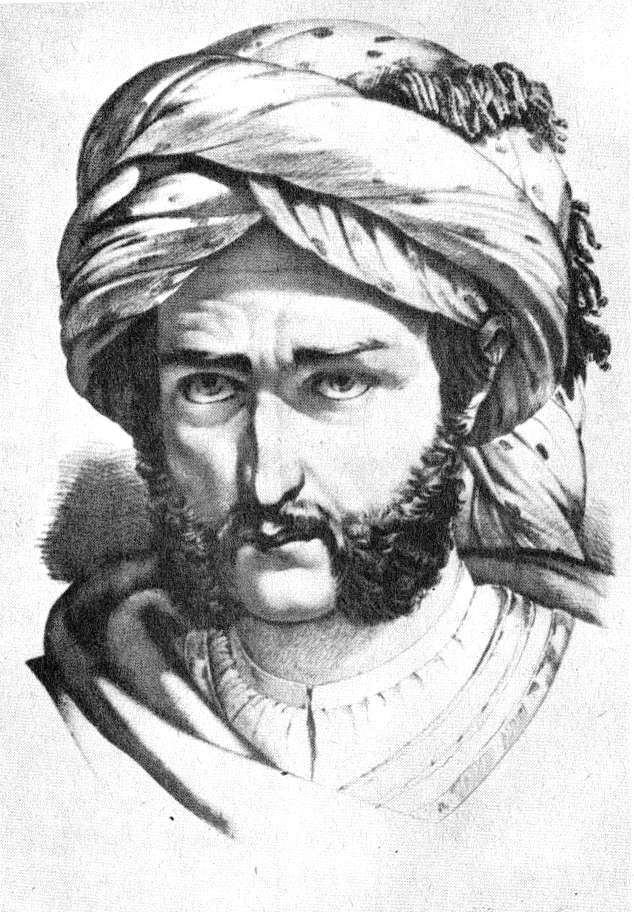
57. А. Т. Скино. Таблица из пособия

58. А. Т. Скино. Таблица из пособия
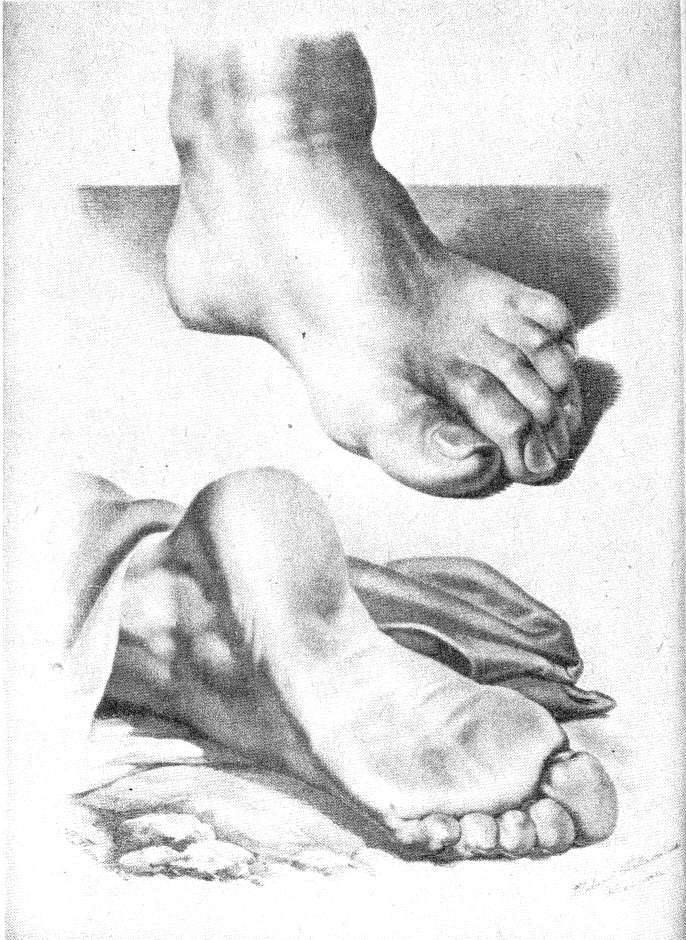
59. А. Т. Скино. Таблица из пособия
Поскольку автор этого пособия, учитель Московской рисовальной школы А. Т. Скино, продолжал свою работу по созданию методических пособий и руководств по рисованию и во второй половине XIX века, а также учитывая, что развитие методов преподавания не имеет резких границ, мы считаем целесообразным обратить внимание читателя только на те пособия и руководства, метод изложения материала в которых характерен для первой половины XIX века.
В 1864 году Скино издает второе пособие: «Курс рисования, состоящий из 34 номеров». В этой книге, подобно первому альбому, сохраняются те же принципы и методы рисования. Добавлено несколько новых рисунков.
В 1873 году Скино в соавторстве с Фебрини 121[55] выпускает пособие «Школа рисования, черчения и перспективы для всех возрастов. Теоретическое и практическое изложение правил» (рис. 60). Это пособие отличается от предыдущих тем, что в нем даются методические указания, как следует приступить к рисунку, как вести построение изображения. Скино уже не просто показывает, как надо рисовать, но и дает ученику поурочное распределение заданий, старается организовать и методически упорядочить работу рисовальщика.
Иначе здесь Скино подходит и к созданию методических таблиц-рисунков. Если в предыдущих изданиях он употреблял вспомогательные линии (вертикаль и горизонталь) как отвлеченные, служащие лишь дополнительными ориентирами, то здесь уже вспомогательные линии выражают конструктивную основу формы. Это ясно видно на рисунке 61 (пунктирные линии). Профильная линия разреза глаз, надбровных дуг, основания носа выражает конструктивную основу формы головы и закономерность пропорционального членения ее на части.
По-иному трактует Скино и рисование фигуры человека. Вначале он знакомит ученика с законами членения человеческой фигуры на части и строением скелета (рис. 62), затем изучаются детали фигуры — руки, нош, торс (рис. 63).
Заканчивается курс рисованием фигуры (рис. 64) и пейзажа.
В 1869 году А. Т. Скино принял участие в разработке методического пособия по рисованию под руководством В. В. Пукирева и А. К. Саврасова — «Курс рисования, состоящий из 42 номеров, разделенный на три отдела» (рис. 80).
Курс начинается с рисования плоских фигур. Вначале ученик знакомится с различными линиями и плоскими геометрическими фигурами (рис. 65, 66), затем переходит к линейному рисованию различных предметов, орнаментов и листьев растений (рис. 67). Этим заканчивается первый раздел.
Второй раздел, посвященный объемному рисованию, начинается с рисования геометрических тел — куба, призмы, пирамиды, конуса (рис. 68). Здесь ученику указывается, как надо анализировать форму предметов, следить за конструктивной закономерностью строения формы (пунктирные линии), как выявлять объем при помощи светотени. Штрихи накладываются не в хаотическом беспорядке, а строго по форме, указывая направление каждой отдельной плоскости.
Далее следует рисование частей человеческого лица, головы и частей фигуры (рук, ног). После этого ученик переходит к рисованию головы, торса и одетой фигуры человека (рис. 69,70).
Рисование обнаженной фигуры человека начинается с изучения анатомии (рис. 71). Анатомическая фигура Гудона в рисунках Пукирева показывается со всех сторон — сзади, спереди, сбоку. Одновременно прослеживаются закономерности пропорционального членения фигуры на части. Заканчивается второй раздел рисованием обнаженной фигуры человека (рис. 72).
Третий раздел — рисование пейзажа — начинается с рисования веток деревьев (рис. 73), затем изучаются характерные особенности различных пород деревьев (рис. 74—76) и небольшие пейзажные фрагменты (рис. 77, 78). Заканчивается курс рисунком пейзажа (рис. 79).
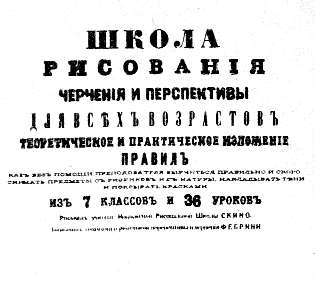
60. А. Т. Скино и Фебрини. Титульный лист пособия
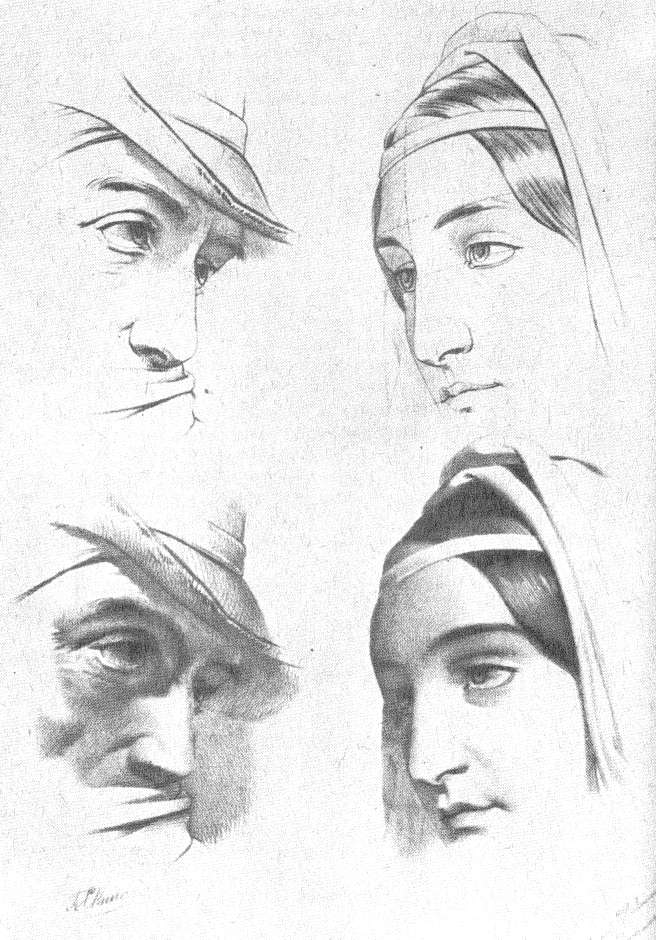
61. 61. Таблица из пособия А. Т. Скино и Фебрини
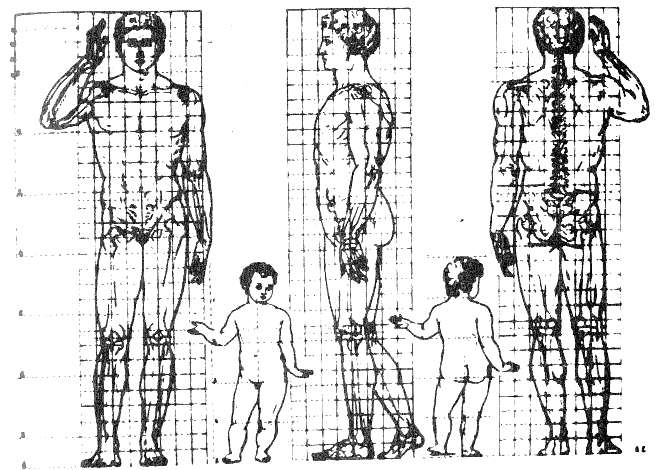
62. 62. Таблица из пособия А. Т. Скино и Фебрини
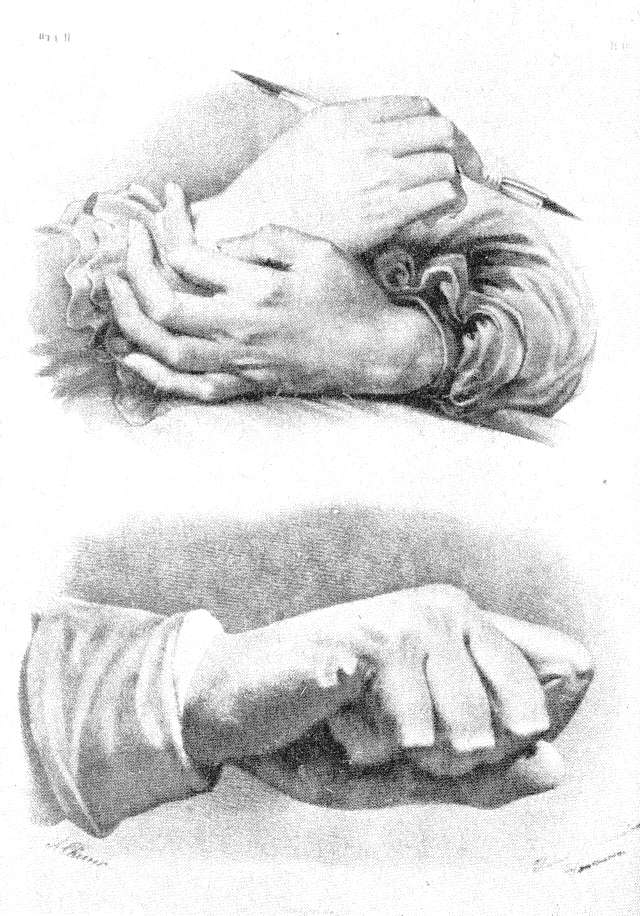
63. 63. Таблица из пособия А. Т. Скино и Фебрини

64. 64. Таблица из пособия А. Т. Скино и Фебрини
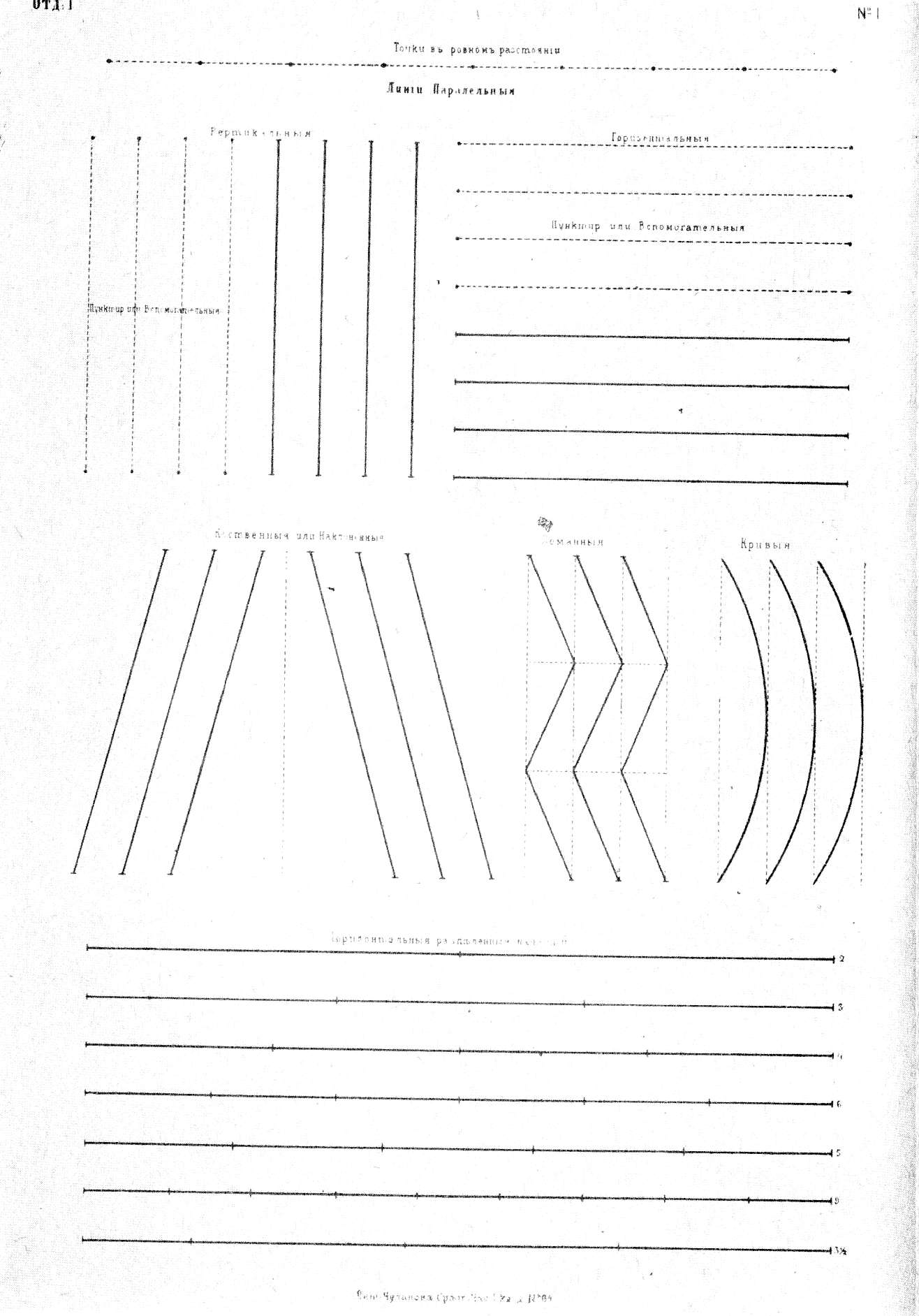
65. 65. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
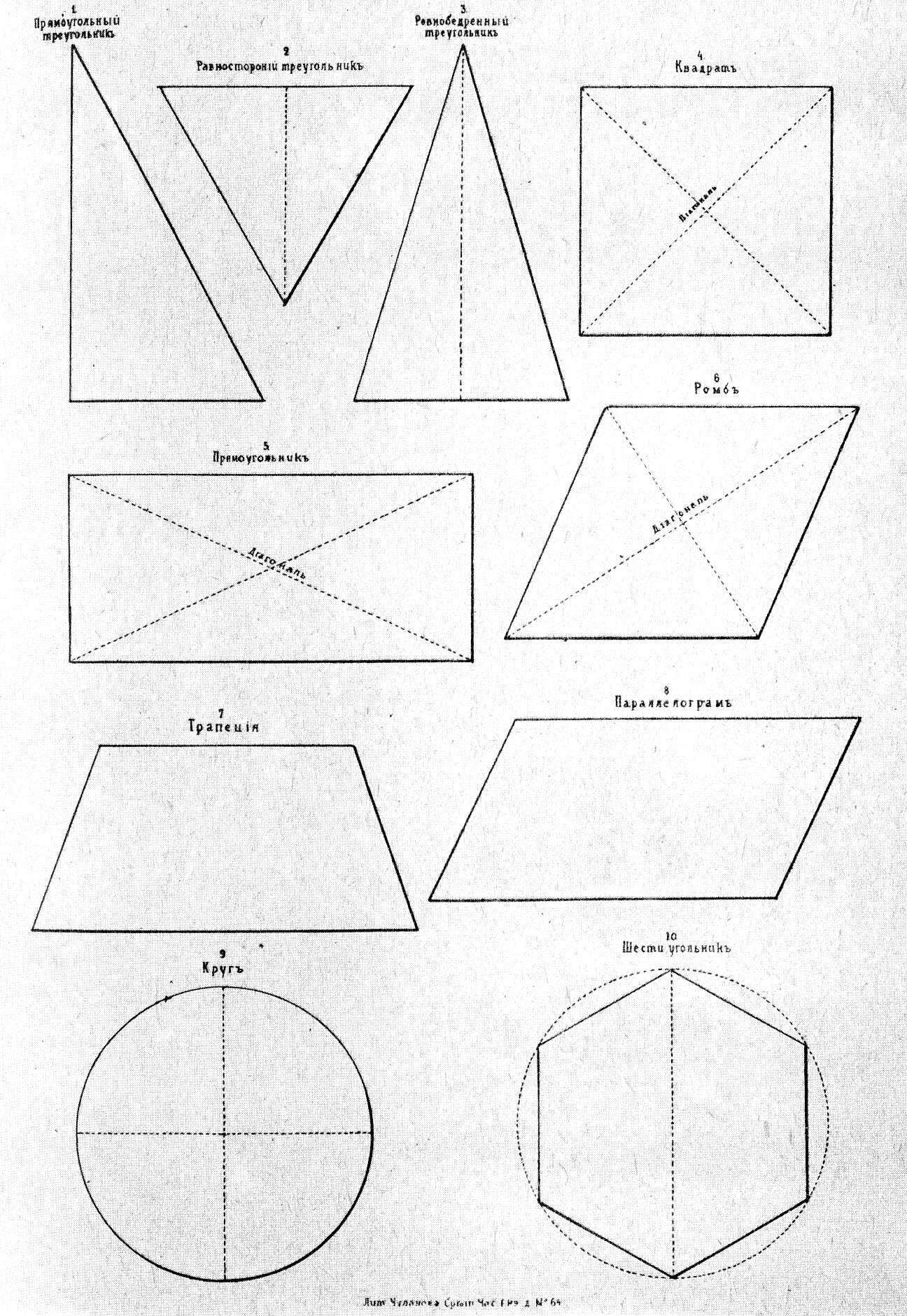
66. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
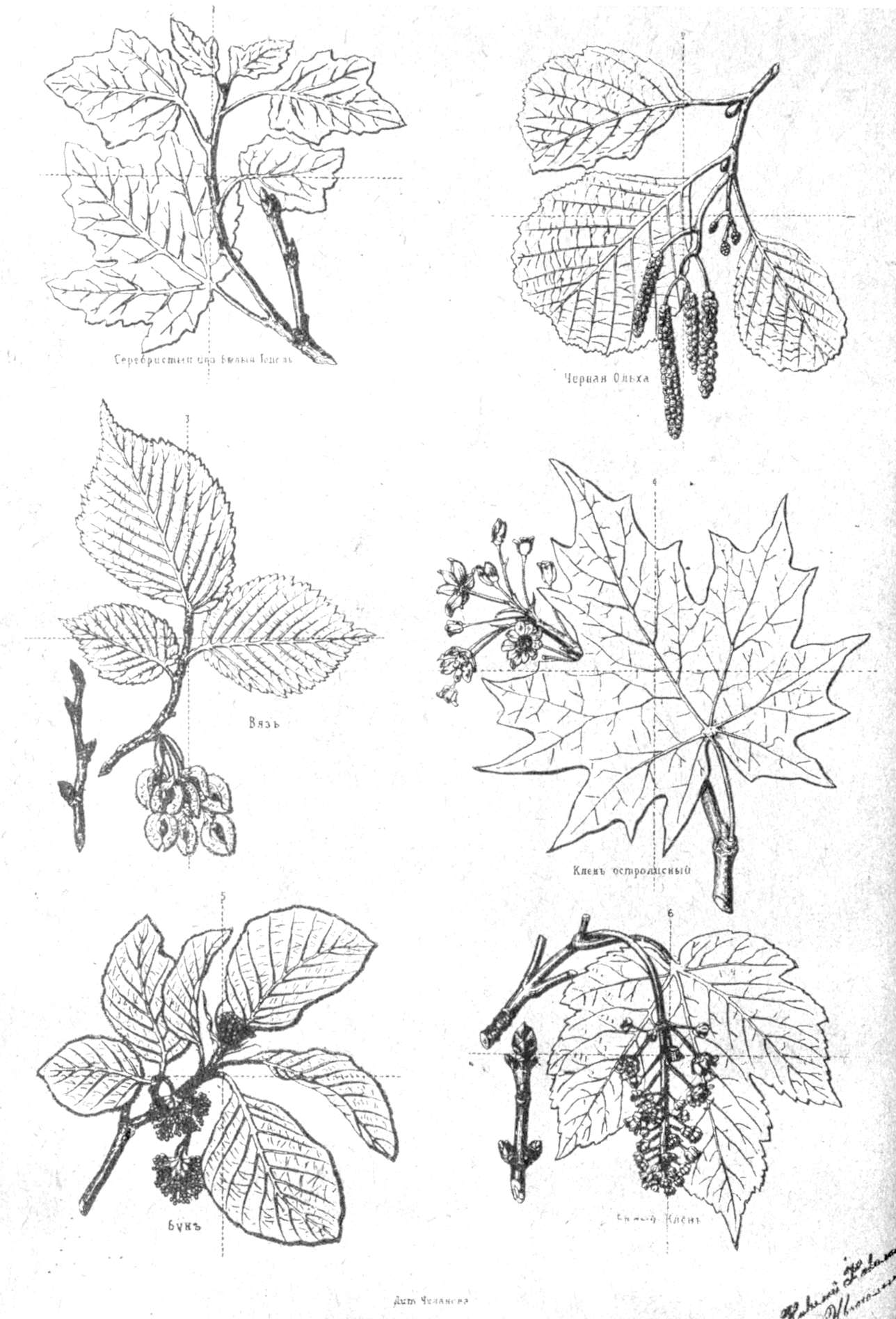
67. 67. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
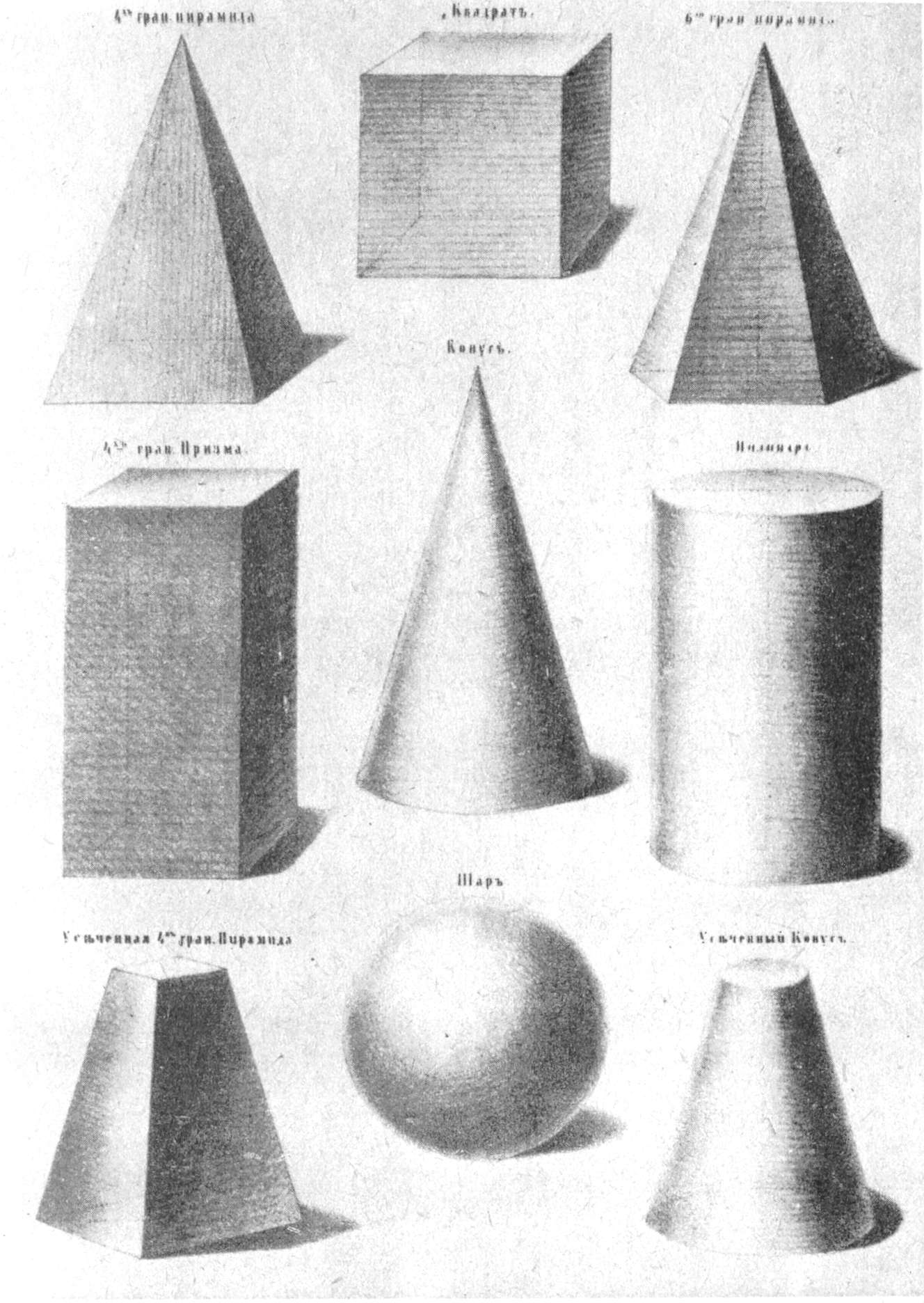
68. 68. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

69. 69. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
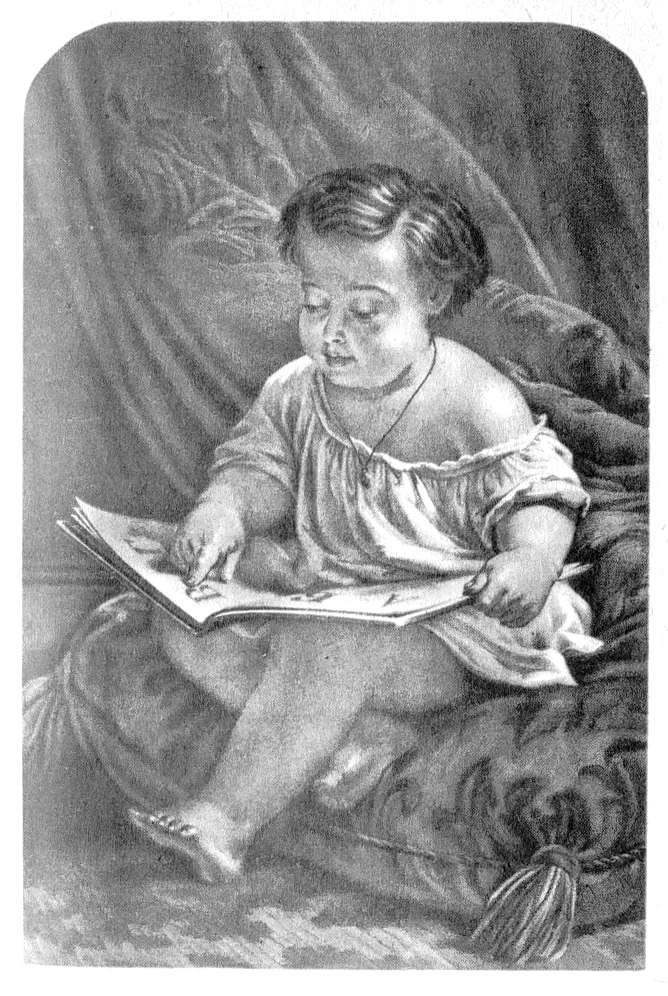
70. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
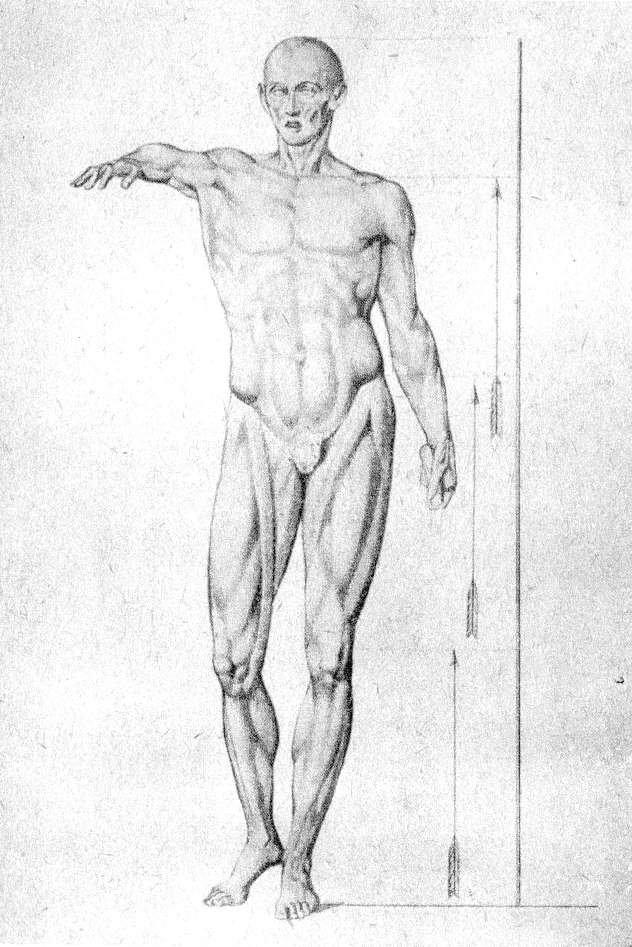
71. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
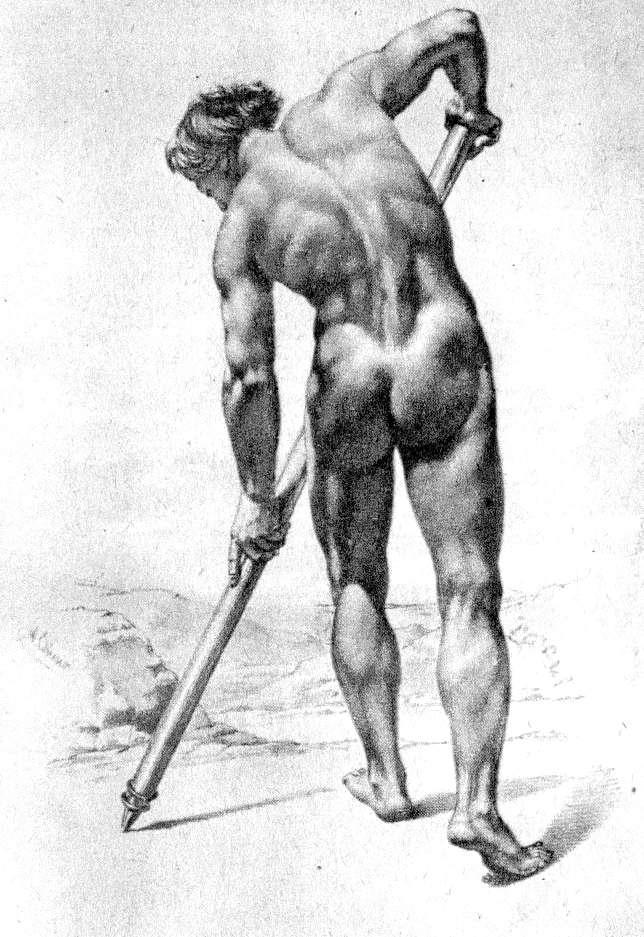
72. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
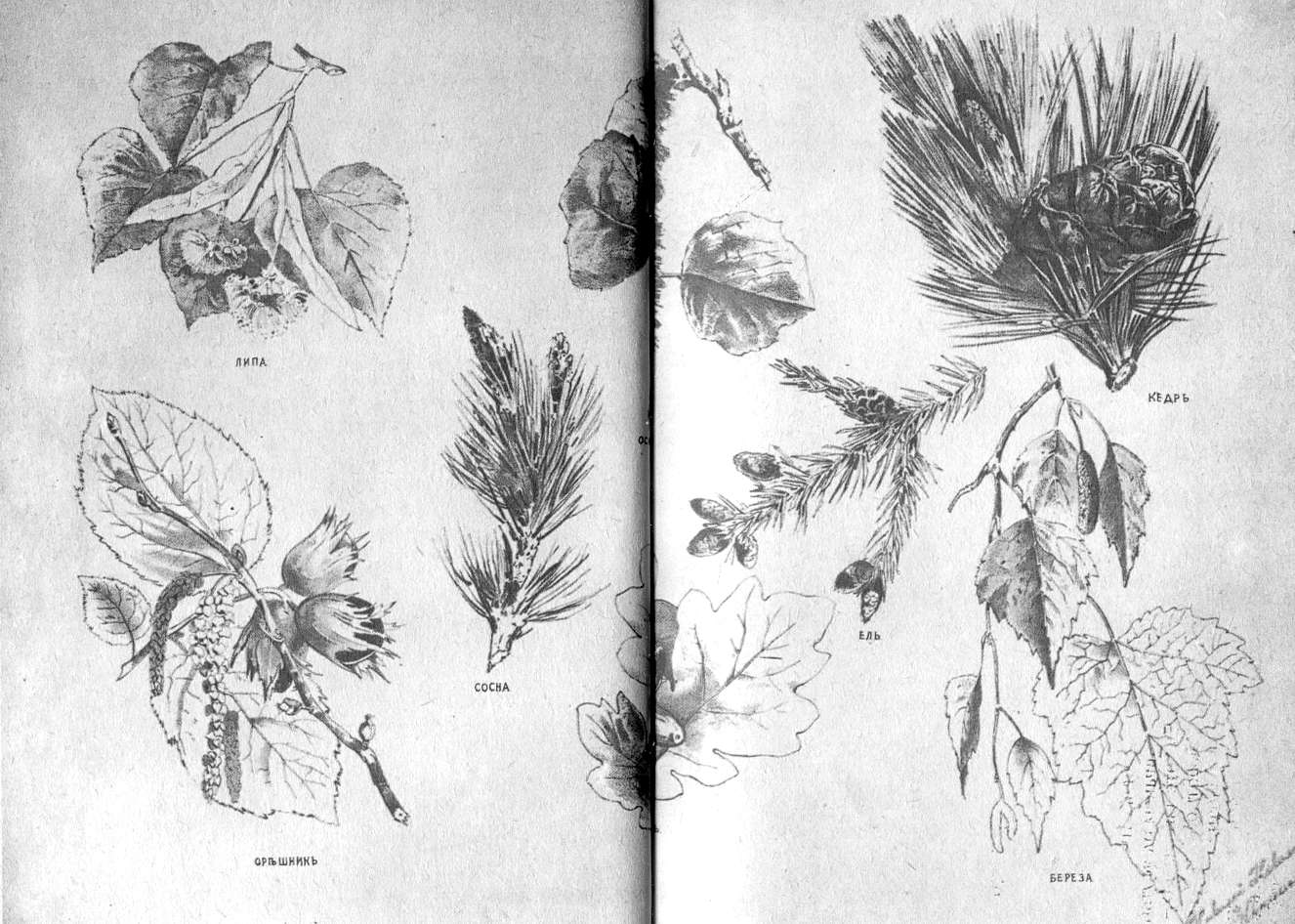
73. 73. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
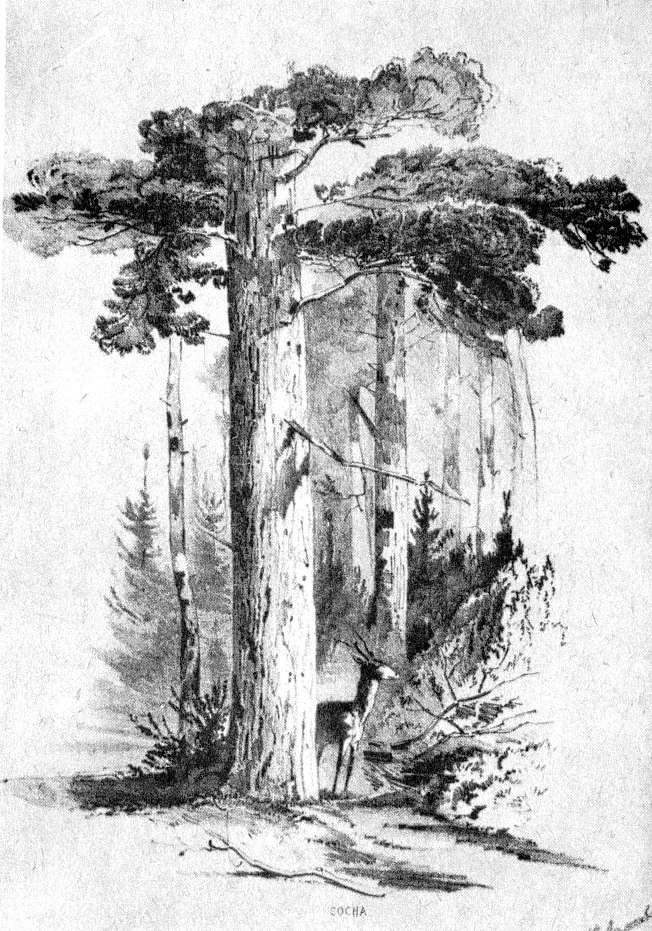
74. 74. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
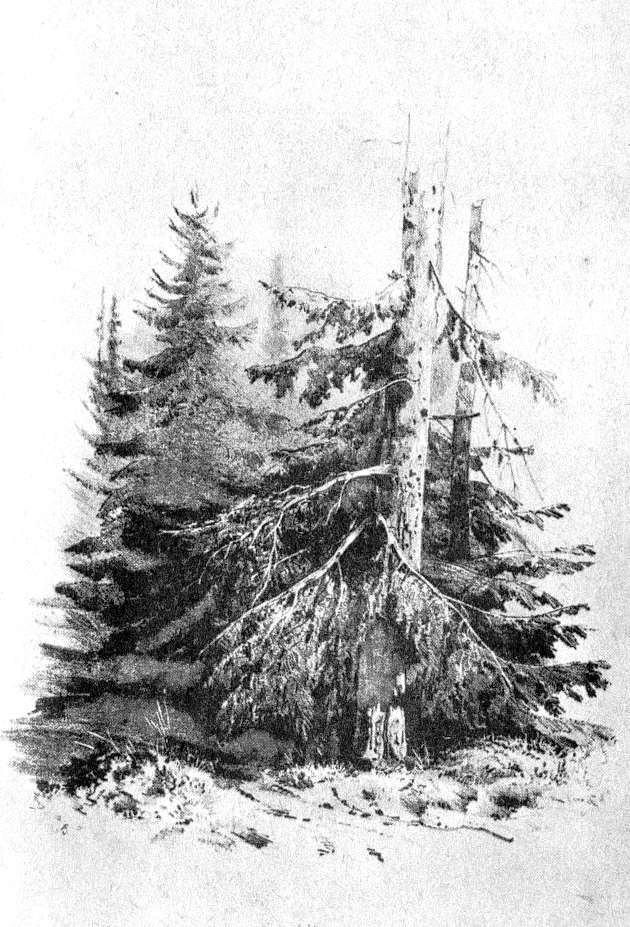
75. 75. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
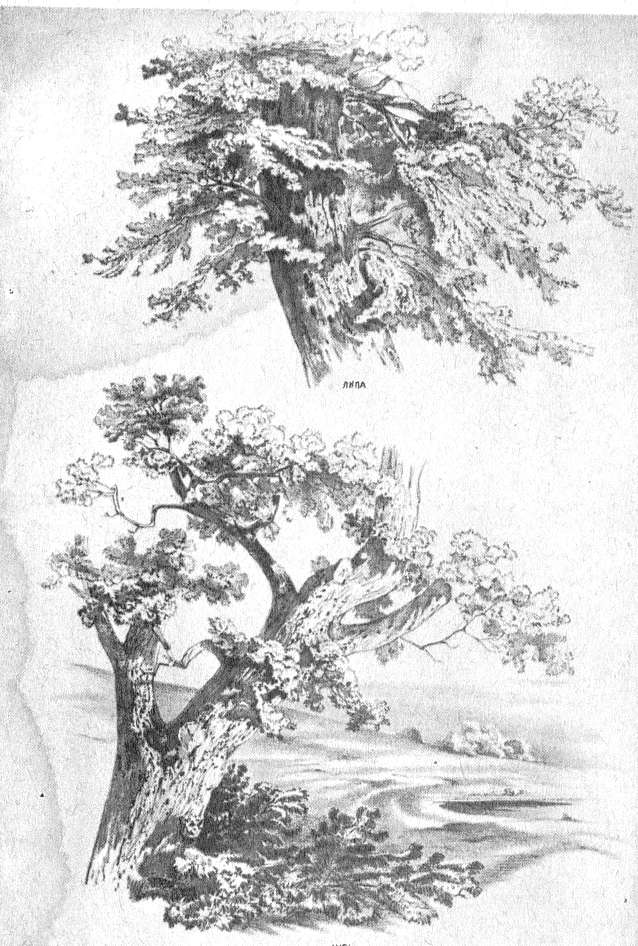
76. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
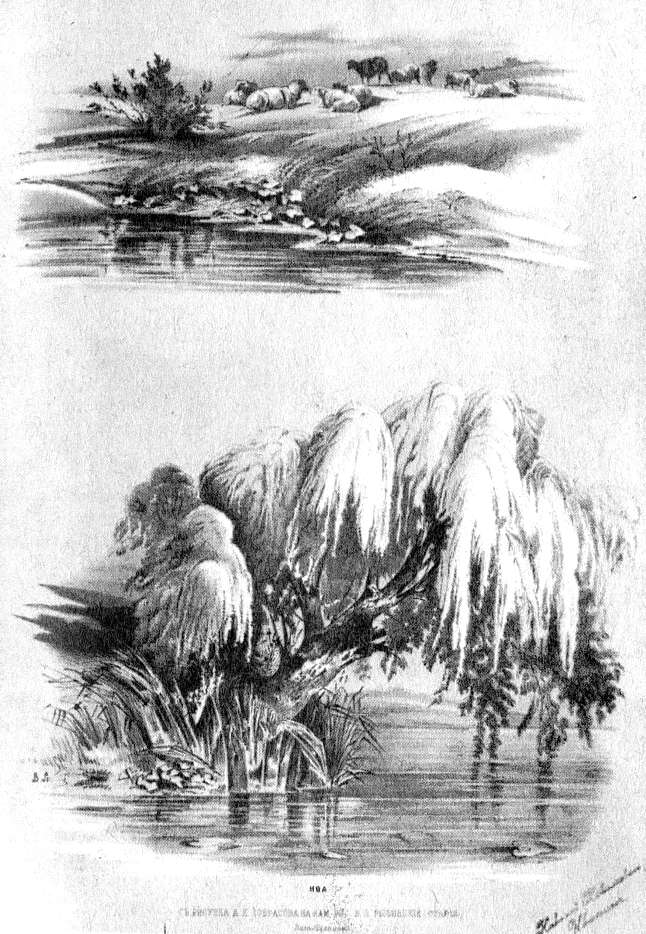
77. 77. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
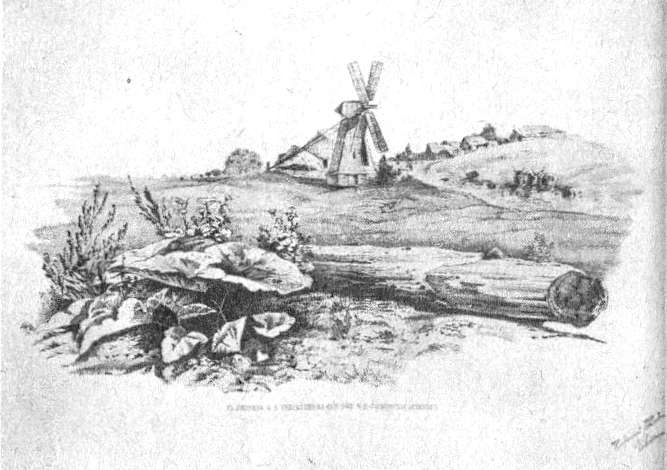
78. 78. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
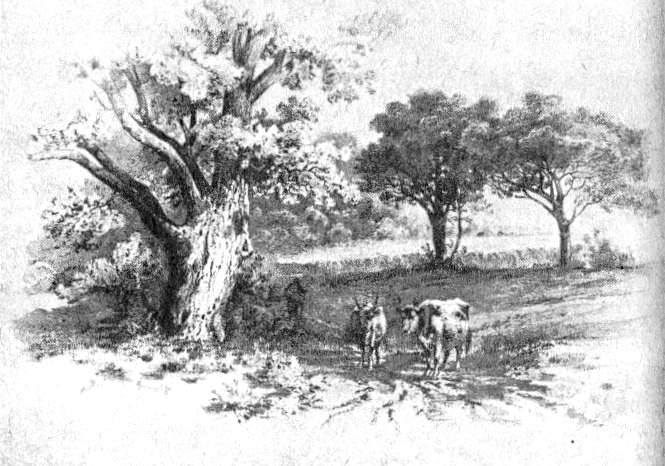
79. 79. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
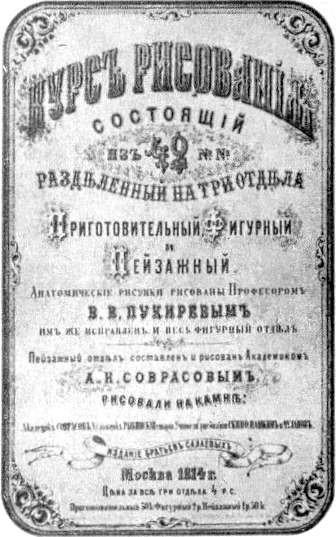
80. Титульный лист из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова
Эти пособия содействовали распространению рисования как общеобразовательного предмета, так как были предназначены любителям и учащимся общеобразовательных школ.
Итак, к середине XIX века русская школа академического рисунка достигает небывалой высоты, серьезное внимание здесь уделяется вопросам методики преподавания рисования, совершенствованию техники и технологии. Многое сделали в этом направлении такие замечательные художники-педагоги, как В. К. Шебуев, А. И. Иванов, А. Е. Егоров, А. П. Сапожников. Вопросами методики обучения рисунка начинают заниматься и отдельные художники — А. В. Ступин, А. Г. Венецианов, которые параллельно с академией создавали школы и разрабатывали свои методы воспитания художников.
Рисунок и методы его преподавания получают самое широкое распространение в России. Уже с 1804 года рисование вводится в число обязательных предметов во все училища и гимназии. В 1825 году в Москве открывается Училище технического рисования со специальным отделением, на котором должны были готовиться учителя рисования и черчения. В 1843 году Министерство народного просвещения издает циркулярное предложение о замещении должностей учителей рисования и черчения выпускниками Строгановского училища.
В помощь учителям общеобразовательных школ издаются различные пособия и руководства, среди которых труд Г. А. Гиппиуса. Это был капитальный труд в области методики преподавания рисования. Таким образом была подготовлена хорошая почва для дальнейшего развития и усовершенствования методики обучения рисунку как в специальной художественной школе, так и общеобразовательной. Однако, как мы увидим в дальнейшем, этого не произошло.
122[1] Подробнее см.: Марголин К. М. Илья Буяльский. М., 1948.
123[2] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 20, ед. хр. 27. 27.
124[3] Цит. Цит. по кн.: Мастера искусства об искусстве, т. VI, с. 166 166
125[4] Цит. Цит. по кн.: Машковцев Н. Книга для чтения по истории русского искусства, вып. III, с- 55, 56.
126[5] Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа первой половины XIX века. М., 1963, с. 35.
127[6] 31 июля 1823 года А. Н. Оленин пишет министру духовных дел и народного просвещения: «С самого начала управления моего Императорской Академией художеств я удостоверился, что для достижения главной цели сего полезного заведения, которая состоит в образовании искусных художников... необходимо составление особых учебных книг, служащих для наставления учащимся в теории и начальной практике изящных искусств...
Составление сих книг тем более нужно, что таковых у нас в России вовсе нет и что до сего времени даже в просвещеннейших землях Европы оных не имеется в надлежащей для учеников полноте и ясности, а более всего в систематическом, особенно для них приспособленном порядке.... Пробуждаемый однако же совершенным у нас недостатком в настоящих правилах рисования и особенно анатомии для питомцев Импер. Академии художеств, обучающихся живописи и ваянию, я решился обратить на сии важные для них предметы особенное внимание профессоров академии — полагая неукоснительно предложить тому, кто из них пожелает, принять на себя труд исполнить сии две первые части назначенного мною курса рисования и анатомии.
Г-н Шебуев, узнав о моем намерении, неожиданно мне предложил рассмотреть имевшиеся у него анатомические рисунки, большею частью снятще им с натуры во время пребывания его в Италии, о коих до того времени я никакого сведения не имел. Усмотрев с большим удовольствием превосходство его эскизов перед всем, что мне в этом роде удалось доселе видеть, я склонил г-на Шебуева попытаться выгравировать сии эскизы на меди, на подобие карандашевых рисунков.— Сие трудное дело я предложил исполнить самому г-ну Шебуеву, по той причине, что рисунки его, долженствуя служить учебными образцами, должны быть и на меди выражены с той правильностью в абрисах и с той смелостию в отделке, которые могут быть исполнены только самим рисованием, или особо к сему приготовленным гравером. Г-н Шебуев, согласясь на мое предложение, в несколько месяцев сам выгравировал, или, лучше сказать, вырисовал на меди довольно удачно до 36 анатомических рисунков. По окончании сей трудной работы г-н Шебуев, побуждаемый похвальным сомнением в совершенстве оной, рассудил сверить гравированные свои рисунки с натурою, и на сей конец показал их г-ну Буяльскому. Сей искусный прозектер, усмотрев некоторые неисправности в положении мускулов, заключил, что трупы, с которых г-н Шебуев рисовал в Италии, вероятно, были приготовляемы для учения врачей, а не художников, ибо для последних сии приготовления должно делать совсем другим образом, а именно: сколько можно сохранить с них при снятии кожи ту самую форму, которую они под ней имеют, когда человек в живых еще находится. Чтоб доказать справедливость своего заключения, г-н Буяльский приготовил один труп и представил его в этом виде г-ну Шебуеву. Сей истинный художник, удостоверясь, что новое анатомическое приготовление г-на Буяльского гораздо превосходнее тех, которые он в сем роде видел в Италии, решился пожертвовать в пользу художества временем и трудом, употребленным на гравирование сделанных им в Италии рисунков, и немедленно уничтожил уже готове доски, начал снова с самой натуры: перерисовывать все, что им в Италии было сделано; к чему прибавил он немалое число новых нужных рисунков, снятых также с натуры. Сею тяжелою во многих отношениях несносною и даже опасною для здоровья работою Шебуев занимался ежедневно в течение семи недель сряду без всякого отдыха и наконец представил мне многочисленное и весьма искусно вновь сделанное собрание рисунков, могущих действительно служить к пользе художников. Посредством сих рисунков, гораздо совершеннейших против прежних эскизов, можно было приступить к составлению полного для художников курса анатомии тела человеческого...
Кроме вышесказанного, г-н Шебуев согласился принять на себя труд выразить и некоторые движения лица в сильных страстях человека, а также и главные движения тела. Наконец, он взялся вырисовать несколько древних статуй для указания образцовых форм тела человеческого. Между тем он также и письменным изложением правил, предполагаемых им в размерах разных частей тела человеческого,— г-н Буяльский по знанию анатомии взял на себя труд привести в порядок все нужные толкования к остеологии (остеология — учение о строении и формообразовании костей), миологии (миология — учение о строении и расположении мышц) и ангеологии (ангеология — учение о расположении кровеносных сосудов) для художников. Имея в виду столь много превосходных материалов к составлению полного курса правил рисования и анатомии, я решился расположить сию книгу уже в надлежащей мере ея предназначения, согласно с ея наименованием. Вследствие чего я положил составить ее из трех частей, а именно: первые две будут в себе содержать: одна; размер, формы и разные изменения тела человеческого, а другая: анатомию оного для художников. Обе они будут исполнены усердными и, без сомнения успешными трудами г-на Шебуева и составлять главнейшие части сего сочинения. Третья же часть, как необходимое положение к первым двум, должна будет показывать ученикам формы известнейших пород в царствах животных и растений. Сия третья и последняя часть полного курса правил рисования может быть со временем приведена в исполнение по предложенному ей общему плану, художниками искусными в изображении с натуры животных и растений. Вот в кратких словах все содержание первого частного курса из числа предполагаемых мною трех общих курсов для молодых художников. Таковых в здешней Академии теперь вовсе нет, и едва ли оные имеются в других подобных даже стародавних в Европе заведениях.
Между тем сей первый из частных курсов столько же нужен для успешного и правильного преподавания истинных начал рисования или общих начал трех знатнейших художеств, сколько письмена и грамматика необходимы для изучения языков и словесности. Систематическое преподавание правил рисования и вообще всех необходимо нужных познаний для художников, сосредоточенных в особых на то учебных курсах, может произвести ту пользу, что питомцы сей академии будут из оной выходить не с одними только механическими и небольшими еще навыками своего искусства, но с основательными теоретическими и отчасти практическими познаниями оного. Сверх того посредством сих курсов можно будет дать и экзамены питомцев Императорской Академии художеств в степени успехов, с каковыми они проходят преподаваемые им художества, ту самую очевидную ленность, которая только существует в математических экзаменах.
Тогда посетители собственными своими глазами будут удостоверяться в степени искусства каждого ученика как, например: в правилах рисования и в знании некоторой части анатомии. Им будет только стоить потребовать от испытуемого чтоб он на доске мелом начертил то, что он словесно по вопросам будет объяснять. Правильность сих абрисов докажет, несомненно и беспристрастно, степень таланта учащегося. Вот одна из главных польз предполагаемого ныне опыта полного курса правил рисования для питомцев Императорской Академии художеств». — ЦГИАЛ, фонд 789, оп. 20, ед. хр. 27, л. 2/9 — 12/19. Глава III.
МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Во второй половине XIX века развитие академической системы художественного образования в целом идет по нисходящей. Снижается уровень методической подготовки преподавателей рисования, нарастают противоречия между официальной Императорской Академией художеств и прогрессивными русскими художниками.
Внутренние конфликты в Академии художеств между администрацией, выполнявшей установки и указания Двора, и преподавателями, чей опыт и многолетняя педагогическая практика не могли согласоваться с административными предписаниями, можно обнаружить на любом этапе истории существования академии. Однако они не приобретали такой последовательности и остроты, как во второй половине XIX века.
Уже в 1840-е годы в методах обучения рисунку стал обнаруживаться известный застой. Академию художеств начинает затягивать рутина, которая привела к снижению уровня художественной подготовки, к обеднению педагогической мысли.
Со второй половины XIX века рисование как учебный предмет получает иное направление. В этот период академическое художественное образование многие стали понимать как систему идеального воспитания. Методической основой должны были служить античные образцы, имеющие идеальные пропорции, идеальную красоту форм. Натура, как таковая, не изучалась, все же замеченные несовершенства фигуры позирующего натурщика рисовальщик был обязан выправить в соответствии с античными канонами. Теоретик и историк изобразительного искусства того времени Н. А. Рамазанов писал: «Правда, что под карандашом и кистью Угрюмова, Лосенко, Егорова и Шебуева рисунок в нашей академии стал на высокую ступень античного изящества и утонченности, но впоследствии менее даровитые художники довели эту античность в рисунке до крайней сухости и даже одеревенелости; изучение антиков совершенно поглощало изучение красот в живом теле; между рисовальщиком и натурщиком как бы невидимо и постоянно помещался всегда древний Антиной или Геркулес, смотря по возрасту натурщика... В то время некоторые из рисовальщиков колебались и, рисуя с натуры, в то же время не решались вдруг расстаться с своими заученными приемами; но приезд Брюллова из Италии положил конец всем умничаньям и неуместным идеализациям, по мнению великого живописца, следовало изучать исключительно всю разнообразную прелесть самой натуры»128[1].
Свои взгляды на рисование как учебный предмет и на методику его преподавания К. П. Брюллов129[2] высказал в довольно ясной форме. Будучи сторонником строгого академического рисунка, Брюллов в то же время не мог мириться с таким направлением в системе преподавания, которого стали придерживаться в Академии художеств. Как вспоминали его современники, обучая своих учеников рисованию с натуры, Брюллов говорил: «”Рисуйте антику в античной галерее, это так же необходимо в искусстве, как соль в пище. В натурном же классе старайтесь передавать живое тело: оно так прекрасно, что только умейте постичь его, да и не вам еще поправлять его; здесь изучайте натуру, которая у вас перед глазами, и старайтесь понять и почувствовать все ее оттенки и особенности”.
Так, силою слова и собственными примерами, Брюллов снял повязку с глаз всех рисовальщиков академии, отданных до того заученным античным формам, которые совершенно загораживали от учащихся исход красоты самих антик — природу. В этом случае влияние Брюллова было сильно и решительно и уже никто не мог не сознать указанной им художественной истины. При нем натурный класс ожил и обновился»130[3]. Продолжая традиции высокого искусства, Брюллов был противником ложной идеализации, он выступал за реализм и непосредственность жизненных наблюдений, за глубокое и разумное познание природы: «Он мало беседовал со святыми и угодниками, но изучил натуру до мельчайших подробностей и запрещал писать от себя — он считал это пагубой для учеников»131[4]. От учеников Брюллов постоянно требовал, чтобы они в свое свободное время постоянно рисовали с натуры, наблюдали жизнь. В этом отношении его послушным учеником и последователем был Федотов, зарисовки которого нас так поражают.
Положив в основу обучения искусству рисование с натуры, Брюллов считал, что ученик не только внимательно изучает ее, но и находит в ней много нового и интересного, а следовательно, обогащает себя и как художника. Один из учеников Брюллова писал: «Вандик рисовал отлично, руководился натурою во всем; колорит у него верен, весьма близок к натуре, а потому и разнообразен; краски простые: живопись его не расцвечена пестрыми, нелепыми пятнами; положение фигур естественно, освещение незатейливое, наконец, круглота ловкость письма и много силы»132[5].
Чтобы овладеть рисунком, надо хорошо знать пластическую анатомию, изучить весь механизм работы и устройства человеческого тела. Знающий художник и работает свободно. «Но прежде всего овладевайте механизмом и ознакомьтесь как можно более с рисунком, чтобы свободно, не затрудняясь, передавать задуманное и прочувствованное»133[6].
Если ученик рисовал поверхностно, без учета закономерности анатомического строения формы, Брюллов корил его беспощадно. Однако как педагог и учитель он не ограничивал только замечаниями и объяснениями, но и показывал наглядно ученику, как следует вести рисунок. Это очень ценный и важный момент в методике работы художника-педагога с учениками. Когда педагог демонстрирует перед учениками процесс работы над рисунком, то усваивается не только учебный материал, но и возможности техники исполнения. Показывая тот или иной способ нанесения штриховки, метод выражения формы средствами рисунка, педагог добивается особенно большого эффекта, если он наглядно проделывает все это своей рукой перед глазами ученика. Брюллов же не только объяснял, как надо использовать знания и навыки в практике рисования, но и затрагивал эстетическую сторону дела, воспитывал художника, показывал, как можно достигнуть наибольшей выразительности: в рисунке. Вот как об этом писал его ученик А. Н. Мокрицкий: «Это что за ладонь? Точно в теплой перчатке... Дайте карандаш: вот как идут пальцы, чувствуйте красоту линии, ведь немного недоставало, а теперь совсем другая рука; в каждом пальце ищите выражение движения, отвечающего положению руки; заметьте, что рука заодно с лицом действует при каждом внутреннем движении человека»134[7].
Чтобы помочь ученику овладеть всем этим и необходимыми знаниями и навыками, вначале ему надо давать для рисования натуру с ярко выраженным анатомическим строением. «Торс Геркулеса Бельведерского, Лаокоон, Германик и Боец были у него главными статуями для ученика; Антиноя, Аполлона, Венеру и других, с формами более округленными и менее заметными уклонениями линий, советовал изучать позже, оттого что в них более скрыта анатомия»135[8].
Однако анатомическими знаниями надо пользоваться умело, говорит Брюллов, анатомия не должна «лезть вперед», нарушать цельность восприятия. Мокрицкий пишет: «Вечером часу в девятом пошел я к Брюллову с классным рисунком с натуры. Он просмотрел его внимательно, указал на недостатки и сделал замечания; потом взял карандаш, нарисовал косточку, выправил следки, просмотрел внимательно контур и, указывая на красоту линий, сказал: ”Видите ли, как нужно смотреть на натуру: как бы ни был волнист контур, рисуйте его так, чтобы едва заметно было уклонение от общей его линии. Здесь нет ни усиленного движения, ни напряжения, фигура стоит спокойно. Но что же у вас эти бугры? Смотрите почаще на антики: в них всегда выдержано спокойствие, гармония общей линии, оттого они и прекрасны, оттого они важны и величественны; а изломайте их спокойные линии — ну и будет баррок, и надоедят они скоро”»136[9].
Главным недостатком академии Брюллов считал то, что из учебного заведения, из школы академия превращается в чиновничье учреждение или, как позже более резко скажет Крамской: «Академия — это звания, чины, кресты, пенсии и тому подобное, но не искусство». «Что вы разумеете под словом “академия”,— спрашивал Брюллов. — Какое же частное лицо может дать молодому человеку такие средства изучать искусства, какими располагают правительства? Дело только в том, что там, где найдется талантливый человек, способный увлекать молодежь и руководить ею, там даже независимо от правительства академия непременно существует; а где такого художника нет, там все правительственные академии превращаются в сборище чиновников, которые приносят искусству не столько пользы, сколько вреда»137[10].
Как мы уже говорили, большое значение в обучении рисунку Брюллов придавал личному показу. Только наглядность поможет ученику понять и усвоить сказанное, вовлечет его в активный творческий процесс. И, как мы знаем, Брюллов умел это делать блестяще. Мокрицкий вспоминает: «А как это было нарисовано! Какая черта! Он продолжал рисовать, притирая кое-где пальцем и ища эффекта; я стоял возле и наблюдал, каким волшебством светотени облекался этот рисунок»138[11].
Об изумительном мастерстве и умении владеть линией и тоном в рисунке говорят зарисовки Брюллова. В любой работе Брюллова, будь то набросок с натуры или творчески композиционный рисунок, мы видим, как художник линией передает жизнь и движение. Такое мастерство уже является школой наглядного обучения.
Большое значение Брюллов придавал технике рисунка. Он считал, что академия должна учить не манере, а действительно технике. Педагог должен научить ученика в совершенстве владеть техникой рисунка, чтобы художник мог свободно в дальнейшем передавать свои мысли и замыслы. Для этого обучение рисунку надо начинать как можно раньше. «Рисовать надобно уметь прежде, нежели быть художником, — говорил он, — потому что рисунок составляет основу искусства; механизм следует развивать от ранних лет, чтобы художник, начав размышлять и чувствовать, передал свои мысли верно и без всякого затруднения; чтобы карандаш бегал по воле мысли: мысль перевернется, и карандаш должен повернуться»139[12]. Причем работать над техникой художник должен ежедневно, как музыкант. «Не упускайте ни одного дня, не приучая руку к послушанию. Делайте с карандашом то же, что делают настоящие артисты со смычком, с голосом: тогда только можно сделаться вполне художником»140[13].
Брюллов внес много нового в академическую традицию обучения рисунку. Прежде всего это метод индивидуального подхода к каждому ученику. Все ученики Брюллова отмечали эту особенность его метода преподавания. Своеобразие методики обучения состояло также и в том, что он подходил к своим воспитанникам не как к ученикам, а как к младшим собратьям по искусству. Брюллов считал недостатком академической системы того времени подавление личности ученика. «Нельзя давать наставления ученику, основываясь только на приказании и личном авторитете. Художник не машина, он должен уметь мыслить сам».
Особенность методики преподавания Брюллова заключалась так же в том, что он приучал ученика самостоятельно находить ошибку. Он не сразу выправлял ошибку в рисунке, а вначале давал возможность ученику самому разобраться в ней. Мокрицкий по этому поводу писал: «Тут Брюллов заметил мое замешательство, но промолчал, дав мне еще несколько минут времени оправиться: наконец, соскучась бесплодным пребыванием “на натуре”, он взял кисть и волшебным прикосновением придал портрету и сходство и жизнь»141[14].
В то же время Брюллов был очень требователен и не давал особой вольности своим ученикам, а в иных случаях бывал даже строг. Все это повышало его авторитет среди учеников и вселяло в них любовь и уважение к своему учителю. Н. А. Рамазанов вспоминал: «Совет его или замечание ученику, высказанные всегда чрезвычайно метко и сильно, глубоко залегали в памяти художника и передавались как драгоценность, от одного к другому; и потому не удивительно, если при столкновении с бестолковым учеником знаменитый наш профессор выходил из себя и, по своей страстной, энергической натуре, дарил его резкими эпитетами.
Противоречий он не любил, и в случае упорства со стороны молодого художника за свою идею, легко переходил к худо скрываемому гневу и едким насмешкам, но по природе своей Брюллов был добр и всегда был готов помочь советом развивающемуся дарованию. Он, как матка с цыплятами, был постоянно окружен то одной, то другой группой молодых художников и, как сам сознавался, предпочитал беседу с молодежью беседе стариковской»142[15].
Исследуя методику работы художника-педагога, необходимо учитывать не только его установки, но и умение держать себя с учениками, его манеру говорить, ходить по аудитории, вплоть до выражения лица и глаз. Поэтому там, где это необходимо для более полной характеристики методов преподавания, приводятся сведения, относящиеся ко внешнему облику педагога, его манере выражать мысли.
Различия в методах преподавания заключаются не только в методических установках, но и в искусстве преподавания. Одни и те же положения рисунка и живописи могут быть преподнесены ученикам различными путями. И в этом плане много нового и оригинального внес в методику обучения С. К. Зарянко (1818-1870).
Ученик Венецианова и последователь педагогических идей Брюллова, он пытался использовать их опыт работы в своей педагогической практике. В разработанной Зарянко методике много ценных положений, которые не потеряли своего значения и сегодня.
В основу своей системы Зарянко положил научные законы перспективы, законы человеческого зрения. В письме к Погодину он писал: «Таковы подробности глаз, тончайшие линии и мельчайшие оттенки цветов, служащие ничем не заменимым средством выполнения третьего измерения в глубину картины, заключающегося для живописи в законах линий, света и воздуха. Такие частности, которые относятся не к техническому, а к научному отделу и составляют главный предмет для училища»143[16].
Методику преподавания Зарянко строит на научно-теоретическом обосновании рисунка. Перспектива выдвигается на первое место. «Перспектива, т. е. сокращение линий, по моему мнению, должна быть объяснена ранее того, чем ученик начнет изучать рисунок, так как только с помощью перспективы можно рисовать сознательно и ясно понимать, что делаешь или почему так, а не иначе делаешь. Бессознательное же рисование, практикующееся до настоящего времени, ведет к тому, что ученик, проучившись 10 лет специально рисованию, в конце концов не умеет нарисовать в ракурсе, или в сокращении ухо, а тем более руку или ногу»144[17].
Однако метод раскрытия научных положений перспективы у Зарянко был своеобразным. Он считал, что тот метод, которым пользуется большинство преподавателей, малоэффективен, так как не дает возможности ученику усвоить все тонкости перспективы. Нужно все объяснение до крайности упростить и сделать наглядным.
Простота и наглядность — вот что необходимо начинающему рисовальщику. Этого можно добиться довольно оригинальным путем, проделав опыт с помощью палки, веревки и аршина. Замечательный русский художник В. Г. Перов, вспоминая, как С. К. Зарянко объяснял явление перспективы, писал: «Перспектива должна быть до крайности проста и сразу понятна каждому ученику, только тогда она и может достигать своего назначения, своей цели (...) Сколько бы ваши преподаватели ни чертили вам линий; горизонтальных, вертикальных и наклонных, прямых, дугообразных и ломаных; сколько они ни ставили бы букв от a до Z для обозначения этих линий; сколь бы ни разъясняли сокращение предметов, — вам все, сказанное учителем, быть может, покажется понятным только в классе; но на натуре, на практике вы не примените этой науки к делу до тех пор, пока не объяснит ее вам учитель, пока он не покажет вам законов перспективы простым, практическим, наглядным применением (...).
(...) “Теперь, господа, — обратился Сергей Константинович к ученикам, — приступим к опыту наглядной перспективы.
Но прежде я должен объяснить вам по-своему: что такое точка зрения, отдаления и случайные точки.
(...) Точка отдаления — вы сами, ваш глаз, ваш рост и та высота, на которой вы стоите; а точка зрения — точка, на которую вы смотрите. Другими словами, точка отдаления есть противоположность точке зрения, и между этими двумя точками лежит то пространство, которое вами видимо и которое отделяет вас от точки зрения (...). Теперь представьте себе, что ваш правый глаз есть точка отдаления. Чтобы отыскать математически верно точку зрения, нужно смерить расстояние от вашего правого глаза до пола, т. е. до той точки или плоскости пола, на которой вы стоите... Не угодно ли вам смерить”, — обратился С. К. к другому ученику.
Ученик взял аршин и смерил. Оказалось, что от пола до глаза ученика К. было ровно 2 аршина 3½ вершка.
— “Теперь, — сказал Зарянко, — потрудитесь эту меру перенести на противоположную стену и назначить ее там мелом”.
Ученик отмерил на противоположной стене 2 аршина 3½ вершка и провел мелом черту. Зарянко похвалил его за понятливость.
— “Продолжаем далее... Смеряйте теперь расстояние от угла стены и до глаза г. К. Первой мерой мы нашли вертикальную линию, второй же отыщем горизонтальную”.
Ученик начал мерить. Оказалось, что от угла комнаты и до правого глаза ученика К. было 4 аршина 5 вершков. Когда эта мера была перенесена на противоположную стену и так же обозначена мелом, то Сергей Константинович велел из этих двух точек начертить две линии: одну вертикальную, а другую горизонтальную. Линии были проведены, вследствие чего образовался крест. Точка пересечения двух линий оказалась точкою зрения. Чтобы вполне убедиться, что это математически верно, Зарянко заставил третьего ученика перемерить, и меры были тождественны, т. е. точка на противоположной стене приходилась как раз против глаза ученика К. Тогда Зарянко велел в найденную точку вколотить гвоздь. К гвоздю привязана была одним концом длинная веревка; другой же конец ее был подан ученику К. Затем Зарянко велел К. держать веревку в руке, которую и водить, не ворочая головы, по всем направлениям, по всем линиям комнаты, как-то: по линиям карнизов, пола, столов и окон. Действительно, все линии комнаты были тождественны с линией веревки. Наконец, все ученики проделали то же самое и на опыте убедились и ясно поняли, что линии всех предметов, параллельных стенам, приходились на линию веревки, т. е. имели одну точку схода, которая и была точкой зрения; а противоположная точка, т. е. сам ученик, водивший веревку, — точкой отдаления»145[18].
Мы рассмотрели метод преподавания перспективы С. К. Зарянко так подробно потому, что научно-математический метод преподавания теории перспективы всегда вызывал и до сих пор вызывает неудовольствие художников. Для художника-практика нужны иные методы построения перспектив, а следовательно, и иные приемы преподавания. Заслуга Зарянко состоит не только в том, что он обратил на это внимание, но и впервые предложил новый метод преподавания перспективы и разработал стройную систему обучения. Можно в отдельных моментах не согласиться с Зарянко, но нельзя отрицать, что его метод обучения в большей степени отвечал запросам художников, нежели метод математиков.
По-новому подошел Зарянко и к общей системе обучения рисунку и живописи. Особенностью его системы является то, что он рассматривает рисунок и живопись в единстве. «Отделение рисования от живописи есть метод неестественный. В природе рисунок и освещение так слиты с иллюминацией, так много от нее зависят, получают от нее такое разнообразие оттенков, столько игры и переливов, что освещение не может быть вполне понятно или выражено без иллюминации и не может быть натуральным. Распределение классов должно быть такое, чтобы изучение рисования помогало изучению живописи и наоборот... Рисунок, взятый отдельно, никогда не удовлетворит глаза, особенно одаренного художественным тактом, и иногда тем более будет казаться неверным, чем более будет сам в себе верен»146[19].
Зарянко отделяет творческие задачи от учебных, что также является положительным моментом. Рассматривая рисование как учебный предмет, он основывается не на творческих моментах, связанных с вдохновением, интуицией, а на строгих научных положениях. «Повторяю вам, я люблю труд положительный, математическое знание дела и не признаю произведений по впечатлению или творчества — по вдохновению, как выражаются некоторые жалкие художники»147[20].
Свои взгляды на рисование как на учебный предмет Зарянко изложил в специальном сочинении, о чем свидетельствуют архивные материалы: «Состоя профессором в Московском училище живописи, С. К. Зарянко в живых беседах и в постоянном воздействии на своих учеников проводил выработанную им систему, основанную на указанном выше натуралистическом толковании форм природы. Эта система была изложена им в известном в свое время сочинении»148[21].
В целом зарянковская методика преподавания рисования требует серьезного анализа и изучения.
Обучение рисованию, по мнению Зарянко, должно начинаться с объяснения явлений перспективы и правил изображения сокращения линий, уходящих в глубину от зрителя. «Перспектива, т. е. сокращение линий, по моему мнению, должна быть объяснена ранее того, чем ученик начнет изучать рисунок, так как только с помощью перспективы можно рисовать сознательно и ясно понимать, что делаешь или почему так, а не иначе делаешь»149[22].
Большое значение Зарянко придавал законченному рисунку, завершенности учебной работы. Он считал, что ученик не только должен понять закономерности строения формы и ее характерные особенности, но и уметь их выразить в полную меру в рисунке или живописи. Те, кто выступает против законченности рисунка, выражают свою беспомощность: «Я утверждаю, что так думать и говорить могут только те художники, которые не в состоянии или, вернее, не умеют закончить; которые стоят на низшей ступени развития в искусстве и которые могут написать только эскиз, но не картину, могут передать намек на сходство с оригиналом и никогда не достичь поразительного сходства»150[23].
Однако усилия отдельных художников-педагогов отстоять научные основы учебного рисунка, дать правильное направление преподаванию уже не могли остановить широкого и повсеместного отхода от традиций академической школы. Одни педагоги полностью отвергали академическое направление и старались найти что-то совершенно новое, другие выступали за слепое подражание классике.
Итак, после 40-х годов XIX века академические методы преподавания начинают трактоваться с самых различных, причем довольно противоречивых точек зрения. Противоречия наблюдаются и в терминологии, и в рекомендациях методов работы с учениками. Более того, даже сам термин «рисунок» начинает пониматься по-разному. Отмечая характерные особенности в истории развития рисунка в России, А. А. Сидоров пишет: «В практическом художественно-профессиональном, литературно-критическом обиходе второй половины XIX века термин “рисунок” как понятие применялся в самых разных значениях. Различие этих значений сохранилось, быть может, и доныне»151[24].
В корне меняется и обучение в Академии художеств. В ее стенах начинают преподавать такие «профессора», как Неф, Вениг, Шамшин, Якоби и др. «Немец Неф преподавал, едва-едва умея говорить по-русски, а вся художественная мудрость и педагогические приемы Шамшина буквально выражались в двух фразах: “Поковыряйте в носу! Покопайте в ухе”»152[25]. Из этих замечаний видно, на каких пустяках останавливали подобные профессора свое внимание. Эти «педагоги» уже не обучали грамоте искусства. Они пренебрегали традициями старой академии, заменяя их мелочным поверхностным преподаванием, ничего общего не имевшим с задачами серьезной учебы. Молодые художники не изучали закона конструктивного и синтетического обобщения рисунка, а лишь занимались натуралистическим срисовыванием. В рисунке стала цениться техника, голая виртуозность, так называемая техника «тушевка с конопаткой». Об этой технике рисунка ученица Санкт-Петербургской рисовальной школы Лавреневская писала: «Метода его (Нотбека. — Н. Р.) была тушевка самая тщательная, с конопаткою, т. е. заделыванием всех неровностей между штрихами в косую клетку. Любимыми его выражениями было: “это надо прочувствовать” и “надо, чтобы тушевка играла”»153[26].
Рисование, как основное звено в системе художественного образования, явно недооценивалось. Профессора в классах появлялись очень редко, а если и появлялись, то на несколько минут, чтобы бегло просмотреть работы учеников. Некоторые профессора вообще не подходили к ученикам.
Между тем жизнь требовала иных методов воспитания молодых художников. Свое действенное влияние на постановку обучения в общеобразовательной и художественной школах оказывали философско-эстетические и педагогические взгляды русских революционеров-демократов — В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского. Так, Н. Г. Чернышевский считал человеческое познание способным правильно отражать реальную действительность, а цель жизни он видел в революционном изменении общественного устройства и с этих позиций придавал особое значение широкому просвещению народа как средству завоевания свободы.
В своей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевский, определяя сущность искусства, писал: «Воспроизведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни»154[27].
Говоря о воспроизведении образа предмета в рисунке, Чернышевский призывает художника задуматься над единством формы и содержания в искусстве: «Но “прекрасно нарисовать лицо” и “нарисовать прекрасное лицо” — две совершенно различные вещи»155[28].
В соответствии с ведущей идеей диссертации Чернышевского — «прекрасное есть жизнь» — была выдвинута задача педагогики — научить людей видеть прекрасное в жизни, в реальной действительности.
Большое влияние на развитие методов преподавания рисования в средних общеобразовательных школах оказали Н. Крамской и П. П. Чистяков. Их педагогические взгляды формировались под влиянием педагогических идей Чернышевского, Добролюбова.
Особенно близки идеи Чернышевского были такому выдающемуся педагогу, как К. Д. Ушинский, который не мыслил обучение в отрыве от реальной действительности. Ушинский считал, что методика преподавания всякого предмета должна строиться так, чтобы учащийся пополнял свои знания путем наблюдения и изучения прежде всего окружающей действительности, чтобы учащийся не абстрактно мыслил о природе а познавал их закономерности в реальной жизни.
Особенно важно это в начальной стадии обучения, и здесь должна быть разработана своя методика преподавания. Предлагая новый метод работы с детьми, Ушинский в 1861 году издает книгу «Детский мир и хрестоматия», в которой он раскрывает новые методы развития мышления и языка учащихся Успех предложенного им метода обучения был поразительным: в том же году потребовалось три издания ее.
Академия художеств продолжала придерживаться прежней педагогической линии, основываясь на устаревшей нормативной эстетике. В академии воспитанники продолжали писать картины на библейские и религиозные сюжеты, основывался лишь на мифологии и фантазии, а не на реальной, действительности. Однако политика администрации академии с ее теорией «высокого искусства» уже не могла противостоять новым прогрессивным теоретическим взглядам на искусство.
В 1863 году четырнадцать учеников академии обратились к Совету с просьбой «о дозволении свободно выбирать сюжеты» для дипломных работ. Они просили разрешения писать картины на сюжеты русской истории и отразить чувства, мысли и чаяния русских людей. Но им было отказано, и тринадцать человек во главе с И. Н. Крамским демонстративно вышли из академии, организовав Артель художников, а впоследствии Товарищество передвижных художественных выставок.
Найти правильный выход из создавшегося положения могли лишь художники, сильные духом, успевшие понять высокое предназначение искусства. Большинство же художников либо продолжало безропотно следовать ложному академизму, либо отвергало всякую школу и начинало творить без всяких правил и законов.
Таких художников-недоучек было немало. О. Планш в 1858 году о таких художниках писал: «Едва научившись жать кисть в руках, они оставляют мастерскую учителя, преподавшего им первые правила искусства, и уединяются, чтоб не утратить оригинальности собственной мысли. Они задают себе вопросы, отвергая всякое преподавание, как принадлежность рабства, роются в своей памяти, озирают окружающий их предметы и, когда приходит пора приступить к делу, удивляются, что кисть не слушается их, и обвиняют кисть вместо того, чтоб обвинить собственную мысль. Они презрели надежных путеводителей, хотели сами проложить новую тропу и пошли наудачу. Поздно постигают они опасность такой заносчивости, но не смеют воротиться назад и, для успокоения совести, выдают себя за непризнанных гениев»156[29].
Ниспровергателей школы академии всегда было много. Мы привели слова О. Планша здесь потому, что они актуально звучат и сегодня. История — это не сборник интересных фактов служащих для развлечения читателей, а фактов, из которых следует извлекать уроки.
Искажение академической системы преподавания рисунка в специальных художественных учебных заведениях не замедлило сказаться и на методике преподавания рисования в общеобразовательных школах. Там, с одной стороны, стала преобладать бессмысленная тушевка, погоня за чистеньким, аккуратным рисунком, с другой — получает распространение свободное рисование, без учета правил и законов искусства.
Отдельные педагоги стали выражать свое беспокойство по поводу преподавания рисования в школах. Весьма показательной в этом отношении является «Записка по предмету рисования» С. К. Зарянко, которая им была подана в Академию художеств в 1858 году. В этой записке он обращал внимание на слабую методическую и педагогическую подготовку учителей рисования: «... почему, не боясь укора, начну разбирать всех учителей рисования — учителей, не понимавших ни предмета своего, ни преподавания его. Знают ли эти учителя рисования — рисование? Нет, они умеют только немного рисовать, но объяснить рисунок, дать правила для изображения предмета в совершенной точности вовсе не в состоянии; это свыше их познаний, потому что большая часть учителей рисования выходит из слабейших учеников академии, не видавших впереди себя ничего лучшего, как сделаться учителем; сильнее же понимающие предмет свой остаются учениками и надеются на будущее; слабые же ученики академии, лентяи, неспособные постоянно видят должность эту как ров, в который легко могут прятаться от многих недугов своих. И как же подобным учителям поручены тысячи детей, между какими много могло бы быть талантов»157[30].
Особое внимание Зарянко обращает на порочный метод «рисуй как видишь, как умеешь». «Учитель же молча, поправив рисунок, не объяснив, почему произошла ошибка и почему сам он делает так, а не иначе, не научает детей ничему, да хорошо еще, если хотя молча поправит, а не испортит, тогда, может быть, догадливый ученик поймет сам, почему ошибся он; а то большая часть учителей даже на просьбу мальчика поправить ему рисунок отвечает: “рисуй как видишь или как умеешь”»158[31].
Методика преподавания, пишет Зарянко, требует творческого подхода: «А разве тот, кто не в силах один и тот же предмет объяснить хотя десятью разными, но одинаково верными правилами, может учить, а тем более развивать понятия, способности детей, которые так разнообразны? Разве медленно подвигающегося, ленивого и трудолюбивого можно одной и той же методою поставить на точку понимания? уж не говоря о негодности существующей методы (рисуй как видишь), многие другие методы не полезны. Не больно ли, не должно ли скорбеть, что предмет рисования, предмет, прекрасно содействующий развитию соображения, предмет, который может содействовать многий наукам, так жестоко потоптан?»159[32].
Некоторые учителя, желающие показать себя опытными педагогами и заслужить похвалу от начальства, поправляли рисунки учеников или полностью выполняли за них работу160[33].
С горечью говорит Зарянко и о недооценке рисования как общеобразовательного предмета: «Рисование есть единственный предмет, который учит видеть предметы такими, как есть они в природе; единственный предмет, который строго научает этому и также строго рассматривать природу»161[34].
Рисование в школе является таким же учебным предметом как математика, физика, литература и другие предметы, говорит Зарянко, поэтому овладеть его основами должен каждый ученик. «Странное мышление, что талант нужен для рисования. Отчего же он не нужен для математики, словесности и вообще для науки? Чем же все вообще науки заслужили себе такое дурное мнение, что их всякий бесталанный знать может?»162[35]
В эти годы много пишет о пользе рисования в школе Д. М. Струков. Среди его книг — «Школа рисования» (М., 1859, 1863), «О важности рисования» (М., 1868), «О рисовании в России» (М., 1878), «Курс рисования» (СПб., 1877—1888, в пяти тетрадях), «О желательных улучшениях в постановке обучения рисованию» (СПб., 1896) и др.
Однако все это были бесплодные усилия отдельных энтузиастов эстетического воспитания, которые не могли изменить общее состояние дел во всей России. В общеобразовательных учебных заведениях не было ни условий для нормальной учебно-воспитательной работы, ни достаточного количества квалифицированных учителей.
В 1864 году Уставом средних учебных заведений рисование было исключено из числа обязательных предметов. В Уставе говорилось, что отказаться от преподавания приходится, с одной стороны, по «недостатку времени», а с другой стороны, «по недостатку хороших учителей».
Не было в это время и необходимых учебных пособий и методических руководств. В 1865 году учебный комитет Министерства народного просвещения объявляет конкурс на составление методических руководств по рисованию, черчению и чистописанию. Однако желающих принять участие в конкурсе оказалось немного, премия в 500 рублей за пособие для гимназий и прогимназий так никому и не была присуждена.
После 1860-х годов стремление русских художников к теоретическим изысканиям и интерес к вопросам методики преподавания заметно ослабевает. И это понятно — людей России в то время волновали более важные проблемы.
В 1861 году было отменено крепостное право, вся страна ждала коренных изменений, но их не последовало. Это вызвало у передовых людей России гнев и возмущение. Отмена крепостного права оказалась хитрой игрой царского самодержавия, а «освобождение» крестьян — новой формой грабежа и надругательства. В. И. Ленин по этому поводу писал: «Пресловутое “освобождение” было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними... Вся вообще “эпоха реформ” 60-х годов оставила крестьянина нищим, забитым, темным, подчиненным помещикам-крепостникам и в суде, и в управлении, и в школе, и в земстве»163[36].
Вполне естественно, что передовые художники 1860-х годов обратили внимание на данное положение и повели непримиримую борьбу против пережитков крепостничества. Так, В. Г. Перов создает целый ряд произведений обличительного характера, вскрывающих темные стороны действительности: «Проводы покойника», «Тройка», «Проповедь на селе», «Сельский крестный ход на пасху», «Чаепитие в Мытищах» и др. Такие произведения рождали революционно-демократические настроения в массах, волновали сердца людей.
Не остался равнодушным В. Г. Перов (1833—1882) и к делу художественного образования молодежи. Это был художник-педагог с новыми революционно-демократическими взглядами, с прогрессивными педагогическими установками. Он был противником официального направления Академии художеств, проповедовавшей отказ от передовых традиций академической школы. Он по-своему стал претворять в жизнь методические установки, преподанные ему педагогами Скотти, Мокрицким и Зарянко. В отдельных положениях он соглашался с ними, а во многом был и не согласен. Соглашался он с ними в главных принципах художественной педагогики: в научном обосновании методики преподавания, в точном и объективном воспроизведении натуры, в отстаивании реалистических принципов искусства.
По-новому Перов трактовал задачи учебного рисунка. В учебном рисунке, по мнению Перова, должны решаться и творческие задачи, так как чисто учебные задачи будут воспитывать ремесленника, а не художника. Зарянко считал, что рисунок и живопись неразрывны. Перов, следуя этой установке, считал, что рисунок находится в тесной связи и с композицией. Каждая натурная постановка должна иметь «картинную установку зрения».
Будучи противником официального академизма, Перов в то же время никогда не отрицал необходимость серьезного и углубленного изучения научных основ рисунка, академического штудирования натуры. И сам художник всегда внимательно относился к натуре. Стремление найти методы преподавания, которые бы помогли, с одной стороны, продолжить и развить дальше академические принципы учебного рисунка, а с другой развивать индивидуальные творческие способности ученика,— и было то новое, что внес Перов в методику преподавания.
Среди замечательной плеяды деятелей русской культуры просвещения второй половины XIX века особое место принадлежит И. Н. Крамскому (1837—1887).
Идеолог нового, передового искусства, глава передвижников изумительный рисовальщик, Крамской выразил свое отношений и к рисованию как учебному предмету. Крамской был не только первоклассным художником, но и опытным, эрудированным педагогом. Его взгляды на учебный рисунок и на методику преподавания представляют для нас огромный интерес.
Крамской решительно выступал против академии как учреждения, где господствовала анархия. В то же время он всячески приветствовал академическое обучение, дающее твердые, научно обоснованные знания ученикам. Объясняя В. В. Стасову положение дел в академии, Крамской пишет: «Главное во всем этом было следующее. В 71 году правительство как бы сказало: пора перестать помогать, будьте сами по себе. И вот уничтожили казенно-штатных и пришли все, кто хотел, и делал в академии то же, что хотел. Академия и была и не была. Профессора заняты Исаакием, а ученики пишут: чиновников, охтянок, мужичков, рынки, задворки, кто что попало»164[37].
В своих письмах Стасову, Третьякову, Репину Крамской постоянно подчеркивал, что для успешного развития искусства прежде всего нужны школы, где молодой художник мог бы развиваться не на основе интуитивных поисков, а на основе объективного, научного познания реальной действительности и законов искусства: «Мастерские нужны потому, что их нет вовсе; школа нужна потому, что ее тоже нет вовсе, а между тем есть три, четыре, пять человек, которые уже что-нибудь знают и могут кое-чему научить молодые побеги»165[38]. Без них не может быть и грамотного художника.
Начинающему художнику, по мнению Крамского, необходимо именно строгое академическое обучение правилам и законам. В письме к И. Е. Репину Крамской пишет: «Тут нельзя сказать: люблю или нет, хочется или нет, а они, эти... законы, существуют помимо моего и вашего личного вкуса и темперамента. С ними приходится ведаться всю жизнь: не сумел им подчиниться — погиб, а поскольку каждый из нас в состоянии их понять и свободно подчиниться им — настолько долговечен, хотя темперамент и вкус играют роль проводников, телеграфных проволок, но только проводников — ни больше, ни меньше. Это неприятно — согласен, мешает своеволию — более того согласен, это, наконец, надоедает... а они, законы эти, все-таки есть, были и будут»166[39].
«Что нужно делать, какие шаги должно сделать русское искусство, какие ближайшие задачи исторически на очереди? — пишет И. Н. Крамской П. М. Третьякову,— Мастерские и школа. И то и другое должно дать или государство, если оно русское, или общество, если оно существует. Государство не даст теперь потому что оно не русское, общество не даст, потому что его вообще еще нет, а если и есть несколько десятков человек во всей России, то они так разбросаны и места их жительства так мало известны, что единственный адрес мне, да и всем, мало-мальски думающим русским художникам, известный, один — это Лаврушинский переулок...»167[40].
И Н. Крамской мечтал о такой школе, которая помогла бы молодому художнику найти свое место в общественной жизни, определить назначение своего искусства. Императорская Академия художеств не давала этого молодым художникам, отгораживая их от реальной действительности. По всей России развернулась борьба против крепостного права, а в академии писали картины на религиозные сюжеты, оставаясь равнодушными к событиям жизни. Передовые общественные силы развернули борьбу против реакционной идеологии, налагавшей цепи на свободную научную и творческую мысль. Революционно-демократические идеалы разночинной интеллигенции России указывали новые пути в развитии науки, искусства и педагогики. Этими идеями вдохновлялся и Крамской. Как уже отмечалось, он с тринадцатью товарищами демонстративно выходит из Академии - художеств, отказавшись писать конкурсные работы на мифологические и религиозные сюжеты, доказывая, что в жизни есть более интересные и прекрасные темы для художника. Возглавив Общество передвижников, Крамской ведет борьбу против официальной академии. Выступая против рутины, лишавшей молодого художника возможности проявить свою индивидуальность и творческие способности, он категорически был против своеволия и анархии в учебе.
Следует еще раз подчеркнуть, что ревнивая защита академических основ рисунка бесспорно справедлива. Однако недостаток академической школы той поры заключается прежде всего в том, что она не имела научно обоснованных методов преподавания, не отвечала новым требованиям жизни. Ни Чистяков, ни Крамской, а затем Репин и Серов не отвергали академическую школу рисунка и в то же время прекрасно понимали, что старая академическая система обучения уже утратила свои сильные стороны. Слепое, пассивное следование образцам старой школы привело к ослаблению подлинного понимания рисунка. Поверхностное наблюдение натуры, безжизненная, тупая «тушевка с конопаткой», формальное использование линии в рисунке ради внешнего эффекта — все это было чуждо новому поколению. Если же академическая традиция развивалась дальше, обогащалась новыми методами, она приобретала действенный характер, отвечающий требованиям времени. Это понимали деятели русской культуры.
Противники академического направления в художественной школе и вообще школы как таковой нередко ссылаются на Стасова, который якобы всегда выступал против академии как школы и ратовал за «свободное» воспитание, без всяких правил и законов искусства. Это неверно. Стасов пишет: «Да, я враг, непризнаватель и преследователь Академии художеств, — но которой? Ведь только той, которая понапрасну хочет вмешиваться и везде, которая желает все направлять, постановлять, обо всем решать, всюду накладывать свою руку, всюду распространять свой вкус и дух. На академию, как высшее училище, я никогда не нападал (подчеркнуто мною — Н. Р.) с тех пор, как она стала приближаться к давним заветным мечтаниям лучших и интеллигентнейших русских художников»168[41].
Академия как высшее художественное учебное заведение, следующее научным методам преподавания, помогало всестороннему развитию и образованию молодых художников. Особенно необходимо академическое обучение при овладении рисунком — основой основ изобразительного искусства. Дальнейшим развитием академической системы и обогащением ее новыми методами преподавания и занимались И. Н. Крамской и П. П. Чистяков.
Особенно много ценного в методику преподавания академического рисунка внес И. Н. Крамской.
И. Е. Репин вспоминал, что как педагог Крамской не имел себе равных. Это подтверждают и другие его ученики: «С первого же раза можно было оценить все совершенство его преподавания! Он был неутомим, все часы своих занятий, переход от одной ученицы к другой, не переставая делать замечания поразительные по верности взгляда и простоте изложения, для всех понятного. Он был необыкновенно красноречив и в то же время так ясен, что сразу понимали, что от вас требовалось. Знание его анатомии человеческого тела было так превосходно, что ни одна, самомалейшая ошибка не проскальзывала мимо его внимательного взора; ни одной ошибки он не дарил вам тотчас же ее карая и, вместе с тем, все это высказывалось просто, с замечательным тактом и деликатностью. Указывав ошибки, он в то же время читал целые лекции пластической анатомии, на память набрасывая скелеты или одевающие их мускулы и мышцы, владеющие теми или другими движениями сокращениями»169[42].
Во время учебной работы Крамской был всегда серьезен и внимателен ко всем ученикам. Он считал, что педагог перед учениками всегда несет большую ответственность. И. Е. Репин по этому поводу говорил: «Вот он остановился перед работой одного ученика. Какое серьезное лицо! Но голос приятный задушевный, говорит с волнением... Ну и слушают же его! Даже работу побросали, стоят около, разинув рот; видно, что стараются запомнить каждое слово. Какие смешные и глупые лица есть, особенно по сравнению с ним. Однако как он долго остается все еще у одного! Сам не поправляет, а только объясняет»170[43].
Большое значение в рисунке Крамской придавал форме, правильному пониманию объема. Одного знания конструктивных особенностей строения формы недостаточно, мало понять, необходимо еще это прочувствовать, «проосязать» руками, для чего ему необходимо заниматься и скульптурой. Разговаривая по этому поводу с Репиным, Крамской поделился с ним своим опытом работы: «”Это вот, видите ли, я взял заказ написать образ Христа: писал, писал, даже вот вылепил его”.
Он снял на станке мокрые покрывала, и я увидел ту же удрученную голову Христа, вылепленную из серой глины. Ах, как хорошо! Я не видел еще никогда только что вылепленной скульптуры и не воображал, чтобы из серой глины можно было вылепить так чудесно. “Чтобы добиться легче рельефа и светотени, — продолжал он, — я взялся даже за скульптуру”»171[44].
Крамской прекрасно знал конструктивные особенности строения различных форм, законы светотени, анатомии, перспективы, Он мог без натуры точно указать ученику, где ошибка и как ее следует исправить. Репин рассказывает: «Через некоторое время (в январе 1864 г.) я поступил в Академию художеств, но рисунки свои после академических экзаменов приносил Крамскому; меня очень интересовали его мнения и замечания. Меткостью своих суждений он меня всегда поражал. Особенно удивляло меня, как это, не сравнивая с оригиналом, он совершенно верно указывал мне малейшие пропуски и недостатки. Именно этот полутон был сильнее, это я уже заметил на экзамене, а главные орбиты снизу, и нижняя плоскость носа — с плафона, действительно, были шире. А вот академические профессора-то, наши старички, сколько раз подходили, подолгу смотрели, даже карандашом что-то проводили по моим контурам, а этих ошибок не заметили; а ведь как это важно: совсем другой строй головы получается. Мало-помалу я потерял к ним доверие, интересовался только замечаниями Крамского и слушал только его»172[45].
Крамской считал, что основные положения живописи и рисунка не могут быть произвольными и случайными, они должны быть прежде всего научно обоснованы. Эту задачу может решить только всесторонне образованный художник. Обращаясь к Репину, Крамской говорил: «Образование — великое дело! Знание — страшная сила. Она только и освещает всю нашу жизнь и всему дает знание. Конечно, только науки и двигают людей. Для меня ничего нет выше науки; ничто так не возвышает человека, как образование. Если вы хотите служить обществу, вы должны знать и понимать его во всех его интересах, во всех его проявлениях, а для этого вы должны быть самым образованным человеком. Ведь художник есть критик общественных явлений; какую бы картину он ни представил, в ней ясно отразится его миросозерцание, его симпатии, антипатии и главное — та неуловимая идея, которая будет освещать его картину»173[46].
В овладении изобразительным искусством, по мнению Крамского, основополагающая роль принадлежит рисунку. Рисунком должен владеть каждый художник. О себе Крамской пишем «Я много потратил времени на рисунок, я лишался аппетита, когда нос оказывался не на своем месте или глаза сидят недостаточно глубоко; это было сущее несчастие»174[47].
Серьезное отношение к рисунку Крамской старался привить и своим ученикам. В этом отношении примером может служить работа Репина над дипломной картиной «Воскрешение дочери Иаира». Чтобы найти правильную и убедительную позу Христа Репин обращается к рисунку с натуры. Вначале он рисует фигуру молодого натурщика, чтобы проследить за особенностями строения формы при данном положении человека. Он ведет детальный академический анализ натуры, внимательно проверяет и уточняет положение ног (это ясно видно в тех поправках которые художник делает в рисунке ступней). Затем он штудирует в той же позе фигуру пожилого натурщика, чтобы подметите характерные особенности формы тела зрелого мужчины.
Наконец, Репин переходит к рисунку драпировки. Вначале он драпирует фигуру Натурщика с большим количеством разнообразных по форме складок — ниспадающих, собранных в пучки и спокойно облегающих тело. Однако такое расположение складок вносит в композицию беспокойство и взволнованность, поэтому художник отказывается от такой трактовки и в конечном итоге находит иное решение.
Крамской внушал своим ученикам, что без рисунка невозможно добиться убедительного изображения формы даже в. живописи. Как бы ни были верно переданы цветовые и тоновый отношения, «объективности» не будет. Давая определение понятия «рисунок», Крамской писал А. С. Суворину: «Рисунок в тесном смысле — черта, линия, внешний абрис; в настоящей же смысле это есть не только граница, но и та мера скульптурной лепки форм, которая отвечает действительности. Слишком углубленные впадины или излишне выдвинутые возвышенности суть погрешности против рисунка. Совершеннейший рисунок будет тот, в котором плоскости и уклонения форм верно поставлены друг к другу, и величайший рисовальщик будет тот, кто особенность всякой формы передает столь полно, что знакомый предмет узнается весь по одной части. Рисунок чаще достигает объективности, нежели краска»175[48].
Конечно, раскрыть содержание рисунка в нескольких словах невозможно. Здесь нужен обстоятельный труд, обосновывающий научные положения рисунка, методику его преподавания, последовательность усложнения учебных задач. Над созданием школы рисования Крамской и работал несколько лет.
Обучение рисунку должно быть разделено на два периода — первоначальный и окончательный. «Прогресс нашего времени в том, что мы можем с большим удобством и пользою разделить развитие художника на два больших периода: первоначальный — рисовальные школы и окончательный — мастерские художников»176[49].
Обучение искусству должно начинаться в детском возрасте. «Техника искусства — вещь трудная, и нет, смотря потому, когда, то есть в каком возрасте, ее человек себе усваивает. А усвоение — то же, что усвоение элементарных знаний, приобретаемых памятью, главным образом. В 25 человеку очень трудно одолеть грамматику и арифметические аксиомы, а в 12 — легко. Точно так же и в искусстве. Я не говорю о высшей технике, технике художественной: она подымается вместе с развитием таланта; я разумею ту первоначальную технику, которая только воспитывает глаз и руку»177[50]. «Но зато учить нужно действительно,— говорит Крамской,— а не так, как в последние три десятилетия»178[51].
Методика преподавания, по мнению Крамского, — это то же искусство, и педагог должен быть гибким и иметь свободу в выборе методов обучения. «Но чтобы научить молодежь, нужна безусловная свобода преподавания. В академии нельзя излагать предмета без оглядки, в школе живописи в Москве — тоже»179[52].
Однако свобода преподавания не должна переходить в своеволие. Педагог должен следить за собой, быть дисциплинированным. Ученица Крамского Лаврентьева вспоминала: «Он приходил в класс раньше всех других преподавателей, и к нему стремились: и с композициями, не дождавшись Бейдемана, и с этюдами масляной живописи, до прихода Келлера, и с принесенными из дома набросками, и с анатомическими чертежами. И для всех у него был радушный прием, дельный совет, меткое замечание и все это облеченное в спокойно-деликатную форму вполне развитого человека... Уроки Крамского были для нас каким-то откровением, и мы смотрели на него, как на апостола, впервые возвестившего нам ту истину, о которой мы до того инстинктивно мечтали... Тащишь ему свой (рисунок. — Н. Р.) или поведешь его за собой в класс, и он такие всегда сделает верные замечания, так славно растолкует и распечет хорошо, что не унываешь, а, напротив, начинаешь больше стараться»180[53].
К наблюдению за развитием и успехами своих подопечных Крамской относился как к своему личному делу. В письме к Ф. А. Васильеву Крамской пишет: «Вы не знаете, с каким я интересом и сердечным трепетом ожидаю ваших картин (вот проболтался-таки). Но не думайте, ради бога, чтобы я вас наблюдал, как зоолог какое-либо интересное явление, с научными целями; нет, у меня другое в голове. Вы — точно часть меня самого, и часть очень дорогая. Ваше развитие — мое развитие. Ваша жизнь — отзывается в моей»181[54].
И. Н. Крамской обладал исключительным педагогическим тактом и умением обучать. Даже когда он хвалил ученика, он продолжал поучать и раскрывать закономерности и особенности построения рисунка и лепки формы тоном. Так, когда Репин принес педагогу работу, выполненную вне академии, Крамской стал ее хвалить. Репин пришел в недоумение: «Отчего же, скажите, Иван Николаевич, вы находите, что это лучше моих академических рисунков? — обратился я к Крамскому.
— Оттого, что это более тонко обработано, тут больше любви к делу; вы старались от души передать, что видели, увлекались бессознательно многими тонкостями натуры, и вышло удивительно верно и интересно. Делали, как видели, и вышло оригинально. Тут нет ни сочных планчиков, ни академической условной прокладки, избитых колеров. А как верно уходит эта световая щека, сколько тела чувствуется на виске, на лбу, в мелких складках! А потом глаза,— в академии так не рисуют их и не считают нужным так их заканчивать — очень серьезно и строго обработаны глаза. Краски тоже, все это просто у вас, а близко, очень близко к натуре. В академических ваших работа вы впадаете в общий шаблонный прием условных бликов и ловких штрихов, которых, я уверен, вы в натуре, на гипсе, не видите»182[55].
Педагогические взгляды другого выдающегося русского художника-педагога — П. П. Чистякова (1832—1919) получили признание уже в советское время и были обобщены в целом ряде искусствоведческих работ183[56].
Как уже отмечалось, рисование как учебный предмет в это время находилось в состоянии тяжелого кризиса, Академия художеств погрязла в рутине. Чистяков был одинок в своей работе по созданию новых форм и методов обучения воспитанников академии в соответствии с требованиями жизни
Не следует думать, что Чистяков отвергал значение академий как школы. Чистяков ясно понимал, что только широкий размах государственного учреждения наиболее пригоден для практического решения задач воспитания будущих художников. Система Чистякова противостояла не академии как школе, а тем устаревшим, рутинным методам преподавания, которые господствовали в то время в академии, и тем установкам, искажавшим академические принципы. О том, каким должно быть академическое обучение, Чистякову приходилось говорить даже руководителям академии. Так, Чистяков писал вице-президенту Академии художеств графу И. И. Толстому: «Вы меня, многоуважаемый граф Иван Иванович, спрашивали, какие произведения ставим мы в первую категорию. —Как преподаватели-руководители мы в первую очередь ставим те работы, которые исполнены в вышеозначенном серьезном направлении. Это и есть дело академии. Манерность у всякого своя, присущая натуре каждого. Манерности учить не следует.
Теперь перехожу на практику. Беру для образца “Бояна” г-на Вельонского. Посмотрите пальцы на руках, ногах; возьмите скелет — и вы увидите, что у него не палочки, состоящие из одного сустава, а пальцы, действительно имеющие в совокупности 14 косточек. И все это исполнено энергично, не полумерно и сознательно. Не ставя рядом по достоинству, но по направлению, советую посмотреть “Бабушку” Баруздиной. Посмотрите лоб, нос, скулы старушки и пр. Вы увидите и здесь то же. Каждый светик не зря положен, а по форме кости и сознательно. Вот это направление — академическое. Ошибки в пропорциях бывают; но ведь этот недостаток у всех встречается: у Рафаэля, Микель-Анджело (Моисей). Ошибка в фальшь не ставится, есть пословица. Если работано научно, серьезно, искренне, то ошибки извиняются...
Теперь посмотрите кисти рук у фигур в картине К. Е. Маковского. Крендельки, сосульки, крючки, сосисочки и пр. и все на один лад и одним цветом. У Лосева есть на картине пальцы об одном суставе. Вот эти работы для академии нехороши. Эти картины могут нравиться публике; но они порождают упадок в искусстве. — Талант не обделанный, не обученный (самоуверенный) всегда порождает разврат — упадок. И потому, любуясь и деля талант, следует держать направление. Идеалы, направления и суть все. Они и подымают общество, они же и роняют его»184[57].
Двадцатилетие деятельности Чистякова в качестве адъюнкт-профессора академии художеств (1872—1892) было основным и плодотворнейшим педагогическим периодом его жизни. В это время он вырабатывал новую методику преподавания, проверял на практике свою педагогическую систему. Однако титулованные идейные враги Чистякова, зная о прекрасных результатах его школы, всячески стремились дискредитировать ее. В царской России заслуги П. П. Чистякова как педагога и методиста не были оценены должным образом. В Императорской Академии художеств Чистякова всячески третировали, старались изолировать от молодежи, лишить возможности вести педагогическую работу (с 1890 по 1912 год Чистяков был заведующим отделением мозаики). Только в советское время стал изучаться богатый архив Чистякова. Советская художественная педагогика высоко оценила заслуги Чистякова и использует основные положения его методики.
Педагогические взгляды Чистякова представляют для нас особую ценность потому, что он основывает их на данных науки; «Высокое, серьезное искусство живописи без науки не может существовать. Наука в высшем проявлении ее переходит в искусство». Однако одна наука без мастерства не даст желаемого результата; «Искусство не есть одна наука, искусство пользуется наукой, искусство должно уметь законы и знания применять к делу, на то оно и есть искусство — уменье»185[58].
Основываясь на этом положении, Чистяков с особой осторожностью подходил и к индивидуальности каждого ученика. Он писал: «Каждый талант имеет свой особый язык и потому учить манере не следует; а следует просто учить правильно, натурально, то есть так, как в натуре дело лежит. Манерность присуща всякому своя. За что же я буду в зародыше уничтожать ее у ученика»186[59].
Особенно большое значение Чистяков придавал перспективе: «Строгое, полное рисование,— писал художник,— требует, чтобы предмет был нарисован, во-первых, так, как он кажется глазу нашему и, во-вторых, как он существует. Следовательно, в первом случае нужен даровитый глаз, а во-втором — знание предмета и законов, по которым он кажется таким. Допустим, что линия, начерченная на бумаге как оригинал, может быть срисована с помощью только талантливого глаза и поверена сравнением. Но линия — оригинал в пространстве не может быть нарисована верно вполне только посредством одного талантливого глаза. Она требует поверки точной, основанной на самых точных приемах. Предмет, нарисованный наглаз и поверенный (картинной) плоскостью, как посредником, будет, стало быть, нарисован, как он кажется глазу и как он существует в данный момент»187[60].
Главную роль в системе обучения Чистякова играла картинная плоскость, которая являлась посредником между натурой и рисующим и помогала сверять изображение с натурой. Именно поэтому свою систему рисунка в целом Чистяков назвал системой поверочного рисования»188[61]. Эта система построения изображения, как писал Репин, заключалась в следующем: «Она заключалась в перспективе плоскостей головы. Встречаясь на черепе, эти плоскости, т. е. границы этих плоскостей, образовали сеть на всей голове, что и составляло основу рисунка головы! Особенно интересной получалась перспектива встреч этих плоскостей; дробясь и разбиваясь в разные детали головы, эти плоскости совершенно правильно определяли величину этих деталей до меньших плоскостей и голова получала верный каркас во всех возвышенностях и углублениях целой головы. Она получалась стройная, рельефная. При этом торжествовало правило, что рельеф зависит не от тушевки, во что так верят все начинающие, а от линий этих правильно построенных оснований. Перспектива всякой детали от верного основания необыкновенно математически держит весь ансамбль головы. И даже странно видеть как голые линии неумолимо лезут вперед, если они поставлены на месте»189[62]. Примером подобного построения изображения головы могут служить работы В. Е. Савинского (рис. 81—83) и В. А. Серова (рис. 84, 85).

81. В. Е. Савинский. Рисунок
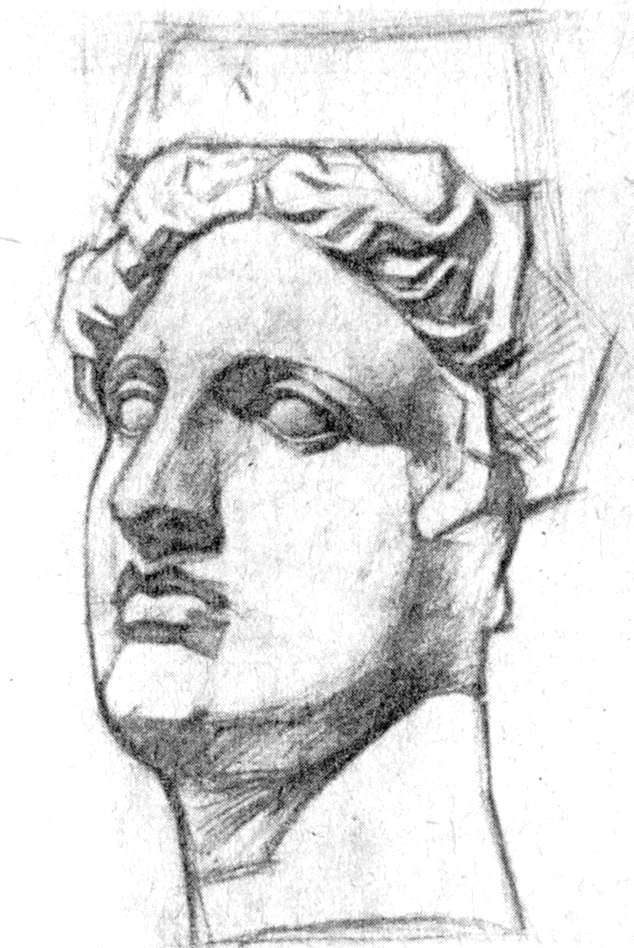
82. В. Е. Савинский. Рисунок

83. В. Е. Савинский. Портрет Саллоса

84. В А. Серов. Рисунок
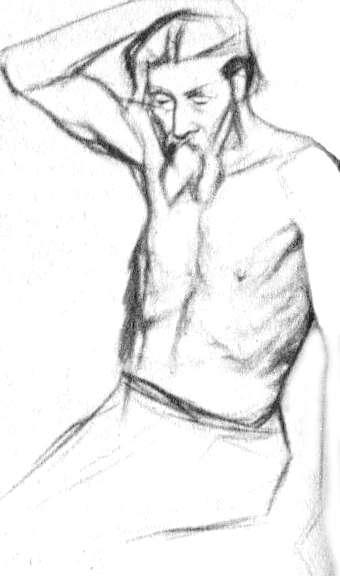
85. В А. Серов. Рисунок натурщика
Рассматривая рисование как серьезный учебный предмет; Чистяков указывал, что и методика его преподавания должна строиться на законах науки и искусства. Педагог не имеет права вводить ученика в заблуждение своими субъективными рассуждениями, он обязан давать достоверные знания. «Преподавание в академии должно идти не по произволу каждого художника, более или менее маньериста, а по законам, лежащим в натуре, нас окружающей, с полными доказательствами, на все ясными»190[63].
С особой серьезностью П. П. Чистяков подходил к педагогической работе. Он считал, что художник, пожелавший заняться учебно-воспитательной деятельностью, должен, кроме мастерства, иметь и специальную педагогическую подготовку. Чистяков писал: «Не в пику я это говорю, а в доказательство того, что не всякий, кто работает порядочно, может быть и учителем хорошим»191[64]. «По опыту могу сказать, великий мастер, художник не всегда великий учитель. Чтобы учить и хорошо учить, надо иметь к этому дар и большую практику»192[65]. Большую ценность для нас представляют идеи Чистякова, касающиеся взаимоотношений педагога и воспитанников, «Настоящий, развитой, хороший учитель палкой ученика не дует, а в случае ошибки, неудачи и пр. старается осторожно разъяснить суть дела и ловко навести ученика на путь истинный»193[66].
В то же время, соблюдая тактичность, учитель должен быть твердым и не делать уступки ученику, иначе он вскоре потеряет свой авторитет. «Я полагаю, что если бы учитель вздумал, уча учеников, колебаться и соглашаться с ними, то, наверное, ученики стали давать ему советы и потеряли бы веру в него. Хорош учитель! Здесь уже учитель только помеха делу, мучитель, ему бы пришлось выпустить из рук силу, сперва спорить, и может и хуже, что и бывает с неумелыми учителями»194[67].
Обучая учеников рисованию, надо стремиться активизировать их познавательную деятельность. Учитель должен дать направление, обратить внимание на главное, а решить эти задачи ученик должен сам. «Правильно научить несколько проверять себя, но не стоять за спиной ученика, указывая ошибки, предоставить ему свободу самому находить их, указывая только как смотреть, чтобы их находить через сравнение — формы, направления и связи»195[68].
Чтобы правильно решить эти задачи, педагогу необходимо научить воспитанника не только обращать внимание на предмет, но и видеть его характерные стороны. В учебном рисунке вопросы наблюдения и познания натуры играют первостепенную роль. Чистяков говорил: «По-настоящему прежде всего надо научить глядеть на натуру, это почти самое главное и довольно трудное»196[69].
Как педагог П. П. Чистяков интересовался не только профессиональным обучением рисованию, но и постановкой преподавания этого предмета в общеобразовательных школах. С 1871 года Чистяков и Крамской принимают активное участие в комиссии по присуждению премий за лучшие рисунки учащихся средних учебных заведений, присылаемых на конкурс в Академию художеств. Во время просмотров не только оценивались рисунки учащихся, но и обсуждались методы преподавания рисования в этих учебных заведениях.
Как мы уже говорили, в 1860-е годы преподавание рисования в общеобразовательных учебных заведениях было поставлено крайне плохо. Не хватало учителей рисования, не было нужных учебных пособий и методических руководств.
В связи с исключением рисования из числа обязательных предметов в средних учебных заведениях в 1869 году в Академии художеств был поднят вопрос об устройстве специальных педагогических курсов для подготовки учителей рисования, так как, окончившие полный курс в Академии художеств и получившие звания художника, «питомцы академии в дидактическом отношении были совершенно неподготовленными». При академии организуются Воскресные рисовальные классы для желающих получить право преподавать рисование. Подготовка учителей рисования основывалась на изучении лучших методов обучения.
Кроме того, в 1870 году для поощрения и развития художественного образования учреждаются художественные конкурсы для учащихся средних общеобразовательных учебных заведений, с присуждением поощрительных наград. Художественная комиссия не только присуждала награды за присланные рисунки, но и обсуждала вопросы методики преподавания рисования в общеобразовательных школах.
Первоначально конкурсы проводились один раз в 3 года, а затем стали ежегодными, просуществовав до 1913 года (всего было проведено 32 конкурса). Масштаб работы был большой. Каждое учебное заведение могло раз в 3 года (некоторые типы учебных заведений — раз в 6 лет) представлять на конкурсы лучшие работы своих учащихся. На одни выставки собирались работы мужских средних учебных заведений, на другие — женских, на третьи — промышленных учебных заведений и т. д. Чтобы был виден не только уровень подготовки ученика, но и система преподавания, требовалось представить: а) все рисунка за год одного из учащихся каждого класса; б) работы лучших учащихся (по одному рисунку от класса); в) объяснительную записку об условиях, содержании и методах занятий и сведения об учителе (образование, общий педагогический стаж работы в данном учебном заведении). Представленные рисунки рассматривала конкурсная комиссия Академии художеств, которая присуждала награды (медали, похвальные грамоты) как преподавателям, так и учащимся — авторам лучших работ. Печатные отчеты по каждому конкурсу позднее рассылались всем участникам. В этих отчетах делался анализ существующего состояния преподавания, давались рекомендации к решению задач вставших перед учителями, назывались лучшие (по постановке рисования) учебные заведения. Отчеты с большим успехом использовались учителями в практической деятельности.
В 1872 году рисование вновь включается в курс учебных предметов реальных и городских училищ. В том же 1872 году были учреждены Бесплатные воскресные классы рисования для народа. Преподавание в этих классах велось вначале под наблюдением профессора живописи В. П. Верещагина и академика архитектуры И. И. Горностаева, а впоследствии — художника В. П. Шемиота.
Ввиду того что Воскресные рисовальные классы при академии не могли дать достаточную профессиональную подготовку учителям рисования, академия пошла навстречу идее создать при ней специальное педагогическое учебное заведений
В 1879 году Государственный совет внес решение: «Учредить с 1 июля 1879 года при Академии художеств педагогические курсы для приготовления учителей рисования, с нормальной школой и музеем учебных пособий»; назначение курсов — «приготовление учителей и учительниц рисования для учебных заведений России». Назначение нормальной школы — дать слушателям курсов возможность применить на практике приобретенные ими познания. Назначение музея — приобретать и хранить учебные пособия по рисованию.
В наблюдательный комитет при курсах от Академии художеств назначались пять членов (в основном из числа действительных членов академии). Академией художеств была также создана комиссия по оценке работ, присылаемых из средних учебных заведений на ежегодные конкурсы по рисованию, черчению и моделированию.
Как уже отмечалось, при курсах работала нормальная школа, в которой слушатели проходили педагогическую практику. Не довольствуясь работами подготовительной комиссии по выработке инструкций для этих курсов, академия командирует главного инициатора курсов и первого их руководителя — В. П. Шемиота за границу для изучения применяемых там методов обучения рисованию.
По окончании полного курса (два года) слушатели педагогических курсов держали экзамен по методике рисования.
С 1903 года право преподавать рисование во всех учебных заведениях имели:
а) окончившие курс Высшего художественного училища при академии со званием художника и имеющие свидетельство об окончании педагогических курсов;
б) окончившие курс Высшего художественного училища со званием художника, но не прошедшие педагогических курсов;
в) окончившие натурный класс Высшего художественного училища со сдачей экзаменов по истории искусств, анатомии и перспективе и прошедшие педагогические курсы;
г) окончившие натурный класс Высшего художественного училища и сдавшие экзамены по истории искусств, анатомии и перспективе, но не прошедшие педагогических курсов;
д) окончившие курс академических художественных училищ в Казани, Одессе и Пензе и окончившие курс Центрального училища технического рисования барона Штиглица в Петербурге и Строгановского училища в Москве;
е) ученики натурного класса Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
Свидетельства на право преподавания рисования делились на три разряда соответственно учебным заведениям: 1) для средних учебных заведений; 2) для низших городских училищ; 3) для начальных училищ.
От желающих преподавать рисование в средних учебных заведениях требовалось умение хорошо рисовать с натуры обнаженную фигуру человека, интерьер, натюрморт, голову человека (масляными красками или акварелью); для низших учебных заведений — рисунок гипсовой фигуры, рисунок с натуры головы человека и интерьер (рисунок комнаты). Для получения права преподавать в начальных училищах — рисунок орнамента, натюрморт и линейный рисунок группы геометрических тел.
Право преподавать черчение имели лица:
а) окончившие курс по архитектурному отделению Высшего художественного училища;
б) окончившие курс высших технических учебных заведений;
в) выдержавшие экзамен на педагогических курсах экстерном.
С целью выработки методов преподавания рисования в общеобразовательных школах была создана специальная комиссия при Академии художеств. В эту комиссию входили выдающиеся художники: Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. П. Верещагин, К. Ф. Гун, П. П. Чистяков. Комиссия занималась также составлением программ для средних учебных заведений.
Программа, составленная комиссией для средних учебных заведений, требовала:
«С начала и до конца курса ученики должны рисовать с натуры так, чтобы наблюдалась строгая последовательности в выборе моделей, начиная с проволочных линий и фигур до гипсовых голов включительно;
Начальное рисование геометрических фигур и тел, как форм слишком отвлеченных и сухих, должно перемежаться с рисованием сходных с ними предметов из окружающей учеников обстановки;
Копирование с оригиналов должно быть совершенно оставлено, как вредное для начинающих и занимающее много времени. Знакомство с перспективой должно быть только наглядное и ни в коем случае объяснение ее правил не должно предшествовать наблюдению самих учащихся»197[70].
Много ценных мыслей о методике преподавания в общеобразовательных школах высказал И. Н. Крамской. В объяснительной записке к протоколу заседания комиссии Академии художеств по рассмотрению дел Министерства народного просвещения (1871—1872) мы узнаем мысли и выражения, которые не раз высказывались Крамским: «Всякому художнику, серьезно занимающемуся искусством, известно, что высшие художественные произведения имеют основанием самое реальное знание форм живой природы и ее законов, что сила выражения управляется такими же непреложными законами, как и любое доказанное положение науки, и что если до настоящего времени еще не разъяснены законы, руководящие художником в высших проявлениях искусства, то относительно низших его ступеней можно указать на множество правил, достаточных для первоначального образования в смысле научном.
Рисование, как изучение живой формы, есть одна из сторон знания вообще; оно требует такой же деятельности ума, как науки, признанные необходимыми для элементарного образования
...Вместо того, чтобы требовать копирования с оригиналов; которое, к прискорбию, господствует повсеместно, преподавателю, прежде всего, нужно: отказаться от желания получить сейчас же щегольские рисунки (они явятся впоследствии иным путем), научить глаз ученика измерению и понимания видимой формы, сосредоточить все свое внимание на развития в ученике понятий о предмете, о главных, типичных его очертаниях и о законах, от которых они зависят»198[71].
Члены комиссии имели в виду, что общие методические указания для средних и высших учебных заведений должны быть едиными и что учащиеся должны идти по пути постепенного накопления и углубления знаний и совершенствования мастерства. Комиссия поясняет, что «в средних общеобразовательных заведениях каждая наука преподается лишь в самых главных и характеристических своих чертах, более подробное изучение представляется уже тем высшим заведениям, которые специально для того существуют и имеют своей задачей всесторонне разрабатывать науку»199[72].
Касаясь методов преподавания рисования в общеобразовательных школах, Чистяков писал: «Изучение рисования, строго говоря, должно... оканчиваться с натуры; под натурой мы разумеем здесь всякого рода предметы, окружающие человека»200[73]. Копировальный метод он отвергал категорически: «Так, главнейшим недостатком должно признать почти повсеместное копирование с оригиналов, причем ученики работают бессознательно, часто с дурных образов и почти без пользы тратят слишком много времени на отделку рисунков в ущерб существенному изучению»201[74].
На рисование в школе Чистяков смотрел как на общеобразовательный предмет: «Рисование при уездных училищах и в гимназиях должно быть обязательно наравне с прочими предметами»202[75].
Рисование в школе должно быть таким же важным учебным предметом, как и другие, так как, рисуя с натуры, ребенок не просто наблюдает предмет, а анализирует, изучает его: «Рисование как изучение живой формы есть одна из сторон знания вообще; оно требует такой же деятельности ума, как науки, признанные необходимыми для элементарного образования»203[76].
О последовательности в обучении Чистяков писал: «Черчение и рисование начинается с изображения проволочных линий, углов, геометрических фигур и тел, за которыми следует рисование геометрических фигур, сделанных из картона или дерева, и с гипсовых орнаментов, причем дается понятие об ордерах архитектуры. Оканчивается оно изучением частей и маски головы, целой головы с анатомией, пейзажа и перспективы — это можно считать нормой гимназического курса»204[77].
Хотя общеобразовательная школа и не готовит художников, говорит Чистяков, однако преподавание рисования должно проходить по всем правилам и законам этого искусства. Обучая рисованию с натуры, педагог должен раскрывать детям правильные положения реалистического искусства, знакомить с научными положениями перспективного построения трехмерного изображения на двухмерной плоскости, а не ограничиваться наивными и примитивными изображениями детей. Организуя рисование с натуры, педагог должен соблюдать следующие требования: «Требуется при рисовании с геометрических тел соблюдать точное исполнение необходимых условий теории линейной перспективы, а именно: требуется сознавать положение картинной плоскости под прямым углом к оси зрения и с точкой зрения посредине оной плоскости. Следствием чего является необходимость объяснять ученику положение его картинной плоскости относительно срисовываемого предмета на том основании, что предмет всегда остается в одном положении, а места рисующего относительно его различно изменяются»205[78]. И далее: «Во втором отделении, где рисуют с натуры геометрические тела, следует предварительно дать учащимся простое и ясное понятие об устройстве глаза человеческого, объяснить правила перспективы, как науки, вытекающей из оного устройства глаза и относительного расстояния предметов. Дать понятие о картинной плоскости, о горизонте, точке зрения, схода, об отдалении и прочее»206[79].
Всему этому следует обучать, соблюдая педагогический такт и учитывая индивидуальные особенности своих учеников. Ученик Чистякова живописец М. Г. Платунов писал: «Прежде всего, говорил он, надо знать ученика, его характер, его развитие и подготовку, чтобы в зависимости от этого найти нужный подход к нему. Нельзя подходить с одной меркой ко всем. Никогда не надо ученика запугивать, а наоборот, вызывать в нем веру в себя, чтобы он, не идя на поводу, сам разбирался в своих сомнениях и недоумениях. Главным образом руководство должно заключаться в том, чтобы направить ученика на путь изучения и вести его неуклонно по этому пути. В учителе ученики должны видеть не только требовательного учителя, но и друга»207[80].
Таким образом, вклад, сделанный Чистяковым в метод преподавания рисования, представляет большую ценность не только для специальных учебных заведений, но и для общеобразовательных школ.
Однако все эти ценные идеи не были претворены в жизни. Официальное направление в художественной педагогике оставалось прежним. Более того, в школьную методику преподавания рисования стали внедряться схоластика, догматизм, формальный подход к обучению. Об этом свидетельствует разнообразная методическая литература конца XIX века. Здесь можно встретить работы и академического направления, и пособия, повторяющие известные методы рисования. Некоторые авторы отождествляли геометральный и копировальный методы, предлагая рисование геометрических фигур с настенных таблиц.
Примером могут служить пособия: Смирнов А. Н. Таблицы для преподавания рисования. СПб., 1894; Попов М. М. Стенные таблицы для элементарного рисования. СПб., 1896, Пуцыкович Ф. Ф. Рисование по сетке. СПб., 1881, 1908; Маймистов М. Пособие при первоначальном обучении рисованию. М., 1890; Волчанский В. Я. Элементарный курс рисования. Лодзь, 1898, ч. I—III
Большинство предлагаемых методов обучения в этих пособиях были далеки от искусства, от живого восприятия реальной действительности.
Попытки сохранить правильную линию в методике преподавания рисования в школах не имели должного успеха. Как ни старались отдельные авторы показать, что академическое направление получает новую методику развития, всеобщей поддержки они не имели. Так, Н. А. Мартынов в своем пособии писал: «За последнее время постановка вопроса о преподавании рисования в наших учебных заведениях подверглась коренному изменению.
Негодность старой системы, при которой все обучение сводилось к механической копировке с так называемых “оригиналов”, стала, наконец, для всех очевидною. Все новые программы, с академическою программою 1888 г. во главе, единогласно говорят о необходимости заменить эту бессмысленную копировку рисованием сознательным, при чем конечной целью ставится уменье рисовать с натуры и развитие эстетического вкуса учащихся »208[81].
Надо отдать должное Н. А. Мартынову — в своих методических таблицах он наглядно показывает ученику, как он должен учитывать научные положения академического рисунка (перспективы, анатомии и т. д.) в момент построения изображения (рис. 86-89).
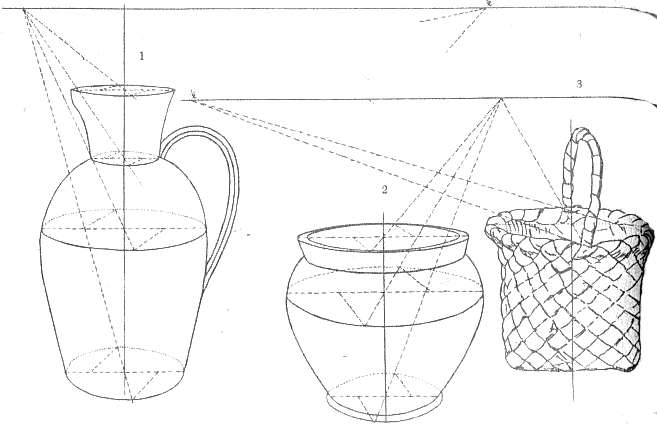
86. Таблица из пособия Н. А. Мартынова
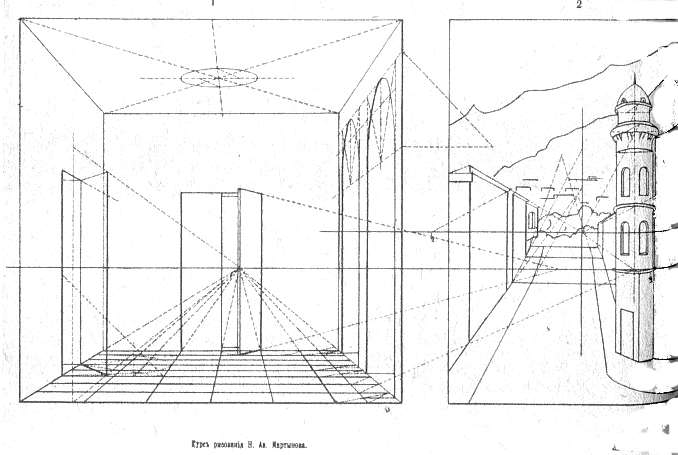
87. Таблица из пособия Н. А. Мартынова
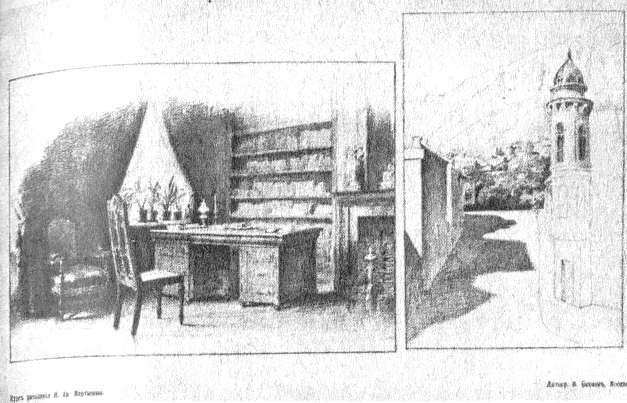
88. Таблица из пособия Н. А. Мартынова
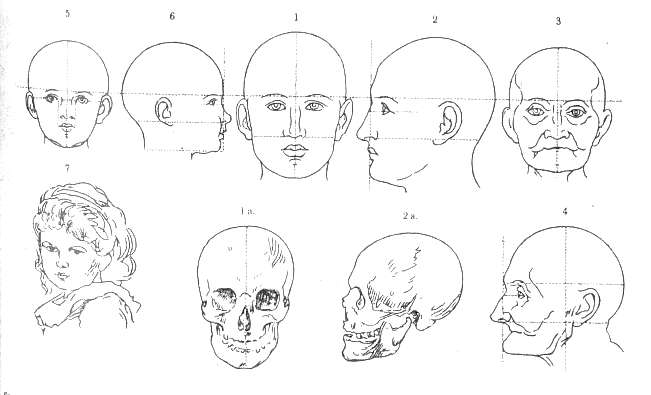
89. Таблица из пособия Н. А. Мартынова
Перечислим ряд методических работ, которые имели широкую известность среди учителей рисования: Шпарварт К. Н. Руководство к рисованию по правилам перспективы. СПб., 1862. Это методическое руководство давало правильное направление в учебно-воспитательной работе; Польхау О. Преподавание рисования. Рига, 1862. Среди методистов это пособие имело довольно широкое распространение, однако для нашего времени оно не представляет особого интереса; Иосифов Н. Наглядное обучение черчению и рисованию. СПб., 1866. Это пособие и сегодня представляет известный интерес для преподавателей и методистов общеобразовательных школ; Эренберг К., Ричель Г. Практический самоучитель изящных искусств. СПб. — М., 1873. Хотя эта книга и предназначалась для самообразования, ею пользовались и учителя общеобразовательных школ. Пособие содержит ряд оригинальных методических указаний; Шредер И. Н. Методы рисования на память. СПб., 1877. Предлагается метод рисования силуэта с помощью подсвета натуры сзади; Измайлов С. Курс рисования. М., 1880. Текст и таблицы; Виолле-ле-Дюк Э. Э. История рисовальщика. Как следует учиться рисовать. СПб., 1882. Пособие для детей младшего возраста. Пользовалось широкой известностью среди учителей рисования; Мартынов Н. А. О преподавании рисования. М., 1884. У специалистов методики преподавания рисования в школе эта книга может вызвать интерес; Методика рисования с натуры М., 1886, ч. I—II. Пособие раскрывает методику рисования с проволочных моделей; Гальнбек И. А. Краткое руководство к систематическому классному обучению. СПб., 1887. Методическое пособие для учителей общеобразовательных школ; Первухин Л. П. Новая полная школа самообучения живописи. Теория, дидактические и методические заметки и правила к школе черчения и рисования. М., 1888. Представляет интерес с методической точки зрения; Гауш А., Роот Н. Пособие по рисованию. Альбом рисунков русских художников. Это пособие аналогично пособию Барга; Федоров И. Школа рисования. М., 1889. Рисование с проволочных моделей; Пилле Ж. Руководство к начальному преподаванию рисования. 1889. Имело широкую известность среди школьных учителей рисования; Отчет о курсе по рисованию, черчению и моделированию. СПб., 1890. Представляет интерес для методистов средней школы; Мартынов Н. А. Курс рисования. М., 1891, ч. I—II; Бересов П. Образцы рисования 1891. Методика рисования по клеткам, для приготовительных классов; Янышев Н. М. Методическое руководство для обучения рисованию. Мелитополь, 1892—1896. Показана методика копирования с оригиналов. Книга представляет интерес с исторической точки зрения, для знакомства с методикой работы в оригинальных классах; Смирнов А. Н. Таблицы для преподавания начального рисования. СПб., Булгаков В. Значение школьного рисования. М., 1895; Конц Г. Важнейшие законы перспективы в применении к рисованию с натуры. М., 1895; Раевская-Иванова М. О преподавании рисования. М., 1895. Последователь американского метода преподавания. Пособие пользовалось широкой известностью среди учителей общеобразовательных школ; Вундерлих Т. Методика к преподаванию рисования. М., 1895. Яковлев Б. Я. Рисование как общеобразовательный предмет. М., 1896. Пособие представляет большой интерес и для современного читателя. В нем раскрываются роль и значение рисования в общем развитии человека; Гортов А. К. Методика рисования. Казань, 1897. Пользовалась широкой известностью среди методистов общеобразовательных школ; Попов М. М. Систематический курс рисования с проволочных моделей. СПб,, 1897; Вундерлих Т. История методики рисования от руки. М., 1897. Один из первых исторических очерков по истории методов преподавания рисования в общеобразовательных школах. Пособие имело большую популярность среди методистов.
Отметим, в заключение, большинство названных работ ориентировало учителей на механическое рисование — либо на копирование с образцов (стенных таблиц), либо на рисование сетке.
