
- •Часть I
- •Глава I. Введение в режиссуру эстрады
- •Глава 2. Изучение основ режиссуры эстрады
- •Глава 3. Работа над созданием номеров различных эстрадных жанров
- •Глава 4. Работа режиссера эстрады с автором
- •Глава 5. Работа над учебным эстрадным спектаклем
- •Глава 6. Основные формы
- •Часть II драматургия концертного действия
- •Глава I. «архитектурный проект» зрелищных искусств
- •Глава 2. Монтаж эпизодов, аттракционов, номеров
- •Глава 3. Режиссер-драматург
- •Глава 4. Монументализм и пафос
- •Глава 5. Из драматургических опытов прежних лет
- •Часть 1. Успехи социалистической индустрии.
- •Часть II. За социалистическое преобразование деревни.
- •Часть III. Долой империализм! Вперед к социализму!
- •Глава 6. Сценарий — основа массового праздничного действа
- •Глава 7. Музыка и слово
- •Глава 8. Литературный сценарий и режиссерская экспликация
- •Часть III
- •Глава 1. О сущности массового действа
- •Глава 2. Из истории
- •Глава 3. Празднества в советской россии
- •Глава 4. Театрализованный концерт
- •Часть IV
- •I. Создание сценария массового представления и массового праздника
- •II. Постановка массового театрализованного представления на театрально-концертных площадках (Кремлевский Дворец съез дов, Дворец спорта, Зеленый театр и т. Д.)
- •Глава 1. О некоторых особенностях режиссуры жанра
- •Глава 3. Художник. Цвет. Свет
- •Глава 4. Монтаж пространства
- •Глава 5. Постановочная группа
- •Глава 6. Работа с массой
- •Глава 7. Кинофикация массового действа
Глава 2. Из истории
МАССОВЫХ ПРАЗДНЕСТВ И ЗРЕЛИЩ
- Массовые праздники и зрелища имеют богатую историю, уходящую своими корнями в глубь веков, в древние народные обряды и действа.
Знание процесса возникновения массовых празднеств и зрелищ, формирования различных направлений необходимо будущим режиссерам, приступающим к изучению этого сложного синтетического жанра. Поэтому практическому изучению основ массовых празднеств и зрелищ предшествуют установочные лекции, в которых прослеживаются пути развития жанра, его разновидности и основные этапы.
В основном речь пойдет о массовых празднествах в тех странах, где этот жанр получил наиболее яркое развитие. При этом учитывается, что история театра уделяет недостаточно большое внимание жанру, находящемуся на перекрестке путей театра и эстрады, и, как правило, о становлении этого вида зрелищ студенты имеют несколько смутное представление. Вот почему нужно обогатить знания и фантазию студентов изучением процесса развития такого сложного жанра, как массовые празднества и зрелища.
Обращаясь к молодежи на III Всероссийском съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи, В. И. Ленин говорил: «Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработ-
235
ЮйвЯШИИр^НИВ!
 кой
ее можно строить пролетарскую культуру
— без такого понимания
нам этой задачи не разрешить»1.
кой
ее можно строить пролетарскую культуру
— без такого понимания
нам этой задачи не разрешить»1.
Эти ленинские слова важны при изучении процесса становления жанра массовых представлений, так как каждая эпоха и каждая страна налагали на народные празднества отпечаток своей политической, государственной и общественной жизни, своих эстетических воззрений.
По народным празднествам, т. е. по одному из самых массовых и демократических искусств, мы можем судить о стране, эпохе, народе. Сопоставление массовых празднеств разных времен и народов подтверждает это. Даже беглое ознакомление с историей массовых празднеств и зрелищ убеждает нас в том, что тяга к коллективному художественному творчеству, с наибольшей полнотой выразившаяся в этом жанре искусства, является органической потребностью народных масс.
История массовых праздничных действ насчитывает около тридцати веков. Массовые празднества родились в Древней Элладе. Наверное, вместе с ними появилось и греческое слово «эортология», т. е. наука о празднествах. Само возникновение этого слова, а следовательно, и понятия, связанного с ним, говорит о том, какое большое значение придавалось массовым празднествам в античном мире.
Многодневные праздничные действа, возникавшие на улицах городов-государств Древней Греции, триумфальные шествия Древнего Рима, средневековые мистерии Западной Европы, превращавшие площади и улицы в огромный многотысячный театр, традиционная весенняя игра в «майского короля», популярная в феодальной Англии, буйство красочных карнавалов Итальянского Возрождения, традиционные театрализованные шествия по улицам средневековых городов представителей гильдий и цехов, празднества французской революции, старославянские «игрища», русские народные гулянья «под горами» и «под качелями», наконец, революционные народные праздники в Красном Петрограде и других городах Советской России, а также современные массовые представления — все это та или иная разновидность массовых праздничных действ. Они веками сопровождали все значительные события в жизни народа, выявляя и фиксируя в народном искусстве общественные и политические идеалы, господствующие в данную эпоху.
Часть материала о народных празднествах (Великие Дионисии Древней Эллады, средневековые мистерии, карнавалы эпохи Возрождения, равно как и традиционные цеховые празднества, русские народные гулянья) известна по истории русского и западноевропейского театра, и этим темам театроведение уделило определенное внимание. Существует целый ряд превосходных исследований (Д. П. Каллистов. «Античный театр», А. К- Дживелегов. «Итальянская народная комедия», М. М. Бахтин. «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессан;
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 304.
са», труды Б. Н. Асеева, С. С. Мокульского, А. А. Аникста, Г. Н. Бо-яджиева, Е. М. Кузнецова и ряд других). Их мы рекомендуем вниманию читателей.
Краткий исторический обзор массовых празднеств и зрелищ мы начинаем с празднеств античного мира.
ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Предпосылкою греческого искусства является греческая мифология, т. е. природа и общественные формы, уже переработанные бессознательно-художественным образом народной фантазией.
К- Маркс. «К критике политической экономии»
Необычайной красочностью, массовостью и превосходной организацией отличались праздники Древней Эллады. Их начало — в традиционных религиозных хороводных танцах с пением. Впоследствии эти хороводы в известной степени потеряли свой религиозный смысл, став принадлежностью народных гуляний в праздничные дни. Последнее обстоятельство представляется важным при анализе становления жанра массовых празднеств, ибо процесс постепенного отхода от первоначальной религиозной основы в сторону демократизации как самой тематики, так и ее воплощения вообще является характерным для народных празднеств.
В хороводе слились воедино слово, музыка, танец, т. е., как считал А. Н. Веселовский, образовался тот синкретизм, которым он определил главное в поэтике («сочетание орхестических движений с песней, музыкой и элементами слова»).
Любопытно обратить внимание на следующий фрагмент из «Илиады» Гомера, где описано хороводное действо:
Юноши в хоре и девы, для многих желанные в жены, За руки взявши друг друга, на этой площадке плясали. ...Девушки были в прекрасных венках, а у юношей были Из серебра ремни, на ремнях же ножи золотые. Быстро они на проворных ногах в хороводе кружились, Так же легко, как в станке колесо под рукою привычной, Если горшечник захочет проверить, легко ли вертится. Или плясали рядами, одни на других надвигаясь. Много народу теснилось вокруг, восхищаясь прелестным Тем хороводом. Певец же божественный пел под формингу, Стоя в кругу хороводном; и только лишь петь начинал он, Два скомороха тотчас начинали вертеться средь круга1.
Это описание непосредственного участника события, каким, очевидно, был Гомер, можно считать документальным; наличие же в нем скоморохов, пляшущих под пение солиста, убеждает нас в том, что во времена Гомера эллинские хороводы уже мало напоминали религиозные обряды, став компонентом народных празднеств. Хороводы стали традицией и в Древней Спарте, на
Гомер. Илиада/Пер. В. Вересаева. М.—Л., 1949, с. 411.
236
237
Олимпийских играх, где многочисленные певцы и группы танцоров показывали свое искусство.
Но не одними хороводами ограничивались праздники Древней Эллады. Празднества в Афинах в честь Диониса, бога плодородия, веселья, вина и театральных представлений, являли собою уже не просто песенно-танцевальные хороводы, а целые многодневные массовые действа, оставившие заметный след в истории мировой культуры.
Древняя Эллада, по определению К- Маркса, достигла «высочайшего внутреннего расцвета». Это был также расцвет различных искусств, в том числе и театрального искусства.
О великих греческих трагедиях, о блистательных опытах античных комедиографов, о спектаклях афинского театра написано множество превосходных исследований, где прослежен и определен процесс возникновения античного театра, пути его становления и развития.
Мне хочется добавить к вышесказанному, что, как правило, спектакли афинского театра Диониса являлись составной частью Дионисий, грандиозных многодневных народных празднеств в Афинах, и обычно завершали эти празднества.
Рождение театра как самостоятельного вида искусства относят к VI веку до н. э. Место рождения — Афины. Думается, что и родословную массовых празднеств также целесообразно вести с этих времен, тем более что исследователи подтверждают: именно на Линеях — народных праздниках в честь Диониса — родились первые театральные спектакли.
Массовые действа, став официальными государственными праздниками, оставались детищем народного искусства Древней Эллады, уходя корнями в самую его глубь. Источники этих массовых празднеств — в народных обрядах и обычаях, карнавальных игрищах и мифах.
В такой тенденции к демократизации официального искусства сказалась политическая и общественная обстановка в стране. Ряд политических побед афинского демоса над древнегреческой аристократией и укрепление демоса как господствующей силы вызвали к жизни грандиозные празднества, в недрах которых впоследствии зародился и древнегреческий театр.
Во второй половине'VI века до н. э. Писистрат, пришедший к власти в Афинах, возвел культ Диониса в культ государственный. Этот акт был результатом точно рассчитанной дальновидной политики Писистрата, боровшегося с родовой аристократией. Он не случайно выбрал Диониса: этот бог испокон веков был традиционным богом простого люда, покровителем наиболее многочисленной общественной силы Эллады.
Превратив культ самого, если можно так сказать, «демократичного» бога в общегражданский, государственный, возведя на Олимп его мать Семелу, Писистрат завоевал сердца самых простых людей Древней Греции. Дионис стал не только символом вина и плодородия; он отныне стал символом народного празд-238
нества, народного веселья и театральных представлений. По существу же, Великие Дионисии — это праздник весны, плодородия,
здоровья.
В дни Великих Дионисий на шумных афинских улицах и площадях, на торжественной улице Треножников, где все говорило о подвигах и героических деяниях, в тенистом парке Академа, на залитых ослепительным солнцем сельских улицах — все были
равны.
Жан-Жак Руссо писал о зрелищном искусстве Эллады: «Прекрасные и величественные спектакли, которые ставились под открытым небом перед лицом всего народа, изображали лишь сражения, победы, награды — события, способные внушить грекам благородный пыл соревнования и воспламенить сердца стремлением к доблести».
Античная трагедия, будучи частью огромных народных праздников, несла на себе определенный отпечаток этих общественных зрелищ: являясь искусством синтетическим, античная трагедия включала, помимо драматических монологов и сцен, декламацию и речитатив в сопровождении оркестра, хора, драматические пантомимы и танцы.
В спектаклях театра Диониса разнородные жанры представали сведенными воедино, как бы спрессованными могучей волей драматурга, подчинившей действенной линии все эти многочисленные и такие отличные друг от друга жанры, бытующие на улицах и площадях Афин в дни народных празднеств Древней Эллады.
А. Я. Таиров справедливо отмечал: «Если мы вспомним зачатки происхождения античного хора и обратимся к тому времени, когда еще не существовал театр как обособленное искусство, обратимся к разного рода играм, празднествам (возьмем в качестве такого классического примера праздник Диониса по сбору винограда, когда весь народ являлся действующим началом и только выдвигал из своей среды отдельных запевал, ставших прообразами появившихся в дальнейшем актеров) — тогда, конечно, хор представлял из себя не рацио, а основную действенную пружину в общем празднестве, основной его элемент, основную базу, почву, силу»1.
Исследователи отмечают, что Дионисии были «не днями праздности, а днями празднований» (Д. П. Каллистов), регламентированными различными обрядами и обычаями, гармонично сочетавшимися друг с другом. Это были и торжественные шествия через весь город, и культовые церемонии, и специально предусмотренные моменты для непосредственного участия народа в веселье, где каждому из присутствующих предоставлялась полная свобода самовыявления, и целая серия состязаний музыкальных, спортивных, хоровых и, наконец, только в заключении — состязаний драматических.
Говоря об античных празднествах, следует упомянуть четыре
ежегодных праздника Диониса. Малые (или Сельские) Дионисии в декабре — январе были приурочены к первой пробе молодого
1 Т а и р о в А. Я. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., 1970,
с,
304.
вина. В эти дни устраивались веселые процессии с песнями и танцами, играми и шутками, переодеваниями, шествиями ряженых и т. д. (характер этих праздников в чем-то напоминает красочные народные обряды русского крестьянства).
Второй праздник Диониса — Линей (январь — февраль) сходен по характеру с первым, но проводился он значительно торжественнее — в самих Афинах — и продолжался несколько дней. Линей характерны тем, что здесь впервые стали происходить театральные состязания, ставшие составной частью народного празднества.
Третий праздник Диониса — Анфестерий (февраль — март) продолжался три дня. Первый день был посвящен детям: с утра все афиняне с детьми спешили на площадь, где в этот день открывался рынок игрушек. Все дети в этот день получали подарки, и город был заполнен звонким смехом детей, радостью, играми. Во второй день праздника по Афинам ходили горожане, устраивая импровизированные процессии ряженых, персонажи которых были заимствованы из мифологии,— сатиры, нимфы, вакханки. Последний день праздника носил совершенно иную тональность: он посвящался памяти мертвых.
Самым главным был четвертый праздник Великих Дионисий (март). В эти веселые дни кредиторам запрещено было преследовать должников, судьям — провинившихся. Аресты на время праздников были также запрещены, и даже преступников выпускали из заточения на поруки.
В первый день Великих Дионисий праздничное шествие заполняло весь город. Начиналось оно от храма Диониса. Далее процессия по афинской улице Треножников направлялась в парк Академа, где у статуи Диониса выступали хоры мальчиков под руководством своих учителей. Состязания детских хоров, исполнявших песнопения, посвященные Дионису, продолжались целый день. Очевидно, в Афинах было множество детских хоровых коллективов, если их концерт продолжался от зари до зари. На закате солнца все — и участники празднества, и зрители — с песнями возвращались в город. Ночью при свете факелов под аккомпанемент тимпанов и флейт в городе возникали песни и пляски. По улицам до утра ходили веселые толпы ряженых, устраивая всевозможные потехи и развлечения. А утром начинался новый этап празднества — двухдневное состязание мужских хоров.
На четвертый день Великих Дионисий в огромном циркообраз-ном театре Диониса открывались трехдневные драматические состязания. По традиции они начинались под звуки труб торжественным прологом, всегда носившим политический и общественный характер: в нем участвовали герои войны и граждане, совершившие подвиги на благо отечества. После пролога звуки труб возвещали о начале спектакля.
Эти спектакли театра Диониса являлись кульминацией народных празднеств, ими заканчивались Великие Дионисии, вошедшие в историю культуры как первые массовые театрализованные праздники.
240
. Следует отметить, что тяга к театральности в античном мире была настолько сильна, что и дни поминовения мертвых превращались в своеобразные театрализованные представления, в которые включались печальные церемонии, связанные с плачами и траурными шествиями, и так называемые Элевсинские мистерии (одна из разновидностей античных массовых празднеств). Справедливо считается, что одним из источников античной драмы является обряд драматизированного заупокойного плача, получившего большое распространение в Древней Элладе. Описанию этих плачей Гомер посвятил многие страницы «Илиады». Существовали целые хоровые группы профессиональных плакальщиков и плакальщиц, а также своеобразных солистов-запевал.
Один из печальных обрядов Элевсинских мистерий был основан на мифе о поисках богиней Деметрой своей пропавшей дочери. Представьте себе огромные вереницы людей, бредущих к ночному морю с факелами в руках. Звучат в ночи печальные возгласы, сливаясь с шумом волн. Слышны заунывные стенания плакальщиц. Сверкает пламя многих тысяч факелов, озаряя скорбные лица. В ночной мгле, сгустившейся над бурным морем, тревожно колышутся огненные языки.
Это массовое действо не могло не производить огромного эмоционального впечатления. Здесь все — и сценарий (поиски пропавшей дочери), и время действия (ночь), и место его (берег моря), и художественное оформление (факельное шествие)—было прекрасно продумано и, естественно, достигало своей цели. Кстати, факельные процессии, рожденные в античном театре, существуют и по сей день, являясь компонентом современных фестивальных шествий.
Организация античных праздников всегда была отмечена высоким вкусом и изобретательностью тогдашних режиссеров. А в том, что все праздники кем-то придумывались и разрабатывались (сценарий), а затем осуществлялись (постановка), не может быть никаких сомнений, потому что несметное количество празднеств, обрядов, шествий, песен, танцев и огромные массы народа — буквально весь народ Афин и других греческих городов — должны были обязательно организовываться, направляться. Конечно, руководители грандиозных античных празднеств не назывались в те времена режиссерами-постановщиками, но есть свидетельство, подтверждающее существование античной режиссуры массовых праздников.
Когда по окончании Великих Дионисий созывалось народное собрание, подводящее итоги празднеств, то имена победителей, утвержденные народным собранием, увековечивались в Афинах. Особо отмечались заслуги устроителей и организаторов праздника. Участники собрания отдавали дань афинской государственной адми нистрации, награждая отличившихся венками, воздвигая в их честь статуи. Возможно, что режиссеры этих праздников (а, судя по всему, их-то и награждало народное собрание) входили в Афинах в число официальных лиц. (
241
 Горячий
патриотизм, мужественность и радость
бытия — все это
черты жизненной философии Древней
Эллады, отблеск которой
мы узнаем в античном искусстве, в том
числе в грандиозных массовых праздниках
— демонстрации патриотизма, жизнелюбия
и здоровья
народа. Расцвет народных празднеств
Древней Греции впрямую связан с
укреплением общественных идеалов в
самой гуще
народных масс. В сфере внешнеполитической
жизни этому способствовали
победоносные греко-персидские войны,
в которых Древняя
Греция, до этого раздробленная на
множество городов-государств,
смогла собрать силы всего народа,
объединить их и добиться
победы над грозным врагом. В сфере
внутренней жизни народный
подъем был обусловлен трудными победами
афинского демоса
над могущественной родовой аристократией.
Горячий
патриотизм, мужественность и радость
бытия — все это
черты жизненной философии Древней
Эллады, отблеск которой
мы узнаем в античном искусстве, в том
числе в грандиозных массовых праздниках
— демонстрации патриотизма, жизнелюбия
и здоровья
народа. Расцвет народных празднеств
Древней Греции впрямую связан с
укреплением общественных идеалов в
самой гуще
народных масс. В сфере внешнеполитической
жизни этому способствовали
победоносные греко-персидские войны,
в которых Древняя
Греция, до этого раздробленная на
множество городов-государств,
смогла собрать силы всего народа,
объединить их и добиться
победы над грозным врагом. В сфере
внутренней жизни народный
подъем был обусловлен трудными победами
афинского демоса
над могущественной родовой аристократией.
В искусстве народ Эллады достиг высочайших вершин, перед которыми мы преклоняемся и сегодня. Они являются образцами высокого и вдохновенного творчества.
Эпическая поэзия, скульптура, архитектура, живопись, драматургия, утвердившая себя и в глубочайших потрясениях трагедий, и в громогласном площадном хохоте комедий, народные празднества и театр — все это рождено народным гением в счастливое время единения народа Эллады, его служения общественному идеалу.
«Исторические судьбы афинской демократии и театра и в дальнейшем оказались органически связанными. Расцвет демократического строя в Афинах был временем и высочайшего творческого подъема афинской драматургии и театра. Когда же для демократии наступили тяжелые времена, этот период оказался кризисным и для театра. Вместе вышли они на историческую арену, вместе достигли наивысшего подъема и вместе вступили в полосу упадка»1.
Сказанное выше целиком относится и к народным празднествам, ибо театр был плоть от плоти этих празднеств. И когда демократия, а с нею и общественный идеал в Элладе пришли в упадок, одновременно с ними исчезли и народные празднества, ибо, являясь отражением политической и общественной жизни народа, празднества с упадком демократического строя были лишены своей идеологической основы. А без этого празднество теряет смысл и цель.
ДРЕВНИЙ РИМ
Многие разновидности и постановочные решения массовых народных действ, найденные во времена расцвета искусства в Древней Элладе, использовались в разных странах и в последующие века.
И в Древний Рим пришел опыт эллинских празднеств, в частности римляне справляли «пятилетние игры» по образцу Олимпийских и других древнегреческих игр. Однако в празднествах Древнего Рима было много и своеобразных черт, обусловленных государственной политикой и строем. Пожалуй, наиболее сущест-
1 КаллистовД. П. Античный театр. Л., 1970, с. 70.
242
венным различием было качественное изменение сущности празднества. Если главным действующим лицом массовых празднеств Древней Эллады был народ, то в Риме в массовых спектаклях под открытым небом народу отводилась более пассивная роль: теперь это была не единая праздничная народная масса, а довольно-таки отделенные друг от друга исполнители и зрители. В ряду массовых зрелищ, продолжающих эту линию, стоят и римские триумфы. Это были массовые традиционные парады, парады-спектакли, где народ принимал участие лишь в качестве зрителя.
С точки зрения зрелищного восприятия в триумфальном римском ритуале многое было интересно придумано и осуществлено. Триумфы всегда были связаны с победами над врагом и являлись массовыми спектаклями, прославляющими республику, ее силу и могущество, мужество ее боевых легионов.
Празднествам этим придавалось большое значение, и происходили они по специальным постановлениям римского сената. Центральной фигурой парада-спектакля, где использовались музыка, песни, стихи, шествия, пляски, иллюминация, был триумфатор, в честь которого и устраивался праздник. И режиссерски все было построено так, что внимание зрителей сосредоточивалось на героях дня. Перед торжественной колесницей триумфатора, как правило, вели побежденных воинов во главе с царем или членами царствующей династии побежденной страны или же вождями враждебных племен. Это служило как бы документальным свидетельством победы римского воинства.
Обязательным компонентом триумфа было участие победоносных римских легионов — театрализованный военный парад, являющийся одним из основных звеньев массового спектакля.
Организаторы триумфов были неистощимы на выдумки. Римский историк и писатель Светоний рассказывает о том, как после одного из триумфов Цезаря весной 46 года до н. э. вечером жители Рима были поражены необыкновенной иллюминацией: множество факелов, установленных на спинах вереницы идущих слонов, освещали триумфатору путь на Капитолий...
Светоний пишет о Цезаре: «Зрелища он устраивал самые разнообразные: и битву гладиаторов, и театральные представления по всем кварталам города и на всех языках, и скачки в цирке, и состязания артистов, и морской бой... Атлеты состязались в течение трех дней на временном стадионе, нарочно сооруженном близ Марсова поля. Для морского боя было выкопано озеро на малом Кодетском поле: в бою участвовали биремы, триремы, квадриремы тирийского и египетского образца со множеством бойцов. На все эти зрелища отовсюду стекалось столько народу, что много приезжих ночевало в палатках по улицам и переулкам».
Все в праздновании триумфа было построено на том, чтобы ослепить, изумить зрителей, убедить их в силе и могуществе триумфатора. И это во многом удавалось. Но здесь хотелось бы остановить внимание и на той своеобразной реакции народа, которая
243
 может
показаться неожиданной, а на самом деле
закономерно вытекает
из преувеличенной пышности, торжественности
триумфов.
может
показаться неожиданной, а на самом деле
закономерно вытекает
из преувеличенной пышности, торжественности
триумфов.
«Двойной аспект восприятия мира и человеческой жизни,— писал М. Бахтин,— существовал уже на самых ранних стадиях развития культуры. В фольклоре первобытных народов рядом с серьезными (по организации и тону) культами существовали и сме-ховые культы, высмеивавшие и срамословившие божество («ритуальный смех»), рядом с серьезными мифами — мифы смеховые и бранные, рядом с героями — их пародийные двойники-дублеры...
Но на ранних этапах, в условиях доклассового и догосударствен-ного общественного строя, серьезный и смеховой аспекты божества, мира и человека были, по-видимому, одинаково совершенными, одинаково, так сказать, «официальными». Это сохраняется иногда в отношении отдельных обрядов и в более поздние периоды. Так, например, в Риме и на государственном этапе церемониал триумфа почти на равных правах включал в себя и прославление и осмеяние победителей, а похоронный чин — и оплакивание (прославляющее) и осмеяние покойника. Но в условиях сложившегося классового и государственного строя полное равноправие двух аспектов становится невозможным, и все смеховые формы — одни раньше, другие позже — переходят на положение неофициального аспекта, подвергаются известному переосмыслению, осложнению, углублению и становятся формами выражения народного мироощущения, народной культуры»1.
Известно, что один из триумфов Цезаря весной 46 года до н. э., посвященный победе римского войска в Египте и падению Александрии, сопровождался песенками легионеров более чем фривольного содержания. По сложившейся римской традиции в день триумфа солдатам разрешалось высмеивать своего полководца (исследователи высказывают предположение, что в основе этого лежало суеверие, ибо насмешки над триумфатором, как предполагали древние римляне, отвращали от него зависть богов).
Песенки легионеров про Цезаря и Клеопатру, судя по сохранившимся отрывкам, были откровенно скабрезны: «Берегите своих жен, граждане, мы везем лысого бабника!» — во всю глотку распевали солдаты, сохраняя давнюю римскую традицию осмеивать триумфатора в самые торжественные минуты его жизни.
Отдавая дань традиции, могущественный диктатор с юмором воспринимал выходки своих солдат, весело улыбаясь в ответ на песенки, за которые он в иной (не триумфальной!) обстановке лишил бы жизни их «авторов и исполнителей». И народ — свидетель и соучастник триумфа — с восторгом принимал такое поведение великого диктатора.
В числе массовых празднеств Древнего Рима следует отметить «столетние торжества», которые справлялись каждые 100 лет. Подготовка к этим празднествам начиналась задолго. Целые группы
поэтов и композиторов создавали специальные произведения. Известно, например, что для «столетних торжеств», отмечавшихся при Августе, песнопения написал сам Гораций.
Популярны были в Риме и луперкалии — празднования в честь Фавна, «праздник перепутий» и «малые триумфы» — овации, во время которых триумфатор входил в город пешком, а не въезжал на колеснице, как в большом триумфе.
В овациях были специальные группы участников, называвшиеся хлопальщиками. Во время шествия хлопальщики бежали вокруг идущего триумфатора, шумно аплодируя ему. Очевидно, с того времени в обиход вошло слово «овация», ставшее синонимом долгих, шумных аплодисментов.
Древнеримские массовые действия из тех, что известны нам по документам той эпохи, были последним явлением подобного рода в древние века. Затем в Европе надолго наступило затишье. Возможно, в разных европейских странах и возникали массовые празднества, но они не стали крупным общественным явлением и не оставили следа в истории развития и становления жанра.
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Крупнейшим этапом в развитии жанра явились эпоха Возрождения и предшествовавшее ей средневековье.
Когда в Европе стало нарождаться новое понимание мира, приведшее к небывалому взлету человеческого разума, вошедшее в историю как эпоха Возрождения, среди многих проявлений человеческого духа, которыми отмечено это время, были и огромные многодневные массовые празднества, в известной мере напоминающие Великие Дионисии Древней Эллады.
Как известно, эпоха Возрождения вообще отмечена следованием античному идеалу. Ф. Энгельс писал: «В спасенных при падении Византии рукописях, в вырытых из развалин Рима античных статуях перед изумленным Западом предстал новый мир — греческая древность; перед ее светлыми образами исчезли призраки средневековья; в Италии наступил невиданный расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности и которого никогда уже больше не удавалось достигнуть...
Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством...»1.
И не случаен тот факт, что в эпоху Возрождения народные празднества получили идеологическую и эстетическую оценку, обрели признание как важный фактор общественной и культурной жизни народа.
В «Городе солнца» Кампанелла уделил особое внимание народным праздникам, считая, что в идеальном государстве они должны стать неотъемлемым компонентом общественной жизни. Кампанелла писал о жителях города солнца: «Они празднуют
'Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965, с. 8—9.
244
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 345^346.
245
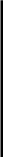
 четыре
великих праздника при вступлении Солнца
в четыре поворотных
точки мира, то есть в знаки Рака, Весов,
Козерога и Овна.
При этом они разыгрывают глубоко
продуманные и прекрасные представления,
вроде комедий. Празднуют они и каждое
полнолуние
и новолуние, и день основания города, и
годовщины побед и
т. п. Празднества сопровождаются пением
женского хора, звуками
труб и тимпанов и пальбою из бомбард, а
поэты воспевают
славных полководцев и их победы».
четыре
великих праздника при вступлении Солнца
в четыре поворотных
точки мира, то есть в знаки Рака, Весов,
Козерога и Овна.
При этом они разыгрывают глубоко
продуманные и прекрасные представления,
вроде комедий. Празднуют они и каждое
полнолуние
и новолуние, и день основания города, и
годовщины побед и
т. п. Празднества сопровождаются пением
женского хора, звуками
труб и тимпанов и пальбою из бомбард, а
поэты воспевают
славных полководцев и их победы».
Общественное сознание в эпоху Возрождения, стремясь вырваться из железных тисков церкви, дало многие ростки духовной жизни в науке, литературе, искусстве. И знаменательно, что именно массовые празднества и зрелища, ставшие фактором общественной жизни, явились благодатной почвой для возникновения различных видов зрелищных искусств. Потому что массовое празднество всегда было проявлением духа народа, его потребностью, стремлением к единению. Здесь сказывалась общность интересов, рождающая сплоченность народа, которая в мирные дни приводит к массовому празднику, а в дни грозовые — к революционным взрывам.
На протяжении многовековой истории наиболее яркие проявления массового народного творчества связаны с историческими м-оментами, когда народ переживает «звездные часы» своей истории. Эпоха Возрождения была отмечена многочисленными народными восстаниями и классовой борьбой, зачастую заканчивающихся гибелью восставших. Мыслители и художники эпохи Возрождения, ощутив границу старой и новой эпох, устремились на борьбу с феодальным строем, с догматами церковной идеологии, видя в них главных врагов человеческого прогресса. И если средневековая интеллигенция вела борьбу идеологическую, то городской плебс и крестьянство вставали на путь вооруженной борьбы с феодализмом. Европа пылала очагами народных восстаний. Дух бунтарства, овладевший эпохой, звал людей Возрождения, рискуя жизнью, делать открытия, уничтожающие богословские учения, сочинять богохульные куплеты, высмеивающие церковь, идти на костер ради утверждения научных истин, создавать бессмертные произведения искусства, где в самом прославлении разума и любви, красоты и силы человека был заключен бунт против ханжества и лицемерия, многими веками насаждаемых церковной моралью. «Духовная диктатура церкви была сломлена,— писал Ф. Энгельс,— германские народы в своем большинстве прямо сбросили ее и приняли протестантизм, между тем как у романских народов стало все более и более укореняться перешедшее от арабов и питавшееся новооткрытой греческой философией жизнерадостное свободомыслие, подготовившие материализм XVIII века»1. Этот бунтарский дух в известной степени определял существо и массовых народных празднеств. Но прежде чем перейти к рассказу о массовых праздниках, хочется напомнить о той общественной среде, в которой они возродились.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 346.
246
В средневековом городе (а именно в нем возникали и развивались массовые праздники этой эпохи) жить было тесно. Ограниченные малым пространством, замкнутым крепостными стенами, горожане строили дома кучно и ввысь, как правило, двух- и трехэтажными домами застраивались городские кварталы. Улицы были узкими — всего до полутора-двух метров в ширину: городские власти брали на учет буквально каждый метр, и единственным местом в городе, не зажатым домами, была рыночная площадь. Здесь город не скупился, щедро отдавая пространство.
Естественно, все и началось с городской площади.
Средневековая площадь была средоточием административной, общественной, религиозной жизни города. Здесь, на площади, стояли рядом церковь и ратуша. Ратушу, как правило, украшали единственные в городе часы. Специальные часовых дел мастера сооружали для городских часов конструкции, издающие мелодичный звон, хорошо слышный далеко за городскими воротами.
В определенные дни площадь становилась шумным рынком, где собирался буквально весь город и куда съезжались люди из дальних окрестностей. Рынок был не просто торговым предприятием. Рынок — это клуб, и ателье мод, и ресторан, и всевозможные зрелищные развлечения. На средневековом рынке, в честь знаменательного события или праздника превращенном в ярмарку, зародились ростки профессионального театрального и эстрадного искусства — вначале в сатирических песенках, акробатических трюках и танцах, исполняемых на ярмарке жонглерами, универсальными актерами-одиночками, предшественниками славного племени артистов театра и эстрады (жонглер, гистрион, шпильман, мим — так в разных странах Европы называли площадных народных увеселителей, которых на Руси звали скоморохами).
На ярмарке существовала и особого рода литература, впоследствии ставшая самостоятельным жанром концертной эстрады,— устные рассказы. Устные новеллы, исполняемые жонглерами и новеллистами, а также сказы, которые исполняли авторы-сказители, пользовались огромным спросом на городской площади. Это искусство было столь значительным, что имена сказителей остались в памяти истории (Чекко, Гвидо). А один из них, Фьорентино Высочайший, был увенчан поэтическим венком в знак признания его заслуг перед отечественной поэзией.
На городской площади бродили и импровизаторы, по предложению зрителей мгновенно сочинявшие стихи на любую тему и любым размером (предшественники эстрадных буримистов). Искусство жонглеров, сказителей, импровизаторов впоследствии войдет составной частью в итальянское карнавальное действо, когда карнавал, возникший, как и многое в средневековье, на городской площади, станет значительным фактором общественной жизни Италии той эпохи.
Именно карнавальным играм — массовому театрализованному народному празднеству — обязаны зрелищные искусства рождением многих видов и жанров.
247
В шуме, веселье, в ярких красках и динамике карнавальных процессий — истоки и комедии дель арте, и фарса, и соти, а в перспективе и эстрадных жанровых разновидностей.
Мы еще недостаточно оценили место и значение карнавала в истории зрелищных искусств, может, потому, что многочисленные разновидности и жанры, рожденные карнавалом, стали гораздо значительнее по своему удельному весу и долговечнее, нежели их первоисточник, существование которого определялось всего лишь одним или несколькими днями. Тем не менее воздадим должное карнавалу, памятуя, что это не что иное, как народное действо, уходящее корнями своими в древние фольклорные обрядовые игрища.
Центром возникновения карнавала считается Венеция. В хрониках Венецианской республики сохранились упоминания о том, что еще в X веке в Венеции в честь военных побед над далматинскими пиратами были специальными указами определены народные игры и всевозможные развлечения на городской площади. Начиная с XI века городские праздники приурочивались к дням кануна Великого поста. Однако точных сроков празднеств не было, и они время от времени стихийно возникали на улицах и1 городской площади.
В дни карнавала город преображался: толпы народа, распевающие веселые песни, со всего города стекались в центр, на .городскую площадь, где звенели мандолины, рокотали гитары, где выступали народные забавники, потешая народ остроумными злободневными сценками. Начиналось общее веселье.
Венецианский карнавал — массовый народный праздник, полный ярких красок, музыки и танца. К XIII веку основными компонентами карнавала стали процессии, игры, акробатические и спортивные показы и, наконец, маски. Собственно, эти компоненты остались и по сей день основными слагаемыми данной разновидности массового праздника.
Венецианские праздники не несли чисто развлекательных функций, а, как мы увидим в дальнейшем, представляли собой важный фактор политической и общественной жизни республики. Венецианский сенат придавал большое значение устройству карнавалов и с целью упорядочения празднеств издал в 1296 году специальный декрет, в котором объявил канун Великого поста официальным праздником.
Власти неоднократно пытались использовать карнавалы в своих целях. Так, из истории известно, что в XIV веке венецианский дож Пьетро Градениго неоднократно устраивал карнавалы для успокоения моряков и арсенальских рабочих. Среди них господствовал бунтарский дух, и сенат с опаской относился к этой значительной прослойке городского плебса. Сам дож принимал участие в карнавальных увеселениях, расхаживая в толпе и вступая в переговоры с простым людом, пытаясь уверить всех в правильности и разумности своей политики.
В XIV веке карнавалы торжественно открывались церковной 248
службой и выступлениями представителей власти Венецианской республики. В городе образовывались специальные карнавальные любительские компании, подготавливающие празднества. Очевидно, в их число входила и средневековая режиссура массовых празднеств.
XV век внес своеобразие в карнавальное празднество. Появились мимы, жонглеры, буффоны. Буффоны — те же шуты, основа искусства .которых — злободневная сатира на городской быт и нравы. Исследователи отмечают народный, плебейский характер выступлений буффонов, их потех, забав и игр.
В вихре карнавального веселья возникает и такая неожиданная профессия, находящаяся на стыке искусства и торговли, как зазывалы. При помощи забавных куплетов и прибауток, острот и анекдотов (т. е. своего рода конферанса) они сбывали товар доверчивым покупателям. Прикрытые смехом и весельем, прижились на карнавальном празднестве астрологи и гадалки, продавщицы всяческих невероятных лекарств, «исцеляющих от всех болезней», и другие личности, ставшие непременными участниками городских праздников, являя собой одну из разновидностей площадного карнавального развлечения.
Зазывалы, равно как и жонглеры-мимы, а также и буффоны, привлекавшие толпы народа на городскую площадь в дни карнавалов, явились предвестниками рождения итальянского народного театра, ибо несли в себе подлинную игровую природу народного действа, доходчивость и массовость.
В XVI веке на карнавальном празднестве возникает одно из самых значительных явлений искусства эпохи Возрождения — комедия дель арте. Жонглеры и буффоны, объединившись в маленькие коллективы, создали первый в Италии профессиональный театр (комедию дель арте), где ими был прекрасно использован многовековой опыт площадного массового творчества, накопленный поколениями гистрионов. Родившись в шуме и веселье массового праздника, комедия дель арте несла в себе лучшие черты народного творчества: оптимизм, жизнеутверждающее начало, сатирическое отношение к власть имущим, к духовенству. Эти драгоценные качества, веками пышно расцветавшие в карнавалах, явились прекрасной питательной средой для рождения народного итальянского театра.
А. К- Дживелегов в своем исследовании об итальянской народной комедии приводит стихотворение Иоахима Дю Белле, посетившего римский карнавал в середине XVI века:
А вот и карнавал! Зови себе подругу! Пойдем гулять в толпу и потанцуем в масках. Пойдем смотреть, как Дзани или Маркантонио Дурят с Маньифико-венецианцем вместе.
В данном случае мы встречаемся с документальным подтверждением участия в карнавале актеров-профессионалов. Этот факт подкреплен и извлеченным из римских архивов свидетельством о Маркантонио, где он называется «Маркантонио-буффон» и
249
 «Маркантонио
из комедии». Есть предположение,, что
знаменитый карнавальный
буффон Маркантонио стал впоследствии
актером комедии
дель арте. Это дает право говорить о
том, что труппы комедии
дель арте формировались из буффонов и
жонглеров — непременных
участников средневекового карнавала.
«Маркантонио
из комедии». Есть предположение,, что
знаменитый карнавальный
буффон Маркантонио стал впоследствии
актером комедии
дель арте. Это дает право говорить о
том, что труппы комедии
дель арте формировались из буффонов и
жонглеров — непременных
участников средневекового карнавала.
«В эпоху Ренессанса многое изменилось. Освобождающая, человечная, признающая законными все людские порывы идеология Ренессанса санкционировала смех... На карнавале смех получил великую хартию вольностей. Он мог греметь свободно, не прячась и не отравляя горечью душевные порывы. Никто, кроме фанатиков-изуверов, не смотрел косо на маски, на «непристойные» песни, на импровизированные выступления. Напротив, все эти вещи получали на карнавале художественную отделку и переносились на сцену. Отцы-иезуиты могли свирепствовать сколько угодно. Карнавал делал им рожи, продолжал смеяться и был школою смеха. Смех перебирался на подмостки и становился буффонадою»,— писал А. К- Дживелегов в книге «Итальянская народная комедия».
Карнавалы, в основе которых было ощущение здоровья, жизнерадостности, чувство морального превосходства над богатеями и церковниками, получили свое распространение по всей Европе.
Определяя сущность карнавальных празднеств, М. Бахтин писал, что карнавал «находится на границе искусства и самой жизни».
«В карнавале сама жизнь играет ... без сценической площадки, без рампы, без актеров, без зрителей, то есть без всякой художественно-театральной специфики — другую свободную (вольную) форму своего существования, свое возрождение и обновление на лучших началах»1.
В стремительном карнавальном вихре стирались сословные предрассудки, исчезали барьеры между богатыми и бедными. Об этой способности народного праздника демократизировать отношения между людьми говорил Гете, оставивший красочное описание римского карнавала: «Различия между высшими и низшими на миг как будто перестают существовать: все сближаются, каждый относится легко ко всему, что с ним может случиться, и взаимная бесцеремонность и свобода уравновешиваются общим прекрасным расположением духа»2.
Церковь всегда зорко следила за умонастроением народа, безжалостно подавляя любое проявление свободомыслия, проповедуя отрешение от земных радостей. А в карнавальном веселье как раз торжествовала неуемная сила, темперамент, чувственная радость — словом, все, что было ненавистно церкви.
Протестовать можно различными способами — оружием, кровавыми восстаниями, речами, воззваниями. Смех и веселье тоже
'Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, с. 10, 11.
2 Гете И. Путешествие в Италию.— Собр. соч., т. XI, с. 511.
250
могут быть протестом, и очень действенным. Ибо в карнавальном празднестве — «вечно бьющий родник огромной протестующей энергии и буйного своеволия» (А.-И. Пиотровский).
Карнавальным весельем народ протестовал против ужасов инквизиции, противопоставляя жесточайшей церковной аскетичнос-ти здоровое жизненное начало, юмор, веселье и смех. Мы знаем из истории, что зачастую «шутки, свойственные карнавалу», стоили их авторам свободы, а бывало, и жизни. Но как бы то ни было, карнавалы продолжали бушевать на городских площадях, где веселившийся народ потешался над властью церкви и государства.
В XIV—XV веках в городские европейские карнавалы проникали традиции сельских праздников.
Карнавальные шествия стали обычно устраивать на масленичной неделе. Появился и бродячий традиционный сюжет, определяющий драматургию масленичного увеселения,— «Битва Карнавала и Поста». Главные герои — упитанный Карнавал и тощий Пост. Все исполнители этого театрализованного массового действа разделялись на две группы: сторонники Карнавала и сторонники Поста. Как правило, центром шумного гулянья становилась «Битва», сопровождавшаяся разыгрыванием многих сценок и эпизодов из заранее разработанного сценария, исполнением песен, разоблачающих быт и нравы духовенства, и сатирических сценок на темы городской жизни, а также свадебных обрядовых игр.
В средние века масленичными карнавальными играми (фаст-нахтшпиль) славился Нюрнберг. В играх принимало участие боль-ш'ое количество исполнителей. В маскарадных процессиях «Бег Шемберта» разыгрывалось множество сатирических эпизодов, полных злободневных политических острот и намеков. Вольнодумная направленность праздника, идущая вразрез с официальной государственной политикой, привела к его запрещению в XVI веке городскими властями Нюрнберга.
Масленичные массовые представления, в которых господствовал дух пародийной комической игры, оказали влияние и на возникновение так называемых «дурацких обществ», которые были распространены в Европе в XV веке и стали заметным явлением в общественной жизни: Основной направленностью этих обществ была критика церкви, политического и государственного устройства, облеченная в сатирическую форму и нашедшая свое воплощение в шутовских пародийных представлениях. «Орден дураков», «Беззаботные ребята», «Рогоносцы» — эти шутовские общества устраивали «праздники дураков», пародийные маскарады, сатирически высмеивающие религиозную обрядность, нравы королевского двора и т. д. В массовых играх пародировались торжественные королевские выезды, судебные споры, духовные проповеди, за что «общества дураков» постоянно подвергались преследованиям и репрессиям.
Во Франции XV века «общества дураков» объединяли несколь-
251
 1
1
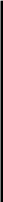
 ко
тысяч человек. Своей дерзостью и
вольнодумием выделялось общество
«Бадошь», куда входили клерки — по тем
временам наиболее
образованная и передовая часть городского
населения. Однажды
за дерзкую сатиру власти упрятали в
тюрьму целую группу
«бадошьцев». Так, казалось бы, невинные
забавы «дураков» приобретали
силу и значимость политических
выступлений и, как мы
видим, воспринимались властями совершенно
всерьез. Недаром в
XVII
веке
кардинал Ришелье специальным указом
запретил существование
шутовских обществ.
ко
тысяч человек. Своей дерзостью и
вольнодумием выделялось общество
«Бадошь», куда входили клерки — по тем
временам наиболее
образованная и передовая часть городского
населения. Однажды
за дерзкую сатиру власти упрятали в
тюрьму целую группу
«бадошьцев». Так, казалось бы, невинные
забавы «дураков» приобретали
силу и значимость политических
выступлений и, как мы
видим, воспринимались властями совершенно
всерьез. Недаром в
XVII
веке
кардинал Ришелье специальным указом
запретил существование
шутовских обществ.
В постановлении Парижского университета (1444 год) с возмущением описывается один из «праздников дураков». «Даже во время церковной службы, надев уродливые маски, облачившись в женские одежды или львиные шкуры, тут же в храме ведут они хороводы; в середине церкви распевают непристойные песни; у самого алтаря, около служащего обедню священника поедают жирные кушанья; там же играют в карты; курят кадильницами, в которых тлеют старые подошвы; носятся вприпрыжку по всему храму»1.
Карнавальное веселье в церкви? Во времена, когда за малейшее проявление волнодумия людей отправляли на костер? Да, это было. «Дуракам» позволялось многое, потому что они дураки. Поэтому богохульные песни распевались чуть ли не в алтаре. Поэтому же в начале XVII века члены общества «Рогоносцев» на карнавале в Руане, оповестив горожан, что они являются «предвестниками свободы», спокойно распространяли среди городского- люда сатирические стихи.
Шутовские общества еще в XV веке создали особый комедийный жанр драматургии — соти (дурачество). Это было своего рода обозрение, составленное из многих сатирических эпизодов, и по форме оно приближалось скорее к эстрадному ревю, нежели к театральному спектаклю.
В конце XVI и в XVII веке в Лондоне большое распространение получили юридические школы, студенты которых были мастерами на всевозможные проделки, мистификации, розыгрыши и другие забавы. Об этих традиционных празднествах они рассказали сами: в 1688 году студенты одной из лондонских юридических школ Грейз-Инн выпустили в свет книгу «Деяния грейанцев», где в пародийном стиле описали студенческие праздники. В памяти веселых школяров-юристов хранились передаваемые от поколения к поколению учащихся предания о праздниках почти столетней давности. Из этой книги стало известно, что в 1594 году студенты организовали на рождество многодневный «праздник дураков», в котором приняли участие большие массы молодежи. Руководил дурачествами и проделками веселых школяров Повелитель бесчинств (должность, придуманная студентами специально для этого праздника).
1954, с. 170. 252
Цит. по кн.: Дживелегов А. К- Итальянская народная комедия. М.,
Однако далеко не всегда студенческие забавы были такими уж безобидными. В «праздниках дураков» были увеселения, требовавшие не только находчивости, знаний и остроты ума, но и определенной политической позиции.
В «Деяниях грейанцев» рассказано, как 20 декабря 1594 года в присутствии всей студенческой корпорации торжественно короновался Повелитель бесчинств. Потом многие студенты выступали с шутовскими пародийными речами не совсем пристойного содержания, прославляя мудрость и величие Повелителя бесчинств. Наиболее удачные шутовские речи студенческая аудитория встречала гомерическим хохотом и овациями.
28 декабря 1594 года Грейз-Инн праздновала сбор всех членов корпорации, где присутствовали многочисленные гости из других школ. На праздник были приглашены со своим спектаклем актеры из группы лорда-камергера. Студенты так развеселились, удивляя присутствующих множеством остроумных проделок, что веселый вечер затянулся. Только в полночь, когда молодежь устала, актеры смогли начать спектакль.
Как отнеслись к этому случаю профессиональные столичные актеры — неизвестно. Но можно предположить, что один из актеров веселился от души, глядя на студенческую самодеятельность. Этот актер ценил остроумную шутку, неожиданную выдумку, полет творческой фантазии, веселье и праздничность. Он был и автором пьесы, показанной студентам (о чем есть точные исторические данные), и ее постановщиком (о чем мы можем не без основания догадываться). Пьеса называлась «Комедия ошибок», а актера, автора пьесы и постановщика звали Вильям Шекспир.
Заключительный вечер «праздника дураков», полный суматохи и смешных недоразумений, остался в летописи Грейз-Инн под названием «Ночь ошибок». Он послужил студентам-юристам поводом для нового увеселения: они назначили «судебное разбирательство» — пародийное представление, высмеивающее средневековое судопроизводство. Оказалось, что во всем виноват злой колдун. Это он устроил такую путаницу и беспорядок, пригласив в довершение всего актеров, чтобы окончательно запутать всех пьесой, где была масса всевозможных недоразумений, ошибок и путаницы.
Приведенный выше случай доказывает, что «праздники дураков» создавались и проводились с большой выдумкой и размахом и были отнюдь не простым увеселением, а несли в себе критику в адрес государства и королевских властей.
Для нас здесь интересны два момента. Во-первых, в «праздниках дураков» участвовала не только городская народная самодеятельность (как это обычно принято считать), но и профессиональные актеры, причем, как выяснилось, даже выдающиеся.
Во-вторых, о значении, которое в те времена придавалось подобным массовым празднествам, можно судить по тому, что в них принимала участие одна из лучших (если не лучшая!) лондонских трупп.
253

 Итак,
карнавал и связанные с ним карнавальные
масленичные
гулянья определяли многое в городской
жизни как средневековья,
так и последующих эпох. В течение многих
веков на
городских площадях шумели карнавальные
массовые действа.
Итак,
карнавал и связанные с ним карнавальные
масленичные
гулянья определяли многое в городской
жизни как средневековья,
так и последующих эпох. В течение многих
веков на
городских площадях шумели карнавальные
массовые действа.
МИСТЕРИИ
В XV веке, когда на смену феодальным порядкам шли новые буржуазные отношения, в городах стали развиваться ремесла, торговля, искусство.
Средневековый город, как гигантский магнит, притягивал к себе всевозможный люд — торговцев, ремесленников, актеров, беглых крестьян.
С развитием ремесел и торговли мастера стали объединяться в цехи, союзы ремесленников. Их возглавляли выборные старшины, отвечающие за соблюдение устава цеха. Цехи определяли многое в жизни городов, являясь значительной общественной, производственной и военной силой. В XIV веке в Париже было 300 цехов, объединявших пять с половиной тысяч ремесленников. Масса мелких ремесленников, цеховых учеников, подмастерьев, находясь в экономической зависимости от хозяев цехов и гильдий, стала отстаивать свои права. Классовая борьба, возникшая в городах в XV—XVI веках, разрасталась, а социальные противоречия усиливались.
Рост, развитие городов, возникающие социальные противоречия нашли отражение в средневековых мистериях. Мистерия — это жанр религиозного театра, являвшегося частью многодневного массового действа, в основе которого лежало самодеятельное искусство городского плебса. Это искусство, рожденное площадью, рынком, шедшее от самых демократических слоев городского населения, было чрезвычайно сложным явлением, ибо таило в себе много противоречий, отразивших социальную и политическую борьбу, которая шла в городах.
В этом жанре, по определению Г. Н. Бояджиева, «совмещаются и борются такие противоположные начала, как религиозная мистика и житейский реализм, набожность и богохульство, проявление стихийной народности, выражаемой в самодеятельности масс, и официальная подчиненность мистерии церкви и городским властям»1.
Организация мистериальных представлений, несмотря на религиозную направленность, поручалась городскому совету, а не церкви. Драматургия мистерии строилась на контрастном сочетании канонических религиозных сюжетов, шедших от церкви и официальных властей, и жизненного материала зачастую злободневного характера. Комедийное богохульство дьяблерий, «дьявольских сцен», сатирические бытовые миниатюры буффонов во вставных
'Бояджиев Г. Н. Театр эпохи становления и расцвета феодализма.— В кн.: История западноевропейского театра. М., 1956, т. 1, с. 56.
254
эпизодах, яркую жизненность площадного фарсового действа привносили в постановки мистерий сами исполнители.
«Смех, вытесненный в средние века из официального культа и мировоззрения, свил себе неофициальное, но почти легальное гнездо под кровлей каждого праздника. Поэтому каждый праздник рядом со своей официальной — церковной и государственной — стороной имел еще и вторую, народно-карнавальную, площадную сторону, организующим началом которой был смех... Эта сторона праздника была по-своему оформлена, имела свою тематику, свою образность, свой особый ритуал. Происхождение отдельных элементов этого ритуала разнородно... Существенным источником был и местный фольклор»1.
Первые религиозные спектакли на площади ставились в Италии во второй половине XIII века. Первоначально они носили характер массовых пантомим («мимические мистерии»), и только во второй половине XV века, когда мистерия установилась как самостоятельный жанр, в ней большое значение стало придаваться слову. Достаточно сказать, что «Мистерия Ветхого завета» состояла из 50 000 стихов!
В мистериальных массовых зрелищах, собиравших на площади и улицы городов Европы как профессиональных актеров, так и сотни актеров-любителей, стал традиционным конфликт между богом и дьяволом с показом рая и ада, с участием ангелов, чертей и др. И если в изображении «райских» сцен актеры придерживались канонического текста и строгой манеры исполнения, то уж в сценах в аду или же в эпизодах всемирного потопа и целом ряде других в мистерию прорывался совершенно иной дух — дух бытовых ярких зарисовок, полных насмешки, сатирической пародии.
Постановка мистерий имела свои традиции. Праздник обычно начинался веселым маскарадным шествием, проходившим по городу. Завершался он на городской площади, где участники шествий становились действующими лицами мистерии. Как правило, основными исполнителями в мистерии были представители городских ремесленных цехов. Каждому цеху заранее поручали постановку и оформление определенного эпизода. Между цехами шло соревнование не только на лучшую актерскую игру, но и качество постановки.
Вся работа над постановкой шла по заранее разработанному сценарию и постановочному плану. Следует отметить, что зачастую сценарии праздничных шествий и тексты мистерий создавались самими участниками — представителями различных цехов и гильдий, и реже всего — духовенством. Размах и масштабы мистерии требовали большой подготовительной репетиционной работы. Поэтому столь значительной была роль общей организации площадных мистериальных представлений. Сохранившиеся режис-
'Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, с. 92.
255
 серские
планы XVI
века
(например, план мистерии в Люцерне и в
Донауэшингене) содержат подробную
планировку и описание массовых
мизансцен, которые свидетельствуют о
серьезной подготовительной
режиссерской работе.
серские
планы XVI
века
(например, план мистерии в Люцерне и в
Донауэшингене) содержат подробную
планировку и описание массовых
мизансцен, которые свидетельствуют о
серьезной подготовительной
режиссерской работе.
Главный режиссер-постановщик мистерий назывался «руководитель игр». Он занимался отбором исполнителей, репетировал с ними, отрабатывал с большими группами участников отдельные эпизоды, подчиняя все единому постановочному плану. Репетиционная подготовительная работа велась иногда несколько месяцев. Известно, например, что в Монсе в 1501 году было проведено 48 массовых репетиций!
В истории осталось имя прославленного актера, автора и режиссера Жана де л'Эспйна, по прозвищу Понтале. Известно, что Понтале был автором и постановщиком мистерий, городских массовых карнавальных празднеств. В 1530 году он организовал в Париже театрализованное массовое представление — торжественную встречу Элеоноры Австрийской.
Следует отметить, что режиссура средневековых мистерий отличалась большой изобретательностью. Три основные постановочные системы — «передвижная», «кольцевая», а также «система беседок» — свидетельствуют о высокой профессиональной культуре создателей средневекового народного театра.
«Кольцевой» вариант и «система беседок» давали возможность построить действие одновременно в различных местах, сообщив ему стремительный темп. Но особенный интерес представляет «передвижная» система, т. е. система педжентов. Пед-жент — повозка, на которой сооружалась декорация и переодевались актеры, исполняющие определенный эпизод. Педженты выстраивались на улицах в том порядке, в котором шли эпизоды по действию мистерии. Зрительным залом были улицы и площади города.
Когда актеры заканчивали эпизод на первом педженте, он отправлялся на соседнюю улицу. Его место занимал второй пед-жент, а затем третий, четвертый — пока все эпизоды не проходили перед зрителями. Педженты в строгом строю совершали путешествие по всему городу, и таким образом десятки тысяч зрителей вовлекались в действие мистерии. Движение педжентов сопровождалось красочным шествием многочисленных костюмированных групп, составленных из представителей цехов и гильдий.
О размахе и возможностях мистериальной режиссуры можно судить по дошедшему до нас сценарию французской «Мистерии об осаде Орлеана». Этот замечательный памятник мистериальной драматургии — патриотический гимн в честь освободительной борьбы французского народа против английских захватчиков.
Представленная в Орлеане вскоре после его осады, мистерия носила, можно сказать, документальный характер. Предполагается даже, что автор мистерии, воспроизводившей действительные исторические события, был участником героической обороны Орлеана. Драматические эпизоды, исполняемые актерами, сменяли
256
огромные массовые сцены сражений: войска «англичан» шли на приступ городских стен, откуда обороняющиеся французы обливали «противника» кипящим маслом, палили пушки и т. д. Сохранившаяся ремарка — «необходимо как можно больше выпускать ядер, выбрасывать веревочные лестницы, сталкивать неприятеля во рвы» — свидетельствует о том, что режиссура мистерий стремилась к достоверности и подлинности.
Вообще постановочная культура мистериального■ театра была высокой. Без театральных чудес немыслимо было ни одно представление мистерии. Так, в сценах ада пылали огромные костры, актеры проваливались в «преисподнюю», на глазах у зрителей (при помощи системы блоков) возносился в небо Христос, пылали и рушились крепостные стены, на «облаках» с небес спускались ангелы, «всемирный потоп» заливал площади, праведников «пытали» на раскаленных жаровнях, «распинали на кресте», «бросали в яму к диким зверям» и т. д. Была даже специальная должность «руководителя секретов», одного из главных создателей спектакля в мистериальном театре.
Канонические тексты мистерий предусматривали комические импровизации: «Здесь говорит шут», «Здесь поместить несколько рассказов собственного сочинения, дабы развеселить зрителя» — такими ремарками испещрены страницы мистериальных драм. Самыми активными действующими лицами мистерий с годами стали комические персонажи Дурак и Бес. Удельный вес комических эпизодов вырос настолько, что внутри самих мистерий выделились самостоятельные комедийно-буффонные жанры. «Здесь вставить фарс» (т. е. фарш, начинку для пресных представлений) — подобные ремарки встречаются в текстах мистерий. И целые комедийные бытовые пьесы вплетались в действие религиозных драм, внося в них вольный дух гистрионов и масленичных гуляний.
К XVI веку фарс приобрел не только самостоятельное значение, но и стал одним из основных жанров средневекового театра. Фарсы играли на ярмарках, среди шумного и веселого народного гулянья.
Говоря о стиле актерского исполнения, мы должны помнить, что на городских площадях и улицах актеры мистериальных представлений, открытые со всех сторон для мнототысячной толпы зрителей, были вынуждены использовать специфические приемы, которыми пользовались еще гистрионы и буффоны. Площадь диктовала и подчеркнуто утрированный жест, и громогласное чтение стихов, и ту гиперболизацию в раскрытии смысла представления, без которой многие детали исполнения просто пропадали бы. Освоение многолетнего опыта народных актеров сыграло большую роль в демократизации мистерии, в ее повороте от религиозной мистики к злободневному, звонкому, веселому народному площадному, действу.
В XVI веке в мистериях настолько явно и определенно зазвучали земные ноты, полные комизма, шутовства и богохульства, что князья церкви объявили жестокую войну мистериальному теат-
257
9 Заказ 136
' , который полвека назад считали своим детищем. Над мистериаль-мым площадным театром нависла смертельная угроза: церковь провозгласила священный поход против ереси, беспощадно искореняя огнем и мечом любое ее проявление. Церковники многократно поднимали вопрос о запрещении «бесовских игрищ», к числу которых была причислена и мистерия. Мистериальный театр стремились ослабить и организационно. Королевская власть, запретив городское самоуправление и разрушив цеховые организации, уничтожила главную производственную и организационную базу мистериально-го площадного театра. Лишенный материальной основы, он прекратил свое существование.
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНЕСТВ
В средневековых городах Европы существовали «риторические камеры» — литературные объединения или общества-клубы, куда входили горожане и члены отдельных гильдий. Каждое литературное общество имело свой устав, герб, знаменосца и обязательно шута. Председатель общества торжественно величался ■ Королем или Капитаном.
Риторы были организаторами и участниками массовых народных шествий, веселых уличных карнавалов, рождественских, масленичных и майских гуляний, а также различных театрализованных зрелищ, где остроумно высмеивали богатых сеньоров, епископов и даже иезуитов, что по тем временам зачастую было связано с опасностью для жизни. Несмотря на запреты церкви, риторы постоянно устраивали представления на открытом воздухе, и многочисленные массы народа, привлеченные ярким зрелищем, весело смеялись над своими извечными врагами.
В Нидерландах в XV—XVI веках «риторические камеры» возникали не только в городах, но и в крупных селениях. Члены этих клубов интересовались народной поэзией, метким юмором. Они и сами сочиняли стихи, песни, созданные на фольклорной основе, сатирические сценки, куплеты, анекдоты политического содержания. Влияние народных поэтов и певцов, музыкантов-импровизаторов и актеров было настолько сильно, что в 1492 году королевские власти вынуждены были собрать в городе Мехелане съезд «риторических камер» и пытались привлечь их на свою сторону.
Искусство риторов, которые вели постоянную пропаганду против испанского владычества и церкви, сыграло определенную роль в подготовке нидерландской революции. Опыт «риторических камер» еще раз доказал, какой огромной силой обладает сатирическое искусство, опирающееся на народную основу.
Мы говорим о «риторических камерах» еще и потому, что они принимали самое деятельное участие в разработке сценариев массовых народных празднеств.
В эпоху Возрождения в Англии во время праздников устраивались всевозможные игрища; например, приход лета отмечался по традиции празднеством, приуроченным к I мая. В пьесах Шекспира неоднократно упоминаются «Майские игры» — массовые иг-258
рища с пением и плясками. Веселые массовые игры устраивались также и на рождество.
Итак, карнавалы, уличные спектакли, «дурацкие» представления, масленичные гуляния шумели, пели, танцевали на городских площадях средневекового города. Но зачастую народная песня и веселый танец шли рядом со смертью и войнами.
Так было во Франции второй половины XVI века. Страну десятилетиями раздирали династические распри, терзали многочисленные религиозные войны, которые начались когда-то давно и никак не могли закончиться. Католики преследовали гугенотов, Медичи выясняли при помощи огня и меча взаимоотношения с Гиза-ми, Валуа воевали с Бурбонами... Города разрушались и разорялись, селения сжигались в огне междоусобиц, народ нищенствовал. Жестокость века достигла кульминационной точки в 1572 году, в ту навечно памятную человечеству ночь, вошедшую в историю под названием «Варфоломеевской».
Выдающийся философ Возрождения Мишель Монтень, свидетель и участник многих событий своей эпохи, писал: «Мне приходится жить в такое время, когда вокруг нас хоть отбавляй примеров невероятной жестокости, вызванных разложением, порожденным нашими гражданскими войнами; в старинных летописях мы не найдем рассказов о более страшных вещах, чем те, что творятся сейчас у нас повседневно...»
Жестокость, сопутствующая укреплению абсолютной монархии во Франции, отчаянное сопротивление феодалов, пытавшихся противостоять королевской власти и сеявших повсюду смерть, а рядом с этим — веселье и карнавалы, площадные мистериальные спектакли, всевозможные увеселения, устраиваемые самим народом и для народа,— все эти невероятные контрасты в течение веков соседствовали друг с другом. На той же площади, где еще вчера рубили головы, сегодня разливалось неудержимое народное гулянье, потому что никакие казни и пытки не в силах задушить сердце народа, его песню и веселье. И массовые зрелища средневековья и эпохи Возрождения — убедительное тому подтверждение.
Одна из разновидностей традиционных массовых праздников европейских городов посвящена памятным историческим событиям, славному прошлому страны. Так, в Кракове с XIII века празднуют «Звежинецкий ляйконик». Этот городской праздник связан с легендой о победе поляков над татарами у Звежинца, под Краковом в 1288 году.
Праздник начинается на рассвете, как только отзвучит с башни Мариацкого костела хейнал — сигнал, которым краковские трубачи возвещали начало дня. В этот день сигнал обрывается на полуноте в память о трубаче, пронзенном татарской стрелой. И сегодня, как и много веков назад, улицы и площади Кракова заполняют веселые толпы ряженых, превращая весь город в огромную сценическую площадку...
В Тироле, австрийской горной провинции, славящейся на
9* 259
 весь
мир удивительной красотой горных
пейзажей, глубоких ущелий,
уходящих к голубым ледникам, нависающим
над далекими равнинами, и изящными,
словно игрушечными поселениями, с
глубокой
древности до наших дней дошли праздники
под открытым небом.
В дни праздников улицы и площади
тирольских городков заполняют
веселые процессии костюмированного
карнавального шествия.
В пестрой толпе мелькают огромные —
чуть ли не в человеческий рост—
маски: страшные оскалы злых горных
духов, весело хохочущие добрые
персонажи тирольского фольклора,
причудливые
шапки, украшенные белыми перьями,
возвышающиеся метра
на полтора над головами. Вся эта яркая,
шумная, веселая процессия
проходит по городку, вовлекая в праздничное
веселье все
новые и новые группы горожан. Повсюду
звучат веселые тирольские
йодли, видны группы танцующих в ярких
национальных костюмах.
На маленьких городских площадях выступают
детские духовые
оркестры, обращаются с воззваниями к
горожанам средневековые герольды.
весь
мир удивительной красотой горных
пейзажей, глубоких ущелий,
уходящих к голубым ледникам, нависающим
над далекими равнинами, и изящными,
словно игрушечными поселениями, с
глубокой
древности до наших дней дошли праздники
под открытым небом.
В дни праздников улицы и площади
тирольских городков заполняют
веселые процессии костюмированного
карнавального шествия.
В пестрой толпе мелькают огромные —
чуть ли не в человеческий рост—
маски: страшные оскалы злых горных
духов, весело хохочущие добрые
персонажи тирольского фольклора,
причудливые
шапки, украшенные белыми перьями,
возвышающиеся метра
на полтора над головами. Вся эта яркая,
шумная, веселая процессия
проходит по городку, вовлекая в праздничное
веселье все
новые и новые группы горожан. Повсюду
звучат веселые тирольские
йодли, видны группы танцующих в ярких
национальных костюмах.
На маленьких городских площадях выступают
детские духовые
оркестры, обращаются с воззваниями к
горожанам средневековые герольды.
Европейские городские праздники живут многие века. Традиционные сюжеты, которые разыгрывают костюмированные участники карнавального праздника,— это извечная борьба между Добром и Злом, Зимой и Весной.
В городах средневековой Европы массовые праздничные действа, подобные приведенным выше, были чрезвычайно распространены. И показательно, что в разных странах народ сохранил их до наших дней.
ПРИДВОРНЫЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Театрализованные представления, одна из разновидностей массового зрелища, были популярны не только у простого люда. В эпоху Возрождения ими увлекались и при королевских дворах, и в домах знатных вельмож. При этом менялся социальный смысл праздника. Привилегированному классу массовые театрализованные представления служили средством утверждения власти могущественных феодалов, средством прославления деяний сильных мира сего.
Сохранились красочные описания пышных придворных празднеств и фейерверков, дававшихся при дворе миланского герцога Джани Галеаццо. В их числе — необычайное театрализованное представление, поставленное в честь женитьбы молодого герцога. Придворный поэт Бернардо Беллинчони написал поэму о планетах, спускающихся с небес и поздравляющих новобрачных. На основе этой поэмы было создано театрализованное представление, для которого в большом зале герцогского дворца соорудили специальную и очень сложную конструкцию. Под потолком, высоко над головами зрителей, вращались семь планет. Их изображали девушки и юноши. Под нежное пение хора и звуки оркестра «планеты» спускались вниз и, обращаясь к новобрачным, исполняли поэму Беллинчони.
Автором инсценировки, режиссером-постановщиком, художни-
260
ком и конструктором этого удивительного представления был великий Леонардо да Винчи, проявлявший большой интерес к театрализованным представлениям. Под его руководством при миланском дворе были поставлены и многие другие празднества и фейерверки, для которых он изобрел различные пиротехнические эффекты.
Издавна в Европе были известны и «Праздники на воде» — феерические зрелища, которые пользовались большой популярностью у знати. В частности, празднества на открытом воздухе любила устраивать английская аристократия елизаветинской эпохи. Фаворит королевы Елизаветы, граф Лестер устроил в своем замке Кенильворт близ Стратфорда празднество в честь посетившей его королевы. В парке замка, на озере, была поставлена сказочная феерия с водной пантомимой, всевозможными пиротехническими эффектами, превращениями и т. п. В один из моментов герой представления появился перед зрителями на спине дельфина.
Шекспир упоминает эту деталь в «Двенадцатой ночи». По сведениям исследователей, великий драматург присутствовал на этом празднике в числе многочисленных зрителей, пришедших из Стратфорда поглядеть на разыгравшееся на озере представление.
В более позднее время, XVII—XIX веках, в европейских столицах или их окрестностях устраивались придворные праздники на воде. В качестве примера можно привести праздник в Лондоне на Темзе, устроенный в честь короля Георга I. К этому событию композитором Генделем было написано выдающееся произведение «Музыка на воде», исполняемое и в наши дни.
Король с приближенными плыл по реке на небольшом корабле. Его сопровождал корабль, где оркестр под управлением Генделя исполнял только что сочиненную композитором пьесу. Премьера нового создания Генделя состоялась посреди Темзы, за что и осталось за ним навсегда название «Музыка на воде».
В 1760 году при дворе короля Станислава Августа на озерах парка в Лазенки был создан «Театр на воде». В России с 1852 года давал спектакли царский Петергофский театр, расположенный на прудах Заячьего ремиза.
Необходимо отметить, что театрализованные зрелища, устраиваемые при королевских дворах и в замках феодалов, ни по своему классовому характеру, ни по тематике, ни по масштабам никак не определяли и не могли определить развитие жанра массовых празднеств и зрелищ — самого демократического искусства того времени. Его всегда определяла площадь и улица, народные массы, в глубинах которых зарождались эти праздники и где сам народ был главной движущей силой.
Со второй половины XVII века в европейской истории массовых праздников и зрелищ наступает «мертвый сезон». Стало тихо на городских площадях: не слышно веселых песен, не звенят струны мандолин, аккомпанирующих жонглерам и буффонам, не звучат сатирические куплеты, не видно празднично одетых горожан, то мчавшихся в стремительных хороводах, то превращав-
261
шихся в зрителей и взрывавших площадь громовым хохотом, бешеными рукоплесканиями и криками одобрения, а иногда и воплями ужаса.
Но придет время — и площадь вновь взорвется пламенным народным торжеством. Тогда будет праздновать свои победы Великая французская революция, утверждая Свободу, Равенство и Братство на земле.
ПРАЗДНЕСТВА ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
...Будут установлены национальные празднества, дабы сохранить в памяти народа деяния французской революции. Из дополнительной статьи Конституции, внесенной в 1791 году Учредительным собранием Франции
По своему существу народный праздник не может быть аполитичным, «ничейным» идеологически: он всегда выражает идеоло-. гию той или иной социальной и общественной формации, позицию народа, его устремления, его веру в определенные идеалы. Доказательство тому — празднества французской революции, ставшие действенным пропагандистским оружием в утверждении ее идеалов.
Великая французская революция 1789—1794 годов вызвала к жизни грандиозные массовые зрелища, ярко отразившие идеи и мятежный дух эпохи. Потребность в народных празднествах была столь велика, что выдающиеся политические деятели Франции неоднократно поднимали об этом вопрос на заседаниях Конвента. Народные празднества французской революции стали частью общей политики, последовательно проводимой революционным Конвентом.
Конвент, создавая «гениальные» (по определению А. В. Луначарского) национальные празднества, опирался на близкие революционному народу идеи Ж.-Ж- Руссо и Д. Дидро, впервые теоретически обосновавших сущность народного праздника как общественно значимого явления, служащего делу воспитания народа. В преддверии революции французские просветители придавали большое значение массовым празднествам — могучему средству объединения и воспитания народа.
Общественное настроение революционной Франции, стремление к объединению всего народа, страстное желание высказать во всеуслышание свои мысли, мечты, ощущение очистительной бури, пронесшейся над страной, всеобщая вера в победу революции — вот те предпосылки, которые способствовали рождению празднеств революционной Франции.
Массовые манифестации, шествия, массовые представления, славящие революцию, воспевающие ее, так же как и «Марсельеза» — мятежный гимн восставшего народа,— все это слилось с революцией, стало ее неотъемлемой частью, ярким проявлением ее духа.
«Пришлите 1 000 солдат или 1 000 экземпляров «Марсельезы»,— 262
. ребовали с фронта генералы Армии Революции. Они просили не пушек, а «Марсельезу»!
Кульминацией в решении вопросов организации массовых празднеств стало выступление Робеспьера на заседании Конвента. В этот день он сделал доклад «Об отношениях религиозных и нравственных идей к республиканским принципам и о национальных празднествах». «Разумная система национальных праздников,— говорил Робеспьер,— была бы одновременно самой отрадной связью братства и самым могущественным средством возрождения».
По предложению Робеспьера Конвент принял правительственный декрет, которым были учреждены народные «Декадные празднества». Они посвящались Республике, Народу, Мученикам Свободы, Человеческому роду, Природе, Разуму и т. д.
Комитету общественного спасения и Комитету народного "Ор, .о-вания было поручено разработать план проведения этого дс1.;ч ■., в жизнь. Конвент объявил конкурс на лучший проект перестройки здания Оперы в здание для проведения национальных празднеств. Выпускались правительственные сообщения об использовании площадей для устройства национальных празднеств.
Сохранившиеся документы дают нам не только ощущения событий той эпохи. Даже язык этих документов свидетельствует о том, какое огромное значение придавала французская революция искусству, видя в нем могучее средство воспитания нации в духе революционных идей.
Мирабо в своей речи в Конвенте «Об организации национальных празднеств» обратил особое внимание на воспитательное значение празднеств революции, предлагая устранить из них религиозные элементы, чтобы придать празднествам политический характер, прославляющий победу революции.
Гретри говорил о необходимости масштабных обобщений, участия больших масс народа, о том, что «нужны могучие аккорды».
Луи Давид представил Конвенту «Доклад и декрет о праздновании республиканского единства 10 августа», где предложил проекты различных празднеств, приуроченных к знаменательным датам. Впоследствии Луи Давид стал автором сценарных планов, режиссером-постановщиком и художником многих революционных праздников.
Национальные празднества были прекрасной традицией революционной Франции. По определению Ромена Роллана, «плодотворной оригинальности в них ... больше, чем во всем французском театре XVIII века».
Лучшие поэты, музыканты, художники революционной Франции объединили свои усилия для создания народных праздников.
14 июля 1790 года состоялся праздник Федерации. В своеобразном прологе артисты и сводный хор исполнили в соборе Нотр-Дам кантату «Взятие Бастилии» М.-А. Дезожье.
Основным местом действия этой первой революционной тор-
263

 1
1
жественной церемонии избрали Марсово поле. Здесь специально для праздника по решению городских властей самим народом было выстроено сооружение «Алтарь Отечества», который венчала надпись: «Народ, Законы, Отечество, Конституция», устроены специальные площадки для сводных военных оркестров и хоров, установки для. орудий.
Батальоны Национальной гвардии в парадной одежде, огромные сводные оркестры, многочисленные толпы народа — вся эта пестрая и, казалось бы, никем не управляемая масса была вместе с тем отлично организована. По грандиозности выдумки, своеобразной фокусировке в единое зрелище компонентов можно безошибочно определить, что во главе этих празднеств стояли настоящие режиссеры. Одним из авторов-постановщиков массовых празднеств, как уже сказано, стал выдающийся художник Франции Луи Давид. По поручению Конвента он возглавил подготовку крупнейших революционных празднеств; характерно, что при создании массовых представлений он выступал и как сценарист и как режиссер.
Перед официальным началом праздника на Марсовом поле народ плясал, пел национальные французские песни. Исследователи упоминают овернцев и провансальцев, исполнявших народные танцы. В празднестве принимали участие и батальоны гвардии, заполнившие всю площадь и образовавшие огромные хороводы.
Всеобщий энтузиазм вызвала Клятва верности Франции, провозглашенная Лафонтеном с Алтаря Отечества. Все Марсово поле подхватило Клятву верности, перешедшую в исполнение гимна. Гимн, созданный в честь праздника Госсеком, был решен необычно: в его партитуру были введены артиллерийские залпы. Они гремели, отмечая окончания музыкальных фраз. По этому поводу композитор Гретри заметил, что революция изобрела «музыку с пушечными выстрелами».
Заслуживает упоминания, что одним из центров самого веселого и многолюдного праздника в честь Федерации были развалины ненавистной народу Бастилии, где гордо красовалась видная издалека надпись: «Здесь танцуют».
В 1792 году на Марсовом поле состоялся «Праздник Свободы», в котором приняли участие сводный оркестр Национальной гвардии, огромный хор и многотысячные массы парижан. В кульминации праздника, когда во время исполнения революционных песен колесница Свободы объезжала Алтарь Отечества, весь народ подхватил мотив и затем с пением «Са ire» и «Карманьолы» пустился в пляс. Плясало и пело все Марсово поле, а там собиралось, по свидетельству очевидцев, до полумиллиона человек.
Но не только шествиями, песнями и плясками ограничивалась режиссура празднеств французской революции. Создавались и новые обряды, символизирующие революционное йбновление мира.
В 1793 году, в честь годовщины Федерации, состоялся традиционный народный праздник (автор сценария и режиссер — Луи Давид). Праздник был построен на символических обрядах, про-
264
никнутых духом Руссо. Огромные толпы народа собрались еще до зари, чтобы «Гимном Природе», написанным специально для этого праздника Госсеком, приветствовать восходящее солнце. («Гимн Природе» задолго до праздника парижане разучивали на специальных репетициях.) «Полем Собрания» избрали площадь Бастилии. На развалинах крепости воздвигли «Родник Возрождения» — колоссальную статую женщины, из грудей которой били фонтаны воды. В момент появления первого луча солнца зазвучал величественный «Гимн Природе», исполняемый оркестром и огромным сводным хором, после чего началось символическое омовение у «Родника Возрождения». Трубы и барабаны приветствовали торжественное появление 86 комиссаров департаментов революционной Франции. Гремели оркестры. Читались пламенные стихи о свободе. Грохотали пушечные салюты. Пели хоры. Затем торжественный кортеж, во главе которого члены Конвента несли огромную книгу Конституции, с пением «Марсельезы» двинулся на площадь Революции, к статуе Свободы. Закончилось шествие на Марсовом поле, где состоялось театрализованное представление.
В день праздника Федерации на специальной сцене под открытом небом, установленной на Марсовом поле, были представлены массовые героические эпизоды из осады Лилля. Эта постановка считается первым шагом к организации народного национального театра Франции.
Народные празднества Великой французской революции положили начало новому революционному искусству. Они явили всему миру веру народа в идеи французской революции — веру в Свободу, Равенство и Братство.
Военные оркестры (в одном из праздников приняли участие свыше 700 музыкантов), многотысячные хоры, войсковые соединения революционной армии, артисты всех театров Парижа, шествия через город, пиротехника, пушки, большие группы трубачей и барабанщиков — стремление вовлечь в действие весь народ — вот черты, характерные для празднеств французской революции. И что было особенно важно — четкая политическая программа.
Клятва верности Республике и Революции почти всегда была кульминацией народного празднества. Слова Клятвы, которую подхватывали многотысячные народные массы, присутствовавшие на празднике, провозглашали не актеры парижских театров, а выдающиеся политические деятели Франции, что придавало Клятве еще более глубокий смысл и значение. По традиции эта народная Клятва перерастала в пение «Марсельезы», которую исполняли все собравшиеся. И вновь над Парижем гордо и грозно гремела «Марсельеза», сопровождаемая грохотом орудий, призывая народ революционной Франции к солидарности, к единению и борьбе, вселяя веру в грядущую победу мировой революции.
Так в празднествах французской революции, озаренных великими революционными идеями, воедино слились политика и искусство. И это — один из итогов, принципиально важных для определения черт становления жанра массовых празднеств и зрелищ.
265
1
Революционные традиции этих празднеств живы во французском народе до сих пор. Морис Торез в книге «Сын народа» вспоминает, как в 1936 году по инициативе ЦК коммунистической партии Франции отмечалось столетие со дня смерти Руже де Ли-ля, создателя «Марсельезы»: «Торжественные церемонии состоялись в парижском зале «Плейель» и в моем избирательном округе Шуази-Ле-Руа, где автор «Марсельезы» провел последние годы своей жизни... Наша партия вновь поддержала лучшие республиканские традиции и показала себя достойной наследницей якобинцев 1792 года. Не явилась ли она, подобно этим великим служителям родины, организатором восстания масс против фашизма, против привилегий и современных тиранов, в защиту единой и неделимой республики?
Под звуки созданного Руже де Лилем гимна свободы и «Интернационала» 14 июля 1936 года миллионы мужчин и женщин продефилировали от Бастилии до площади Нации».
Вновь, как и в легендарные годы Великой французской револю- -ции, по улицам Парижа шло праздничное шествие, и вновь над французской столицей мощно и грозно гремела «Марсельеза», исполняемая миллионным хором граждан Франции.
Так почти через полтора века ожили и воплотились в реальном народном празднестве, организованном Французской коммунистической партией, и мечты Ж--Ж. Руссо и Д. Дидро, и идеи Дантона и Мирабо, и пламенные декреты Робеспьера о необходимости создания празднеств, объединяющих, сплачивающих в монолитную могучую силу весь народ.
«ДРАМА РОДИЛАСЬ НА ПЛОЩАДИ»
В западноевропейском театре традиции постановки театральных спектаклей под открытым небом насчитывают тысячелетнюю историю, и отсчет ее надо вести еще от времен театра Диониса.
В театре Диониса было продумано и учтено все, даже сама форма театрального здания, приближающаяся скорее к конструкции современного стадиона или цирка и менее всего напоминавшая замкнутую театральную коробку. Народ там чувствовал себя так же вольно, как сегодняшний зритель на стадионе или же в цирке.
«Драма родилась на площади...» Театром под открытым небом были и древнегреческий театр Диониса, и комедия дель арте, и средневековый мистериальный театр, и испанский театр времен Лопе де Вега. Профессиональный английский театр родился под открытым небом — достаточно вспомнить шекспировский «Глобус».
Как известно, первые лондонские театры возникли за городской чертой, так как муниципалитет, настроенный пуритански, изгнал за городскую черту все зрелищные предприятия, на которые валом валил народ. Поэтому театры строились вне города, рядом с аренами для петушиных боев и амфитеатрами для медвежьей травли, любимыми увеселениями лондонцев.
266
Театральные здания во времена Шекспира крыш не имели, спектакли в любую погоду игрались под открытым небом. От улицы театр отгораживался лишь внешней стеной. В эту стену были вмонтированы ряды галерей и лож, предназначенных для богатой публики. Простой люд сидел и стоял прямо на земле, окружая глубоко выдвинутую вперед сцену с трех сторон, почти как в цирке. Так что актеры играли в самой середине зала, постоянно находясь среди зрителей, вступая в непосредственный контакт с простым городским людом, заполнявшим театр «Глобус».
Театр в эпоху Шекспира был народным искусством, являя собой общедоступное демократичное зрелище, понятное трудовому люду. Сама форма театральных зданий, построенных с верным учетом зрительского восприятия того времени (она напоминала современные цирковые архитектурные композиции), подтверждала это.
Как уже говорилось, и местом рождения итальянской комедии дель арте была площадь, где бушевали народные карнавалы. Очевидно, в то время и родилось необычайно интересное театральное явление, сохранившееся до XX века в Северной Италии. По свидетельству Р. Роллана, в Италии, в Тосканской долине, начиная с XIV—XV веков, тосканские крестьяне играли массовые спектакли под открытым небом. В них принимали участие жители Пизы, Лукки, Пистойи и Сиенны. (Эти традиции тосканских крестьян дожили до наших дней.)
В Англии, в провинциальном Йорке, когда-то славившемся мис-териальными представлениями, и по сей день на живописных развалинах древнего аббатства по исторически сложившейся традиций, как и в средние века, играются мистериальные спектакли. В них и история города Йорка, и легенды о его возникновении, и рассказ о грозных событиях, о прошумевших над городом кровавых битвах, нашествиях иноплеменников. И как когда-то в старину, весь город собирается посмотреть на эти массовые постановки под открытым небом. Кинохроника запечатлела торжественное шествие участников спектакля и зрителей — от самых старых горожан до пестрых групп мальчишек и девчонок, восторженно встречающих средневековых глашатаев и шутов...
Из европейских стран, где в XX веке сохранилась традиция спектаклей под открытым небом, следует назвать Швейцарию, Францию, Италию, Англию, Австрию, ГДР, ФРГ, Финляндию.
Традиция эта берет начало в старинных народных обычаях.
В Швейцарии издавна проходили народные празднества и спектакли под открытым небом. Ромен Роллан писал: «В Швейца рии... устраиваются драматические представления на открытом воз духе, с участием тысяч граждан, одушевленных любовью к своей маленькой родине. Эти величественные представления дают, по жалуй, лучше, чем что-либо, понятие об античных зрелищах. Тра диция этих праздников поддерживается в Швейцарии уже в тече ние многих веков... —
В годовщины великих национальных событий, в годовщины
267

 1
1
независимости кантонов города соперничают между собой, устраивая торжественно и пышно представления; благодаря этому соперничеству создались народные празднества, единственные в своем роде»1.
Писатель утверждал, что вряд ли что-нибудь может сравниться с гармонией естественного горизонта, лугов, далеких холмов, в рамке из двух стен или башен, ограничивающих пространство, отведенное для действия.
Он особенно отметил массовый народный спектакль в Нев-шателе в память 50-летия Невшательской республики, осуществленный в июле 1898 года (автор — Ф. Годе, композитор — Ж- Ло-бер). В постановке этого патриотического представления участвовало 600 актеров и 500 хористов.
Массовые патриотические народные спектакли под открытым небом, в которых участвовали многотысячные группы исполнителей, ставились в городах Базель, Шафгаузен, Вале, Аарау.
В июле 1903 года в Лозанне состоялся массовый народный спектакль (слова-и музыка Жака Далькроза, постановщик — Фир-мен Жемье). Спектакль ставился с большим размахом: в нем были заняты две с половиной тысячи исполнителей, принимали участие пехота, кавалерия и т. д. Сценической площадкой было пространство в 600 квадратных метров. Многие тысячи зрителей стали участниками этого народного патриотического спектакля.
В XX веке к опыту массовых народных патриотических действ обратились выдающиеся прогрессивные деятели западноевропейского театра. Большим событием явился патриотический спектакль, поставленный Фирменом Жемье в Париже 11 ноября 1920 года. По определению самого Жемье, в этот знаменательный день — день погребения праха Неизвестного солдата под сводами Триумфальной арки, состоялось рождение Национального народного театра. В спектакле-зрелище в символической форме были изображены важнейшие вехи в истории Франции. Часть эпизодов представляли народные песни, исполняемые огромным хором.
Особое значение приобрело массовое искусство в Германии в 20-е годы, когда компартия, лишившись своих вождей Розы Люксембург и Карла Либкнехта, с трудом противостояла предательской политике правых социал-демократов. В 1925 году, в истории коммунистической партии Германии, возглавляемой Эрнстом Тельманом, начался новый боевой период — период борьбы рабочего класса Германии с империализмом и нарождающимся фашизмом.
Сознавая необходимость создания боевого политического искусства, компартия Германии развернула широкую деятельность по консолидации вокруг нее крупных творческих сил. Один из первых, откликнувшихся на призыв компартии, выдающийся немецкий режиссер Эрвин Пискатор впоследствии писал: «Мы видели единственный выход в организованной борьбе пролетариата и в захва-
те власти... Россия — наш идеал. И это чувство становилось все крепче, красная надпись на наших знаменах — действие — горела все ярче, несмотря на то, что в тот момент вместо ожидаемой победы мы переживали один разгром... за другим»1.
В эти годы, годы тяжелых политических сражений рабочего класса с империализмом, особое значение приобрела пролетарская самодеятельность. В результате творческого союза профессионального театра с самодеятельными коллективами рабочих родился немецкий революционный рабочий театр.
В 1927 году в Германии с огромным успехом выступал советский коллектив «Синяя блуза», оказавший решающее влияние на развитие «агитпропа», т. е. своеобразных театрально-эстрадных групп, возникших в недрах революционного рабочего театра Германии. По свидетельству А. Грозева, «многочисленные и многообразные агитпропколлективы в подавляющем большинстве работали либо под непосредственным руководством КПГ, либо в тесном контакте с ней. Агитпропколлективы стремились к максимальной активизации зрителя, превращая его в подлинного соучастника представления... Актеры были не только художниками, мастерами своего дела, но и бойцами в подлинном смысле этого слова. Многим из них впоследствии пришлось расплачиваться за свои выступления жизнью и концлагерями»2.
Агитационные коллективы (или агитпропы, как их стали называть, очевидно, заимствовав это определение у нас) —одна из-действенных форм той политической работы, которую вела КПГ. Разнообразна была их деятельность: они ставили политобозрения, давали массовые представления под открытым небом. В этих спектаклях сочетались политический плакат, пламенные монологи с хорами, эстрадные номера с массовым действом.
Спектакли агитпропа строились на разнородных и разножанровых элементах, лишенных психологических оправданий и бытовых подробностей. Их основой был политический лозунг, предельно четко выражавший патриотическую и гражданскую позицию. В программном заявлении агитпропа говорилось, что все средства должны направляться на то, чтобы подготовить зрителя к осуществлению исторических требований рабочего класса.
Среди руководителей агитпропа мы встречаем Златана Дудо-ва, а в числе деятелей театра, помогавших этому движению,— Бертольта Брехта. В тесном контакте с КПГ работал и режиссер-коммунист Эрвин Пискатор.
Весной 1925 года по инициативе немецкого Рабочего культурного союза Пискатор в содружестве со сценаристом Гасбарра и композитором Майзелем готовил постановку историко-полити-ческого массового обозрения. Этот спектакль, ставившийся под открытым небом в Гонзенских горах, должен был отразить революционные моменты в истории человечества от восстания Спарта-
Рол л а н Р. Народный театр, с. 120.
Пискатор Э. Политический театр. М., 1934, с. 37. Г р о з е в А. Златан Дудов. М., 1975, с. 8, 9.
268
269
ка до Великой Октябрьской социалистической революции и одновременно «дать в наглядных картинах общий очерк исторического материализма».
«Мы задумали,— писал Пискатор,— осуществить эту постановку в грандиозном масштабе. Предполагалось 2000 исполнителей, огромные прожекторы должны были освещать похожую на арену котловину, а для характеристики определенных комплексов были сделаны большие, символически увеличенные аксессуары (например, для характеристики английского империализма намечался броненосец в 20 метров длины)»'.
Неоднократно в Германии предпринимались попытки постановки под открытым небом и из произведений классиков.
В 1932 году во Франкфурте, на родине Гете, в ознаменование 100-летней годовщины со дня смерти великого немецкого поэта была осуществлена постановка его пьесы «Гец фон Берлихинген» (режиссер А. Кронахер). Спектакль был поставлен на старой площади города. «Гец» шел вечером, при свете прожекторов. Естественная «декорация»— старинные башенные здания, узкие, словно щели, переулки, выходящие на площадь, придавали всему спектаклю подлинность и достоверность. Зрители расположились как в центре площади, так и в окнах и на балконах домов.
В постановке участвовало 70 рейтаров, отряд ландскнехтов, масса, воплощавшая восставших крестьян, вассалов императора Максимилиана, тайных судей.
Как отмечал А. В. Луначарский, присутствовавший на этом спектакле, «удачно также собрание чинов на площади, при трубачах на балконе и императорской речи оттуда же. Галдеж, смятение, недовольство разношерстного собрания, бессильный гнев и растерянность престарелого императора — все это было передано исторически правдиво. К удачным массовым сценам можно отнести и выход всклокоченной, вооруженной чем попало, разъяренной толпы бунтующих крестьян»2.
Историческому театру на исторических площадях, как говорил Луначарский, обеспечен большой успех. В частности, он справедливо отмечал, что для инсценировок исторических романов не найти лучшего «сценического пространства», чем старинная площадь под открытым небом с великолепными памятниками архитектуры былых веков.
В западноевропейском театре после второй мировой войны стали традиционными театральные фестивали на открытом воздухе. Заслуга в этом принадлежит Национальному народному театру Франции.
Когда огромное здание дворца Шайо, где играл театр, было занято для заседаний ООН, труппа предприняла большую гаст-
1 Пискатор Э. Политический театр, с. 74. 2ЛуначарскийА. В. О театре и драматургии, т. 2, с. 537.
270
рольную поездку по городам Франции, Бельгии, Эльзаса, Люксембурга, Германии, выступая перед многотысячными зрителями на городских площадях и на цирковых аренах. Впоследствии театр и его руководитель Жан Вилар явились инициаторами создания Авиньонского фестиваля.
Уже много лет в Авиньоне — древнем городе, где покоится сердце Лауры, легендарной петрарковской Прекрасной Дамы, где и сам великий Петрарка нашел последний свой приют,— под открытым небом во дворце Папского замка играют лучшие театры мира.
Национальный народный театр Франции, которым руководил выдающийся режиссер и актер Жан Вилар и в котором играл Жерар Филип, ставил под открытым небом «Сида», «Макбета», «Лорен-заччо», «Принца Гомбургского» и др.
Авиньонский фестиваль не был исключением. В Арле в середине 50-х годов в средневековом амфитеатре, на фоне старинных крепостных башен Жан Ренуар, известный французский кинорежиссер, поставил в традициях массового народного представления «Юлия Цезаря» Шекспира.
В Югославии, в прекрасном старинном городе, Дубровники, древние стены которого, сложенные из светлого камня, омывают синие воды Адриатики, стал традиционным ежегодный международный фестиваль музыки, театра и фольклора.
Впервые организованный в 1949 году Дубровнический фестиваль, основной сценической площадкой которого стала старинная крепость, приобрел всемирный авторитет, собирая лучшие театральные труппы и артистические музыкальные силы из многих стран.
Аналогичный пример можно привести из практики традиционного венгерского театрального фестиваля под открытым небом. «В Сегеде, на берегу Тиссы, на площади перед старинным готическим собором с высокими башнями, вот уже несколько лет подряд в разгаре лета устраиваются грандиозные театральные игры. Под открытым небом каждый вечер собираются около десяти тысяч зрителей, приезжающих в Сегед не только из разных уголков Венгрии, но и из-за рубежа.
Слава о Сегедских театральных играх растет с каждым годом, с каждым новым театральным успехом. А театральный успех здесь особый. Он связан со своеобразным решением спектаклей, с особым стилем игры, которых требуют грандиозные масштабы сцены (ею является паперть собора.— И. Ш.) и «зрительного зала», естественные, словно специально созданные для массовых постановочных зрелищ декорации.
Опыт проведения Сегедских игр показал, чем полней и шире использует режиссура возможности открытой сценической площадки и естественную перспективу архитектурного ансамбля, тем ярче, интереснее, эстетически значительнее представление под открытым небом»1.
Шекспир под венгерским небом.— Театр, f?63, № 11.
271
В 1963 году в Сегедском массовом театре под открытым небом были показаны «Сон в летнюю ночь» Шекспира, «Трубадур» Верди, «Дьердь Бранкович» Эркеля, «Цыганский барон» Штрауса. В 1966 году на Сегедских театральных играх увидели свет рампы «Принцесса Турандот» Пуччини, «Банк-Бан» Эркеля, «Вестсайдс-кая история» Бернстайна.
Но не одним Сегедским фестивалям под открытым небом отдало дань этой разновидности жанра венгерское театральное искусство.
В Будапеште,, на острове Маргарет, что на середине Дуная, Постоянно действует музыкальный театр под открытым небом. В этом театре, очень удачно вписавшемся в парковую зону острова, осуществляются оперные спектакли с участием венгерских певцов и гастролеров из разных стран.
В Эстергоме, недалеко от венгерской столицы, на Большой площади, сохранившей исторический облик, дает свои представления еще один площадной театр, ровесник Сегедского фестиваля. Труппа этого театра ставит своей целью возродить традиции средневековых венгерских ярмарочных комедиантов. Спектакли идут в естественном оформлении, состоящем из маленьких домов в стиле барокко, стоящих вокруг площади.
Стремление многих деятелей современного театра выйти на площадь, под открытое небо, зачастую обусловлено теми общественными задачами, которые они ставят перед театром. Как и в начале нынешнего века, энтузиасты видят в этом акте перспективу развития театра, близкого народу и понятного ему.
В связи с этим хотелось бы упомянуть о своеобразном явлении, возникшем в Англии,— общественных театральных труппах. Ежегодно английские общественные театры собирают под открытым небом, на улицах и площадях, миллионную рабочую аудиторию. Это новая форма народного театра, актерами которого являются в основном выходцы из рабочей среды. Спектакли-обозрения, ставящиеся общественными театрами, поднимают самые актуальные темы сегодняшней жизни трудового люда Англии. Это, как отмечала пресса, своего рода «театрализованный анализ политической и социальной обстановки в стране».
Газета «Морнинг стар» (Лондон) писала об этом интересном явлении: «Ежедневно по дорогам Британских островов снуют по всем направлениям десятки видавших виды автофургонов или переоборудованных под них санитарных автомобилей, набитых актерами, костюмами, реквизитом, осветительной аппаратурой. Это общественные театральные труппы.
Пустующие церкви, крытые рынки становятся подмостками, с которых на зрителей, может, никогда не бывавших в театре, обрушивается набирающий силу поток новых злободневных пьес, песен, шуток— театрализованный анализ политической и социальной обстановки в стране.
Общественный театр, как предполагает его название, стремится вернуть театр народу, всему обществу, вывести искусство
272
из стен, в которые оно было заключено буржуа для собственного удовольствия. И это искусство должно быть непременно наполнено политическим и социальным содержанием...
Только в одном Лондоне таких коллективов больше десяти. Труппа «Хамфун», например, сейчас выступает с пьесой о жизни обитателей Истэнда (рабочий район Лондона.— Ред.); труппа «Уиминс тиэтр» посвятила свой спектакль борьбе за права женщин; «Уэст Лондон тиэтр уоркшоп» рассказывает в своей постановке о заботах пенсионеров; «Коммон сток»— о проблеме подростков; а труппа «Рикриэйшн граунд» создала яркий антифашистский спектакль. Примеры можно приводить до бесконечности.
Сейчас ТАКТ состоит из 25 театральных трупп, еще 12 подали заявление о вступлении. Сама ассоциация является активным звеном более крупной театральной организации — Независимого Театрального Совета, который объединяет 200 коллективов из общественного и провинциального театров. Обе организации все чаще выступают единым фронтом, требуя от правительства подлинной, а не на словах поддержки театра — искусства, несущего культуру народу».
Несколько слов об африканском театре под открытым небом. В середине XX века во время бурного пробуждения самосознания арабского мира новый стимул к развитию получила культура арабских народов. В арабских странах были созданы национальные театры, организованы национальные ансамбли танца, возродилась живопись и скульптура. В ряде стран родилась национальная кинематография. Одним из начинаний в культурной жизни Арабской республики Египет в 60-е годы явилось создание постоянно действующих спектаклей под открытым небом —«Звук и свет». Представления эти происходят у пирамид — величественных памятников древней египетской национальной культуры, символизируя преемственность и вечность народного творчества.
С получением африканскими странами независимости стало стремительно развиваться негритянское искусство. Уже в 1966 году в Дакаре (Сенегал) состоялся I Всемирный фестиваль негритянского искусства — многодневное массовое народное празднество.
Почти месяц длился этот фестиваль, в котором приняли участие 44 страны, в том числе около тридцати африканских. Празднества происходили в здании национального театра, на стадионе Свободы, на площадях и улицах городов. В храмах пели исполнители духовных гимнов, в том числе Марион Вильяме (США).
Но главным событием фестиваля стал массовый спектакль, поставленный под открытым небом на острове Горе, расположенном в двух километрах от Дакара. С этим островом связаны трагические страницы в истории негритянского народа. В XVIII веке он был центром работорговли всей Африки. Здесь сохранился «дом рабов» —'каменная пересыльная тюрьма. За 250 лет работорговцы
ТАКТ — Ассоциация общественных театров.
273
вывезли с Африканского континента более 20 миллионов негров. Многие из них прошли через мрачные казематы острова Горе.
Именно здесь, на острове, в узких улочках и в самом «доме рабов», т. е. на местах, являющихся немыми свидетелями трагедии негритянского народа, было осуществлено массовое представление, в основу которого авторы положили историю острова Горе, как бы вобравшего в себя историю всех негритянских народов. (Автор сценария — известный писатель и общественный деятель Гаити Жан Бриер, постановщик — французский кинорежиссер-документалист Жан Мазель.)
Жан Мазель так определил смысл спектакля и его форму: «Главное для нас — гуманистическое звучание спектакля. Классические требования «Звука и света» для нас лишь сопровождение, аккомпанемент; мы стремились создать спектакль, напоминающий по форме народную оперу на историческую тему». В 8 картинах спектакля, где использованы многие жанры — пение, танцы, народные обряды, драматические эпизоды, шествия и т. д., показана история Горе от начала колонизации и до торжественного дня провозглашения независимости Сенегала.
Спектакль заканчивался торжественным праздничным финалом в честь провозглашения независимости. Так патриотическое массовое театрализованное представление стало выдающимся фактором политической и общественной жизни народа.
Среди народных празднеств латиноамериканских стран особенной красочностью отличаются карнавалы Кубы. В этих праздничных массовых действах свое воплощение нашла радость победившего народа.
Фиеста, кубинский карнавал, который обычно проводится в Гаване, представляет собой карнавальное шествие. По набережной Малекон нескончаемой вереницей движется процессия карросас — огромных колесниц в несколько этажей. Это передвижные многоэтажные платформы (напоминающие педженты средневекового мис-териального театра) превращены в эстрадные площадки, где выступают танцевальные ансамбли. За платформами проплывают различные карнавальные маски, возвышаются над толпой громадные многометровые куклы — муньеконес, шествуют пешие ансамбли — компарсас, исполняя народные танцы. Вся эта ярко одетая, бесконечная вереница участников карнавала танцует, поет, играет на различных инструментах, создавая праздничное, радостное настроение.
Многообразны формы, различны разновидности жанра массовых празднеств, своеобразно и самобытно проявляющиеся у народов земного шара. Их объединяет стремление выразить в массовом народном празднестве свое отношение к событиям общественного и политического характера и построить праздничное действо на национальной фольклорной основе. К сожалению, народные праздники Африки, Азии и латиноамериканских стран изучены недостаточно. Они еще ждут своих исследователей, ждут подробного и внимательного изучения и обобщения.
274
МАССОВЫЕ ЗРЕЛИЩА РОССИИ
Дух народный всегда был велик и могуч... Это же доказывают и произведения народной поэзии, запечатленной богатством фантазии, силою вы ражения, бесконечностью чувства, то бешено-весе лого, размашистого, то грустного, заунывного, но всегда крепкого, могучего, которому тесно и на улице и на площади, которое просит для разгула дремучего леса, раздолья Волги-матушки, широкого поля... в. Г. Белинский
Обращаясь к истории возникновения массовых празднеств в нашей стране, мы видим, что еще в Древней Руси бытовали народные песенно-танцевальные действа, явившиеся той богатейшей фольклорной почвой, на которой зародились основы русского искусства. Творческий дух народа издревле находил свое воплощение в песнях, плясках, красочных обрядах, комических скоморошьих играх и «глумах».
Изучая источники, мы убеждаемся, что русские народные гулянья, скоморошьи игры и «глумы» неразрывно связаны с бытом народа, общественными взаимоотношениями определенной эпохи. Это одна из составных частей духовной жизни русского человека — фольклора, неиссякаемого родника поэтических сил народа, веками создаваемого бесчисленными поколениями.
Героические деяния народа, его могучая сила и патриотизм, выкованные веками, и исторически сложившийся характер русского человека-воина, на протяжении всего существования России отстаивавшего от врагов родную землю, воплотились в могучем былинном эпосе. А жизнерадостность, юмор русского человека, готовность к шутке, доброй насмешке — все это нашло воплощение в «смеховой культуре», или, говоря словами А. Н. Островского, «комической производительности», наиболее ярко выразившейся в скоморошьих забавах, «глумах», потехах и в массовом коллективном творчестве — народных гуляньях. В них истоки русской поэзии, музыки, русского театра и — эстрады.
В народном быту зародились массовые празднества и зрелища. Достаточно вспомнить наиболее характерные из них: кузьминки (девичий праздник), семик, ночь на Ивана Купалу, веснянки, масленицу, колядки. Особенно популярны были гуляльные (или катальные) ледяные горы на рождество и на масленицу (гулянье «под горами») и народные гулянья, катания на качелях летом («под качелями»).
Во время этих праздников выстраивались балаганы, где ставили целые музыкальные спектакли, основанные на фольклорных истоках, выступали деды-балагуры, петрушечники, вожаки ученых медведей, раешники и т. д.
Старинные русские праздничные обряды нигде и никогда не записывались, но веками сохранялись в памяти народа, пройдя сквозь нашествия, войны, голод и смерть — словом, сквозь все испытания, которые обрушивались на русский народ в течение всей его
275
многовековой истории. Поистине бессмертен оптимизм русского народа, безгранична народная фантазия, неиссякаем живой родник его творчества!
Праздничные обряды — это, по существу, народные песенно-танцевальные массовые представления со своим наивным, но точным сюжетом, образами, поэтическим текстом, музыкой, особой драматургией и своеобразной режиссурой. Например, в русской свадьбе есть твердый «сценарий», обязательные «действующие лица» (сваты, дружки, подруги невесты, ряженые и т. д.), обязательный репертуар (плач матери, плач невесты и т. д.). Хотя детали праздника менялись в разных областях, даже в различных селах, «сценарий», «репертуар» и «постановочный план» в основном оставались неизменными. В конечном итоге народ создал песенно-танцевальный спектакль, действие которого происходит и в избах, и под открытым небом. При этом обязательным условием является активное участие в сюжете праздника большого количества людей. Старинная русская свадьба, обряды, игрища и празднества навсегда остались живым памятником русского народного творчества, дошедшим до нас с древних времен и убедительно свидетельствующим о том, что истоки наших современных массовых зрелищ надо искать в русских народных фольклорных празднествах.
Непременными участниками и заводилами старинных народных праздников и гуляний всегда были скоморохи. В дальнейшем скоморошьи игры и «глумы» превращались в самостоятельные спектакли, которые давали актеры-скоморохи (или «охотники», как их называли) на играх и братчинах. Скоморохи принимали участие и в массовых действах, но уже как профессиональные актеры, ведя «конферанс», разыгрывая «скетчи» и «репризы», играя на дудках и гуслях.
Творчество скоморохов, наполненное язвительной сатирой по отношению к церкви и боярам, а следовательно, социально направленное и несущее в себе определенные черты общественного протеста, пользовалось поддержкой трудового люда и, естественно, входило в непримиримое противоречие с позицией власть имущих.
Скоморохи постоянно подвергались жестоким гонениям. В дошедшей до нас «Повести временных лет» проповедник-летописец осудил скоморохов, высказав, очевидно, официальную точку зрения на скоморошество и народные гулянья: «Конечно, языческого обычая придерживаются по указке дьявола! Таких людей дьявол обольщает и другими способами, отвлекая нас от бога всевозможными соблазнами: трубами и скоморохами, гуслями и русальи (т. е. праздничными гуляньями.— И. Ш.). Ведь мы видим места для игрищ утоптанными, и людей много множество, яко происходит давка, когда начинается представление, от беса замышленного дела. Д церкви стоять! Егда же бывает год (т. е. время.— И. Ш.) молитвы, мало их обретается в церкви».
Судя по этому документу, церковь была в панике: трудовой люд предпочитал посмотреть на вольном воздухе веселые скомо-
276
рошьи игрища, посмеяться над злоключениями бояр- и попов и поучаствовать в увеселениях, нежели забиваться в душную тесноту храма, где из темноты его «стращали» возмездием за всевозможные «дьявольские искушения».
В XVI веке «Стоглав» запретил скоморошество, назвав его «бесовским позорищем», а затем и «Домострой» осудил скоморошьи потехи.
При царе Алексее Михайловиче, как писал А. М. Горький, «церковь и боярство истребили скоморохов и калик перехожих».
Но скоморошество, перестав так называться, не исчезло, так же как не могла исчезнуть тяга русского человека к юмору, шутке, острому слову, насмешке, к яркому веселью, песне, народной музыке, народному танцу — словом, к тому многообразию тем и жанров, которое несло в себе творчество скоморохов. Вспоминается А. Н. Островский, отметивший своеобразие русского народного характера: «Как отказать народу в демократической и тем более в комической производительности, когда на каждом шагу мы видим опровержение этому и в сатирическом складе ума, и в богатом, метком языке; когда нет почти ни одного явления в народной жизни, которое не было бы схвачено народным сознанием и очерчено бойким, живым словом... Такой народ должен производить комиков...»1.
Разве могли церковные указы и царские грамоты переломить характер русского человека, убить в нем то, что составляло самые сокровенные глубины души народной? Нет, не удалось задушить эту черту народного русского характера — способность к «комической производительности», сатирическому складу ума, богатому меткому языку, бойкому живому слову.
' Скоморохи остались жить, вопреки указам и постановлениям. Они только изменили свой облик, когда их искусство было подвергнуто запретам и гонениям. Они стали называться «народными забавниками», «потешниками», пошли в петрушечники, раусные деды, раешники... По-прежнему потешали они простой люд, заставляли задумываться над социальной несправедливостью существующих общественных и социальных взаимоотношений.
Не обязательно искать только в истории Москвы или другого великого города следы, свидетельствующие о том, что народные гулянья с давних времен процветали на Руси, были любимы народом и постоянно подвергались злым гонениям со стороны церковной и государственной власти. Взять хотя бы Кашин. Тихий патриархальный городок, затерянный в глубине России, он удивительно живописно раскинулся по берегам многократно петляющей извилистой речки Кашинки, впадающей в Волгу. Деревянный город-крепость Кашин неоднократно сгорал дотла. Но приходило время, народ заново отстраивал его, и он, в который раз, поднимался из пепелища.
В XVII веке в Кашине зашумел посад — торговый и ремесленный центр, окруживший Дмитриевский монастырь. Сюда на прес-
Островский А. Н. Поли. собр. соч. М., 1978, т. 10, с. 36.
277
тольные праздники, на шумные ярмарки потянулся народ со всей округи.
«В твоем государстве богоспасаемом граде Кашине в понедельник первыя неделя великого поста чинитца великое безчиние и беззаконие»,— доносил царю архимандрит Дмитриевского монастыря. Он явно был возмущен и напуган тем, что творится «бесовская игра веселие с медведи и бубни, и с сурнами» и что «со всякими бесовскими играми с иных городов торговые люди и веселые приезжают на тот великий день»1.
Видно, много хлопот доставляли монахам народные гулянья и скоморошьи забавы. Тревожили они и царя, ибо царская грамота указывает: «Тех людей ... имать и делать наказанье». Но все равно Кашин оставался городом торговым и веселым и постоянно привлекал скоморошьи ватаги «с медведи и плясовыми собачки».
Допетровская Россия не знала светских официальных торжеств. Начало им положил Петр I, устроив в Москве в 1697 году первое «триумфование» по случаю взятия Азова. С тех пор подобные торжества стали обычаем. К устройству празднеств привлекались опытные специалисты-техники, поэты писали торжественные оды. •Придворные представления в эти годы носили в известной мере демократический характер. Даже сама пышная торжественность балов и ассамблей зачастую служила объектом осмеяния. Достаточно вспомнить создание «Всешутейного собора», который А. М. Горький считал своеобразной трансформацией потех ярыжек, глумцов и скоморохов, т. е. возрождением традиций русского народного творчества.
Торжественно-веселым было карнавальное шествие, устроенное однажды Петром I на масленицу. Целый день' из села Всехсвят-ского к Кремлю двигались военно-морские суда, поставленные на сани. Сам царь, одетый флотским капитаном, окруженный генералами и офицерами, ехал на 88-пушечном большом корабле, который везли 16 лошадей. За кораблем «плыла» гондола, в которой находилась царица в костюме пасторальной крестьянки. Ее окружали дамы и кавалеры в аравийских костюмах. За гондолой царицы тянулась так называемая «неугомонная обитель»— множество маскарадных шутов в санях, сделанных наподобие драконовой пасти. Шуты были наряжены журавлями, лебедями, лисицами, волками, медведями и огненными змеями. На колеснице, запряженной «сиренами», восседал Нептун с трезубцем в руках. Все это пело, играло на различных инструментах, кувыркалось, кричало, танцевало...
У входа в Кремль шутейная процессия была встречена пушечным салютом и фейерверком. Кстати, в петровские времена многие придворные празднества стали сопровождаться фейерверками.
Истоки фейерверочного искусства на Руси восходят к глубокой старине, и связаны они, как и многое в истории русской народной
Художественные памятники Верхней Волги. М., 1968, с. 39—40.
278
культуры, со скоморохами. Это они ввели в обиход «огненные потехи»; используя сухой плаун (ликоподий), обладающий способностью мгновенно вспыхивать.
«Огненные игрища» вошли в моду в XVI—XVII веках, в дни рождественских праздников, которые народ встречал веселыми гуляньями. По свидетельству историков, при дворе Алексея Михайловича на гуляньях и игрищах использовали «летающие потешные огни» и «зажигательные нарядные стрелы», как тогда назывались ракеты.
С конца XVII века фейерверки получили большое распространение, венчая праздники и торжества. Петр I сам принимал деятельное участие в их подготовке. По его распоряжению для фейерверочных праздников стали изготовлять специальные машины, строить монументальные декорации. Известно, что один из фейерверков, подготовленный лично Петром I, продолжался в течение трех часов.
Фейерверки на Руси являли целые огненные представления, где был сюжет, развитие действия, кульминация и завершение. Правомерно назвать эти представления «фейерверочным действом».
Сохранилось подробное описание фейерверочного действа, состоявшегося в Петербурге 1 января 1712 года в честь русско-турецкого мира.
На Неве, напротив дворца петербургского губернатора Мен-шикова, был сооружен театр фейерверочного представления — целый комплекс, состоящий из триумфальных ворот, арок, транспарантов, эмблем. Одни за другими возникали огненные фигуры, рисунки, надписи, прославляющие силу и могущество государства Российского, его славную столицу и могучий русский флот. На фейерверочном представлении присутствовали иностранные дипломаты, и многие намеки в адрес враждебных России государств предназначались им.
«В малой дуге,— читаем мы в описании фейерверка,— явится звезда северна горяща и полумесяц, свою светлость Северу по-деляет. А между ими вошли темная туча, тогда тот полумесяц отвращается лицом своим от звезды... Потом окажется крепость морская, у которой в одной картине надпись сия: «Бог, укрепи камень сей». Значит сия крепость Санкт-Петербург. В другой картине сие подписание: «На счастливое шествие сему». Причем корабль со всеми парусами по ветру в гавань прибысть. Значит сие, какую благость впред государству чрез сие привлечет».
Как видно из приведенного примера, фейерверочное действо в Петербурге строилось по разработанному сценарию и несло не просто развлекательные функции, но было и политически направлено.
В сентябре 1720 года в честь победы над шведским флотом в Петербурге было поставлено массовое действо, продолжавшееся четыре дня. При громе пушек суда российского флота проконвоировали по Неве «пленных»— шведские корабли, захваченные в битве при Гренгаме. Этот торжественный ввод пленных кораблей
279
 знаменовал
собой утверждение могучей силы российского
флота и
был встречен присутствующими с огромным
энтузиазмом.
знаменовал
собой утверждение могучей силы российского
флота и
был встречен присутствующими с огромным
энтузиазмом.
А вечером набережная Невы, площади и центральные улицы вспыхнули тысячами огней иллюминации. Праздник венчало фейерверочное действо^ где был представлен Нептун, плывущий на колеснице, и торжественно трубящая Победа. Один из фейерверков вспыхнул на Неве. На больших плотах, стоящих на реке, были заготовлены фейерверочные декорации. Действие состояло из трех аллегорических картин. После них ночное небо озарили тысячи ракет, шутих, огненных колес и др. Интересно отметить, что пиротехники, обслуживавшие действо, были одеты в яркие маскарадные костюмы.
Традиционные в конце XVII — начале XVIII века российские фейерверочные действа стали позже неотъемлемым компонентом больших праздников: в дни рождества, на масленицу, на Новый год.
Театрализованные представления послепетровской эпохи, память о которых дошла до нашего времени, были официозно-пышными дворцовыми зрелищами. Характерны даже их названия. В них — преувеличенно-торжественных, напыщенных, велеречивых и длинных — ощущается и время, и цели, которые преследовали их создатели, и стиль этих представлений: «торжественное представление, которое при праздновании высокого дня рождения ее императорского величества великия Государыни Елисаветы Петровны самодержицы всероссийския и проч., и проч., и проч. 18 декабря 1741 в Санкт-Петербурге показано было»; «Торжественный праздник о благополучном заключении мира между его величеством императором Петром Третьим и его величеством Фридериком Третьим, королем прусским перед новым Зимним домом на Неве реке июня 1762 года»; «Торжественная Россия, изображенная в пяти аллегорических картинках, в высочайший день рождения ея величества Екатерины Вторыя ноября 1770 года».
Известно, что первое из указанных представлений было в двух частях. Первая часть называлась «Цветущее состояние империи в мирное время, сила и слава России в военное время». Вторая — «Богатство империи, почтение государства в чужестранных землях».
Церемония была напыщенной, торжественной и отменно лживой. Она открылась долгой раболепной одой во славу Елизаветы (кстати, восседавшей здесь же на троне). После оды началось представление, сопровождаемое торжественной музыкой и световыми эффектами. В тексте, произносимом по ходу действия, Елизавета сравнивалась с богиней, ее лицо — с солнцем и т. д.
Помпезно-раболепный характер этих представлений был подчеркнут присутствием народа, вынужденного стоять на коленях все время, пока продолжалась длительная торжественная церемония.
Но среди официозных торжеств середины XVIII века есть пример, убедительно свидетельствующий о совершенно противопо-
280
ложной позиции, как общественной, так и творческой. В середине XVIII века при постановке в Москве карнавала «Торжествующая Минерва» великий русский актер Федор Волков, которого можно назвать первым в России профессиональным режиссером-постановщиком массовых празднеств, с успехом применил принцип русского народного массового действа.
И сегодня, знакомясь с материалами этой постановки по случаю коронации Екатерины II в 1763 году (авторы — Волков, Сумароков и Херасков), поражаешься размаху режиссера, его безудержной фантазии, творческой смелости. Федор Волков, «вымышлявший и располагавший» весь маскарад, выступал и в качестве сценариста («вымышлявший»), и режиссера-постановщика («располагавший»). Это обстоятельство является чрезвычайно важным, ибо необходимость деятельности режиссера-драматурга массового представления подтверждается как современный практикой, так и историческим анализом.
В процессии-маскараде, прошедшем по улицам Москвы, приняли участие многие сотни людей. «Торжествующая Минерва» стала поистине общенародным зрелищем. Царица, давая разрешение на проведение празднества в Москве, надеялась, что в маскараде ее будут восхвалять как мудрую, гуманную правительницу. Однако Ф. Волков выстроил сценарно-режиссерское решение массового празднества совершенно в ином плане, необычайно смелом не только с точки зрения художественной, но, в еще большей мере,— политической. В маскараде была проведена мысль о неблагополучии в государственной и общественной жизни России. Взяв за основу приемы народных игрищ, глумов и скоморошьих забав, Ф. Волков создал сатирическое массовое зрелище, полное злободневных намеков в адрес властьимущих. «Поражавшая современников великолепная организация сложного массового зрелища свидетельствует об исключительных режиссерских способностях Волкова, о его умении организовать и использовать творческие силы народа, привлеченного к участию в маскараде»',— писал Б. Н. Асеев.
Ф. Волков необычайно по тому времени усилил социальную, обличительную сторону маскарада. Таким образом, вопреки желанию царицы, маскарад этот стал убедительным эмоциональным рассказом «о социальных язвах феодально-крепостной России: о беззакониях и произволе судей и подьячих, о нравах дворянства и пр.»2.
С яростью подлинного художника-гражданина обрушился Федор Волков на социальные несправедливости своего времени. Желая быть понятным народу, рассказать обо всем, что он задумал, ясным и близким ему языком, Федор Волков построил массовый праздник на образах, взятых из русского фольклора, из скоморошьих игрищ и «небывальщин». Так, одна из частей маскарада («Превратный свет») строилась целиком на фольклорном материале и в основе своей — на скоморошьей «небывальщине».
' А с е е в Б. Русский драматический театр. М., 1976, с. 249. 2 Там же.
281
 Принцип
народного представления основывался
на вовлечении народных масс в действие.
В маскараде, к примеру, принимали участие
хоры рабочих московских мануфактур (в
основном исполнявшие сатирические
песни, сочиненные М. Херасковым и самим
Ф. Волковым).
Эти хоры явились музыкальным фундаментом
маскарада. А сам факт участия фабричных
хоров представляет особый интерес
с точки зрения способности Ф. Волкова
организовать самодеятельное
народное творчество, привлечь талантливых
артистов из
народа к участию в массовом карнавале.
Эти сатирические куплеты
настолько полюбились народу, что их
распевали в Москве еще
долгое время.
Принцип
народного представления основывался
на вовлечении народных масс в действие.
В маскараде, к примеру, принимали участие
хоры рабочих московских мануфактур (в
основном исполнявшие сатирические
песни, сочиненные М. Херасковым и самим
Ф. Волковым).
Эти хоры явились музыкальным фундаментом
маскарада. А сам факт участия фабричных
хоров представляет особый интерес
с точки зрения способности Ф. Волкова
организовать самодеятельное
народное творчество, привлечь талантливых
артистов из
народа к участию в массовом карнавале.
Эти сатирические куплеты
настолько полюбились народу, что их
распевали в Москве еще
долгое время.
Необходимо отметить умно организованный подготовительный период, предшествующий карнавалу. Не вызывает сомнения, что Ф. Волков лично руководил всем сложнейшим комплексом подготовки массового карнавала, и, судя по результатам, организация подготовительных работ была проведена отлично. И дело здесь не столько в разнообразном и богатом оформлении и реквизите, сколько в репетиционной работе со многими исполнителями и коллективами.
Федор Волков сделал всю тогдашнюю Москву местом действия, а ее население — участником действа. Шествие карнавала: хоры, колесницы, где происходили аллегорические сцены (вспомните мистериальные педженты!), персонажи русских сказок, сатирические маски — все это пестрое, шумное, невиданное по тому времени зрелище под громкую музыку при огромном стечении народа отправилось от Кремля по тогдашней Мясницкой (ул. Кирова), к Красным воротам (пл. Лермонтова), затем по Новой Басманной свернуло на Старую Басманную (ул. Карла Маркса) и по Покровке (ул. Чернышевского) и Маросейке (ул. Богдана Хмельницкого) вернулось к Кремлю.
В сценарно-режиссерском решении использовались прием и образы старинных русских гуляний, фольклорные персонажи из сказок, былин. Сатирическая линия представления, шедшая от удалой русской скоморошины, воплощалась в образах Взятколюба, Кривосуда, Обдиралова. На колесницах, где были устроены площадки, зрители могли видеть сатирические маски Обмана, Насилия, Невежества, Мотовства, Лихоимства и т. д.
В представлении участвовали жонглеры, акробаты, эквилибристы, специально для карнавала выписанные из-за границы.
По свидетельству А. Болотова, современника Ф. Волкова, «маскарад сей имел собственной целью своею осмеяние всех обыкновеннейших между людьми пороков, а особливо мздоимных судей, игроков, мотов, пьяниц и распутных, и торжество над ними наук и добродетели: почему и назван он был «Торжествующей Минервою».
Свидетельство Андрея Болотова, очевидца этого удивительного и небывалого по тем временам события, представляет безусловный интерес для нас. Описание маскарада полно живых, непосредственных впечатлений: «...процессия была превеликая и пред-
282
линная: везены были многие и разного рода колесницы и повозки, отчасти на огромных санях, отчасти на колесах, с сидящими на них многими и разным образом одетыми и что-нибудь особое представляющими людьми, и поющими приличные и для каждого предмета нарочно сочиненные сатирические песни. Перед каждою такою раскрашенною, распещренною и раззолоченною повозкой, везомою множеством лошадей, шли особые хоры где разного рода музыкантов, где разнообразно наряженных людей, поющих громогласно другие веселые и забавные особого рода стихотворения; а инде шли преогромные исполины, а инде удивительные карлы. И все сие распоряжено было так хорошо, украшено так великолепно и богато, что не инако, как с крайним удовольствием на все смотреть было можно.
Как Шествие всей этой удивительной процессии простиралось из Немецкой слободы по многим большим улицам, то стечение народа, желавшего сие видеть, было превеликое. Все те улицы, по которым имела она свое шествие, напичканы были бесчисленным множеством людей всякого рода;-и не только все окны домов наполнены были зрителями благородными, но и все промежутки между оными установлены были многими тысячами людей, стоявших на сделанных нарочно для того подле домов и заборов подмостках. Словом, вся Москва обратилась и собралась на край оной, где простиралось сие маскарадное шествие»1.
Маскарад продолжался несколько дней, закончившись всеобщим народным гуляньем с театральным представлением, со специально приготовленными по этому случаю спектаклями балаганов и цирка, как гласит изданная к маскараду программка: «...на сделанном на то театре представят народу разные игралища, пляски, комедии кукольные, гокус-покус и разные телодвижения...»2.
Как уже поминалось, наряду с «Торжествующей Минервой» при дворе ставились и другие массовые представления. И если эти представления носили официозно-пышный характер, то в «Торжествующей Минерве» явно ощущалась тенденция демократизировать жанр.
Необходимо отметить, что это в известной мере политическое массовое представление Федор Волков осуществил почти за тридцать лет до массовых празднеств Великой французской революции, основой которых явилось политическое содержание.
Талантливому творению Волкова было суждено и второе рождение — в наше время. Через несколько лет после Великого Октября, в 20-х годах, сценарий «Торжествующей Минервы» был включен в репертуар государственных цирков.
Совершенно очевидно, что, обращаясь в начале 20-х годов XX столетия к «Торжествующей Минерве», созданной в 1763 году,
' «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков. 1738—1793». СПб., 1871.
2 «Торжествующая Минерва», общенародное зрелище, представленное большим маскарадом в Москве 1763 года. Печатано при императорском Московском университете.
283
 руководство
цирков не без основания считало актуальным
показ представления,
в котором злая сатира на разные слои
общества, на
всевозможные пороки его приобретала
силу и действенность политического
памфлета, направленного против
самодержавного российского
строя. Как бы то ни было, но сам факт
обращения к
«Торжествующей Минерве» в первые
послереволюционные годы весьма
знаменателен. Это еще раз подтверждает,
что массовое народное
представление, поставленное Ф. Волковым
в 1763 году, было не развлекательным
карнавалом, а несло в себе большой
социальный
и общественный смысл.
руководство
цирков не без основания считало актуальным
показ представления,
в котором злая сатира на разные слои
общества, на
всевозможные пороки его приобретала
силу и действенность политического
памфлета, направленного против
самодержавного российского
строя. Как бы то ни было, но сам факт
обращения к
«Торжествующей Минерве» в первые
послереволюционные годы весьма
знаменателен. Это еще раз подтверждает,
что массовое народное
представление, поставленное Ф. Волковым
в 1763 году, было не развлекательным
карнавалом, а несло в себе большой
социальный
и общественный смысл.
В царствование Екатерины II было принято всякое событие отмечать празднествами: придворными маскарадами — для «избранных», гуляньями и фейерверками — для остальных.
Следует рассказать еще об одном массовом зрелище екате рининского времени. " »
На июнь 1775 года в Москве было назначено торжество по случаю заключения победоносного мира с Турцией. Празднество должно было сопровождаться публичным гуляньем на загородном Ходынском поле. Выдающийся русский архитектор В. И. Баженов осуществил постановку этого гулянья, найдя чрезвычайно остроумное и неожиданное режиссерское решение. По плану В. И. Баженова Ходынское поле изображало карту Крымского полуострова. Две дороги, ведущие из Москвы, представляли собой реки Днепр и Дон. По «берегам» Дона были устроены карусели и балаганы, где балагуры, канатоходцы, жонглеры, фокусники удивляли народ всяческими неожиданностями. На зеленом лугу, в центре Ходынки, изображающем Черное море, были установлены в боевом порядке корабли славного российского флота и вражеские турецкие фелуки. Искусно выстроенные башни, минареты обозначали завоеванные города и крепости — Азов, Керчь, Еникале. Оглушительно гремели сверкающие на солнце трубы, многочислен-ный хор пел торжественную кантату, встречая вереницу гостей, протянувшуюся от самой Москвы. Все было подчинено основной идее гулянья — прославлению патриотизма народа, силы и могущества русского оружия.
Творчество А. Я. Алексеева-Яковлева
С давних времен в России, как уже говорилось, славились народные массовые гулянья «под горами» (зимние) и «под качелями» (летние), устраиваемые не только в Петербурге и Москве, но и в провинциальных городах и селах.
Примером создания народных празднеств в последней четверти XIX — начале XX века может служить творчество талантливого самородка А. Я. Алексеева-Яковлева, который широко использовал в своей деятельности все лучшее из арсенала выразительных средств традиционных русских народных гуляний. К сожалению, сегодня имя этого замечательного деятеля незаслуженно забыто, хотя его творчество — целая веха в развитии жанра массовых праздников и зрелищ.
284
А. Я. Алексеев-Яковлев' был разносторонним режиссером. В организованном им народном общедоступном театре «Развлечение и польза» он ставил спектакли, пантомимы, массовые представления.
Режиссер последовательно отстаивал идею театра на площади. Будучи убежденным в том, что народный театр должен быть составной частью народных массовых праздничных гуляний, А. Я. Алексеев-Яковлев привнес в лубочный театр совершенно иную -тематику: сохраняя стиль ярмарочного балаганного зрелища, идущего от древнего искусства российских скоморохов, он взял репертуарный курс на русскую классику (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Островский) и русский фольклор.
Площадной театр «Развлечение и польза», входящий в общий комплекс народного гулянья «под горами», размещался посреди площади, на которой в балаганах, а то и просто среди народа выступали всякого рода затейники и потешники: деды — балагуры, «паясы», раешники, петрушечники. Народ, накатавшись на горах, посмотрев выступавших на площади артистов из народа, шел в театр «Развлечение и польза», который являл собою как бы продолжение всего народного гулянья и внешне сохранял любимый простым людом, хорошо знакомый ему с детства лубочный стиль народного русского представления. Однако талант драматурга, режиссера и художника позволил А. Я. Алексееву-Яковлеву использовать в своих сказочно-феерических зрелищах новые постановочные приемы, которые оказали влияние не только на народные балаганные представления, но и на русский театр, на русскую эстраду. Постановочные приемы, изобретенные балаганным театром, вощли в обиход русского профессионального театра. И в частности —«черный кабинет».
По свидетельству А. Я. Алексеева-Яковлева, К. С. Станиславский при постановке «Синей птицы» консультировался с ним о возможностях «черного кабинета». Один этот факт говорит о той высокой театральной культуре, которой были отмечены постановки площадных народных театров.
О влиянии волшебно-феерического постановочного стиля лубочного театра на большие театры мы читаем у П. П. Гнедича в его «Книге жизни». Он пишет о том, что «императорские театры не раз обращались за помощью к балаганным механикам, так как свои не могли достичь должных эффектов».
Как утверждал Е. Кузнецов, эти взаимосвязи возникли еще в начале прошлого столетия, и целый ряд спектаклей Мариинской императорской оперы был создан под влиянием феерических зрелищ балаганного театра. Это «Волшебные пилюли», «Леста, днепровская русалка», «Илья Богатырь» и даже «Спящая красавица», постановщик которой М. Петипа был завсегдатаем народных гуляний «под горами».
Забегая вперед, скажем, что народный феерический театр оказал несомненное влияние и на раннего Маяковского, ибо «Мистерия-буфф» сделана в известной мере по законам именно этого жанра.
285
Примечателен и тот факт, что театр Народного дома, который после Октябрьской революции возглавил А. Я- Алексеев-Яковлев, заказал Маяковскому сатирическое обозрение-феерию о врагах революции, о текущем политическом моменте.
Приступив к работе, Маяковский с интересом изучал макеты Алексеева-Яковлева, в частности традиционную для народного театра «сцену в аду» с участием сатаны, чертей и т. д.
Изучение приемов площадного театра многое дало Маяковскому. В этом легко убедиться, перечитав «Мистерию-буфф». И совсем не случайным следует признать творческое содружество поэта с замечательным русским режиссером. Ясная демократическая направленность творчества А. Я. Алексеева-Яковлева, естественно, привела его в ряды деятелей искусства, поставивших свой талант и мастерство на службу революции. 1 мая 1918 года Алексеев-Яковлев поставил политический карнавал — один из первых массовых праздников Советской России, осуществленный силами самодеятельности рабочих Красного Петрограда, а 1 мая 1919 года в Петрограде состоялось массовое действо «Третий Интернационал» в постановке Алексеева-Яковлева.
С именем А. Я. Алексеева-Яковлева связаны и народные «Общедоступные гулянья» в петербургском Михайловском манеже. Здесь ставились представления с участием Анатолия Дурова. Здесь же выступали русские народные хоры, народные оркестры рожечников и т. д.
В спектакле «1812 год», например, были заняты, кроме драматических актеров, хор, балет, оркестр, а также исполнители многолюдных массовок. Интересно отметить театрализованные выступления в Михайловском манеже хора Агренева-Славянского. Многие песни были инсценированы, превращались, по словам А. Я. Алексеева-Яковлева, в «действие, развернутое средствами песни», в своего рода «зримую песню».
В 80—90-х годах XIX века «гвоздем» народных гуляний в Михайловском манеже стали театрализованные аллегорические шествия. Режиссура использовала здесь прием мистериальных педжен-тов площадного театра: на восьми — десяти высоких передвижных платформах размещались «живые картины», и вся процессия проходила по манежу, делая обычно два круга.
Подобные шествия пользовались большой популярностью и в Москве, где в летних садах и на гуляньях в московских манежах устраивались веселые карнавальные процессии. Их постановщиком был М. Лентовский, художником — академик А. Шехтель.
В те же годы в петербургских садах и парках стали осуществляться массовые феерии на открытом воздухе.
«Война с Турцией», «Взятие Плевны», «Синопский бой», поставленные А. Я. Алексеевым-Яковлевым в Крестовском саду, представляют несомненный интерес и с точки зрения их патриотической тематики, определившей направленность этих массовых зрелищ, и с точки зрения режиссерского решения. Участие в этих постановках войск, военных кораблей, артиллерии, а в финале —
286
взлет воздухоплавательных шаров были по тем временам смелостью необыкновенной. Войска шли на штурм вражеских укреплений, солдаты форсировали реку в полной амуниции вплавь. Взрывалась крепость, в ней возникал настоящий пожар. А в это время на Средней Невке, на набережной которой находился Крестовский сад, пять кораблей российского флота сражались с восемью военными судами «противника», и в завершение битвы на воде — колоссальной силы взрыв всех вражеских судов. А затем — полет воздухоплавателей над головами изумленных зрителей.
Конечно, нам надо учитывать то обстоятельство, что все это происходило в 80-е годы прошлого столетия. Сегодняшнего зрителя, привыкшего видеть на теле- и киноэкранах колоссальные массовки, бои, взрывы, полеты в космос, вплоть до документаьных кадров «прогулки» человека по Луне, эти представления вряд ли бы так удивили. Но ведь речь идет о событиях столетней давности! А о кинематографе еще никто, кроме братьев Люмьеров, даже и не помышлял...
Следует отметить массовые постановки А. Я. Алексеева-Яковлева в Петроградском парке в начале нынешнего века, где он остроумно использовал природные условия (пруды, рощу и т. д.).
Интерес народа к этим массовым постановкам («Ермак Тимофеевич», «Взятие Азова» и- т. д.) был огромен: число посетителей Петровского парка в дни массовых постановок достигало десятков тысяч!
Талантливая режиссура А. Я Алексеева-Яковлева, размах и масштабы его деятельности в создании массовых народных зрелищ, служивших, как правило, делу воспитания патриотизма,— все это было определенной ступенью в развитии жанра.
В известной мере эти работы были своего рода «подготовительным периодом» перед рождением политических массовых представлений в Красном Петрограде.
Первые маевки
В той огромной работе, которую проводила РСДРП по объединению, сплочению и солидарности рабочих масс, определенное место заняло проведение маевок.
К организации маевок РСДРП обратилась после того, как в июле 1889 года решением Первого (Парижского) конгресса II Интернационала Первое мая было объявлено праздником трудящихся.
Рождению Дня солидарности трудящихся всех стран предшествовали события, наполненные глубоким драматизмом.
В 80-е годы прошлого столетия рабочие Америки включились в движение, проходившее под лозунгом «Требуем восьмичасового рабочего дня». Реакционная печать назвала это движение «восьмичасовым безумием». По всей Америке прокатилась волна демонстраций, на которых рабочие пели знаменитую песню:
Мы хотим этот мир переделать, Надоел рабский труд за гроши!
287
Мы устали корпеть и ни часа
Не иметь для себя, для души.
На фабриках, верфях, заводах
Пусть требует каждый рабочий:
Восемь — на труд,
Восемь — для сна,
Восемь — делай, что хочешь!
Центром борьбы рабочего класса Америки за свои права стал Чикаго — крупнейший промышленный центр США. 1 мая 1886 года рабочие Чикаго объявили всеобщую забастовку. Добиться восьмичасового рабочего дня было целью сорокатысячной армии забастовщиков. В этот день по улицам Чикаго прошла восьмидесятитысячная демонстрация рабочих и их семей.
Правительство повело наступление на забастовщиков. 4 мая 1886 года во время митинга на площади Хеймаркет был спровоцирован взрыв бомбы. Власти арестовали сотни людей. Полиция громила профсоюзные организации, квартиры рабочих; лидеры пролетарского движения были преданы суду и приговорены к смерти. Но это не остановило трудовой люд Америки; продолжая борьбу чикагского пролетариата за восьмичасовой рабочий день, трудящиеся предложили ежегодно 1 мая проводить демонстрации.
Первый конгресс II Интернационала, собравшийся в Париже в 1889 году, принял решение о праздновании! мая как дня международной пролетарской солидарности. В 1890 году впервые состоялись первомайские митинги трудящихся Англии, Германии, Франции.
Р. Роллан упоминает о грандиозных первомайских политических манифестациях, проведенных в Бельгии в 1896, 1897, 1898 годах (в Брюсселе, Генте, Шарлеруа). В этих народных манифестациях большое место отводилось искусству — песням, чтению стихов, массовой пантомиме, танцам.
В России массовые первомайские выступления трудящихся Харькова в 1900 году явились убедительным доказательством силы, сплоченности рабочего класса России, его решимости отстоять свои права. В. И. Ленин писал: «Харьковская маевка показывает, какой крупной политической демонстрацией способно стать празднование рабочего праздника...»1.
Рабочий праздник становится политической демонстрацией, рождением нового этапа в революционной борьбе пролетариата. Единый сплав политики и народного праздника — вот что будет впоследствии главным, определяющим фактором в создании огромных массовых политических празднеств Советской России. А празднование Первого мая — Дня солидарности трудящихся всех стран — после Великой Октябрьской социалистической революции превратится в один из главных политических массовых праздников нашей страны.
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 363.
288
