
- •Часть I
- •Глава I. Введение в режиссуру эстрады
- •Глава 2. Изучение основ режиссуры эстрады
- •Глава 3. Работа над созданием номеров различных эстрадных жанров
- •Глава 4. Работа режиссера эстрады с автором
- •Глава 5. Работа над учебным эстрадным спектаклем
- •Глава 6. Основные формы
- •Часть II драматургия концертного действия
- •Глава I. «архитектурный проект» зрелищных искусств
- •Глава 2. Монтаж эпизодов, аттракционов, номеров
- •Глава 3. Режиссер-драматург
- •Глава 4. Монументализм и пафос
- •Глава 5. Из драматургических опытов прежних лет
- •Часть 1. Успехи социалистической индустрии.
- •Часть II. За социалистическое преобразование деревни.
- •Часть III. Долой империализм! Вперед к социализму!
- •Глава 6. Сценарий — основа массового праздничного действа
- •Глава 7. Музыка и слово
- •Глава 8. Литературный сценарий и режиссерская экспликация
- •Часть III
- •Глава 1. О сущности массового действа
- •Глава 2. Из истории
- •Глава 3. Празднества в советской россии
- •Глава 4. Театрализованный концерт
- •Часть IV
- •I. Создание сценария массового представления и массового праздника
- •II. Постановка массового театрализованного представления на театрально-концертных площадках (Кремлевский Дворец съез дов, Дворец спорта, Зеленый театр и т. Д.)
- •Глава 1. О некоторых особенностях режиссуры жанра
- •Глава 3. Художник. Цвет. Свет
- •Глава 4. Монтаж пространства
- •Глава 5. Постановочная группа
- •Глава 6. Работа с массой
- •Глава 7. Кинофикация массового действа
Глава 1. О сущности массового действа
ПРАЗДНИК ТРУДЯЩИХСЯ
Что собирает в праздничные дни под открытым небом огромное количество людей? Что зовет их на площади и улицы городов, объединяет в многоликие группы, заставляет петь, танцевать,
214
затевать игры, сливаясь в одну бурлящую радостью и весельем массу? Что рождает у массы — тысячной, стотысячной, миллионной человеческой массы — праздничное настроение? Какая скрытая пружина заключена в механизме праздничного массового веселья?
Ф. Энгельс утверждал, что на народное празднество люди собираются «для взаимного освежения, житейской бодрости и юношеского веселья».
«Но музыка тут не главное,— писал он о рейнских музыкальных празднествах.— А что же? Вот именно, музыкальное торжество. Как мало центр без окружности составляет круг, так же мало представляет здесь музыка без радостной дружной жизни, образующей окружность вокруг этого музыкального центра»1.
Радостную, дружную жизнь считает Ф. Энгельс доминантой народного празднества, видя в этом явление общественного порядка. И для того чтобы проследить истоки зарождения праздничных действ, мы должны выбрать именно тот аспект, который поможет нам наиболее точно и ясно выявить их особенности.
В празднестве, в народном праздничном действе люди полнее ощущают себя как единое целое, как нацию, как народ. И это наиболее ощутимо во времена общественного подъема, рожденного революцией. Выйдя из круга отчужденности, ограниченных интересов, люди ощущают себя творцами истории.
«Революции — праздник угнетенных и эксплуатируемых. Никогда масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время революции. В такие времена нарЪд способен на чудеса...»2,— писал В. И. Ленин в работе «Две тактики социал-демократии в демократической революции».
И характерно, что в разные эпохи революции находились в непосредственном взаимодействии с народными празднествами. Революция рождала «праздничную энергию масс» и празднества всегда становились следствием революционных преобразований, творимых народом.
Наибольшее значение в развитии художественной культуры человечества приобретают явления искусства, вызванные к жизни громадностью великих социальных движений; поэтому эпохи всенародного революционного подъема сопровождались революционными празднествами, идущими в одном русле с идеями революции, являющимися отражением и воссозданием революционной эпохи. В этих празднествах бушевала великая радость победившего народа, народа — творца своего будущего.
«...Всякая подлинная демократия устремляется, естественно, к народному празднеству,— писал А. В. Луначарский.— Демократия предполагает свободную жизнь масс. Для того, чтобы почувствовать себя, массы должны проявить себя, а это возможно
' Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве, в 2-х т. М., т. 2, с. 535. 2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 11, с. 103.
215
 только
когда, по слову Робеспьера, они сами
являются для себя
зрелищем»1.
только
когда, по слову Робеспьера, они сами
являются для себя
зрелищем»1.
Р. Роллан говорил о том, что в массовом народном театре народ принимает участие не в качестве актеров, а в качестве граждан, как коллективный выразитель идеологии народа, политических устремлений, воплощенных в празднестве.
Так мы вновь и вновь возвращаемся к идее: революции — праздник трудящихся, а революционные празднества — следствие революционных преобразований в стране, обществе, народе.
Взаимосвязь этих явлений можно подтвердить многими примерами из теории и практики, в том числе их преломлением в области литературы и искусства. И в первую очередь — в поэзии и музыке. Революционный подъем вдохновил Бетховена на создание Девятой симфонии. Основа ее — шиллеровская ода «К радости», исполненная стремления к человеческой солидарности, веры в грядущее освобождение народов мира, в прекрасное Завтра всего человечества. Образы симфонии, композиционная структура, неукротимый дух, клокочущий буквально в каждом такте партитуры,— все говорит о революционной силе, заложенной в произведении, и по сей день звучащем пламенным призывом к борьбе и победе, к братству, рожденному этой победой.
В финале Девятой симфонии — собирательный образ человечества, одушевленного радостью созидания, труда и любви, немеркнущей надеждой на грядущую Свободу. Гимн Радости достигает кульминации в призыве к человечеству: «Объединяйтесь, миллионы!»
Пройдет всего лишь двадцать с небольшим лет после создания Девятой симфонии, и великий лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», рожденный «Коммунистическим манифестом», укажет миллионам трудящихся во всем мире путь к борьбе, к революции, к свободе. А бетховенский гимн «К радости» будет звучать, чтобы в новой жизни звать поколения, рожденные Октябрем, к новым свершениям в единой дружной семье человечества: «Объединяйтесь, миллионы!»
Так искусство становится агитационной силой, взятой на вооружение революцией, утверждающей Свободу, Равенство и Братство.
Рожденное Революцией стремление к человеческому объединению точно и емко выразил А. Блок: .«Революция — это: я — не один, а мы. Реакция — одиночество...» И еще: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».
В революционной России нашло реальное воплощение то, о чем мечтали лучшие люди многих эпох и народов — равенство людей, чувство интернационализма, стремление создать великое челове"-ческое братство.
В сложнейшей исторической обстановке народ, руководимый партией, начал строительство новой жизни, нового социального
строя, нового общества, новых человеческих взаимоотношений, новой культуры.
Рождался массовый героизм, ставший нормой и мерой гражданственности советских людей. Героика не была выдумана художниками: сама жизнь была героизмом, и подвиги массового героизма совершались ежедневно.
В первые послереволюционные годы сверхзадачу создания народно-героического жанра взяли на себя поэзия и массовые агитационные политические представления. Найдя свое первое образное воплощение в поэзии и массовом действе, монументальная героика в дальнейшем проявит себя и в прозе — «Железным потоком» А. Серафимовича, «Чапаевым» Д. Фурманова; и в драматургии — «Оптимистической трагедией» Вс. Вишневского; и в кино — «Броненосцем «Потемкиным» и «Октябрем» С. Эйзенштейна; и в театре — монументально-героическим стилем революционных спектаклей Вс. Мейерхольда, К- Марджанова, Н. Охлопкова и других.
Об этом много написано и много сказано. Мы же сосредоточим свое внимание на грандиозных постановках театра под открытым небом, театра народных масс, театра народной гербики, могучей силы и монументальности.
АГИТТЕАТР
Ощущая всю огромность, мощь и глубину материала, который сама жизнь давала молодому советскому искусству, художники настойчиво стремились найти новые формы его выражения. Отсюда стремление к монументальности, мощности и патетике, отражающим масштабы эпохи.
Выражением этих стремлений стал праздник под открытым небом, праздник народных масс.
Коммунистическая партия с первых же шагов Советского государства вела в народных массах огромную пропагандистскую работу, направленную на закрепление завоеваний Великого Октября.
Одним из аспектов партийной пропагандистской работы стал народно-героический массовый агиттеатр. Он существовал недолго. Но за свое недолгое существование он дал нарождающемуся советскому искусству пример служения народу, пример театра, ярко и эмоционально прославляющего великие ленинские идеи, утверждающего высокие идеалы коммунизма.
Театр народных масс с первых же дней Советской власти принимал самое деятельное участие в культурной революции, проводимой в стране. В. И. Ленин, определяя в перспективе задачи культурной революции, говорил о создании в конечном итоге «культурной коммунистической страны»'. Существеннейшим условием народно-героического театра под открытым небом явилось то, что в центре представлений оказалась масса, органически входящая в образный строй народных спектаклей без обычных театральных атрибутов (грим, костюмы и т. д.). Тысячные массы народа,
216
Луначарский А. В. О театре и драматургии, т. 1, с. 190.
Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 143.
217
 действующие
в представлении, являли собой единое
целое с многотысячными
зрителями, такими же рабочими, солдатами,
студентами.
действующие
в представлении, являли собой единое
целое с многотысячными
зрителями, такими же рабочими, солдатами,
студентами.
Когда в результате культурной революции искусство стало служить пропаганде революционных идей, оно вышло из узких рамок доступности только для знатоков и «жрецов» и устремилось к народу, к той колоссальной массе, властно потянувшейся к культуре, о которой говорил В. И. Ленин.
В этом культурном движении, обусловленном новыми социальными и общественными отношениями в Республике Советов, в первые годы главенствующая роль принадлежала революционному агит-театру. Массовый агиттеатр был застрельщиком этого движения, активно осуществляя идеологическое воздействие на народ, являясь проводником идей Коммунистической партии. Новый театр, полный праздничной радости, гневной ярости и предельной политической определенности, был категоричен в своих требованиях, как было категорично и требовательно само время. И не случайно А. В. Луначарский утверждал, что драматург нового театра должен отчетливо симпатизировать и антисимпатизировать. Мир должен быть для него полярен.
Трудно переоценить значение массовых народных празднеств и зрелищ в первые годы Советской власти. Массовые действа и празднества на улицах и площадях, возникшие в Петрограде и в дальнейшем триумфально прошедшие по всей стране, построенные на ясной и определенной политической платформе, решенные в плане революционной символики, вовлекавшие в действие десятки тысяч зрителей,— явление собирательное. Это подлинно народные представления, вобравшие в себя многовековой опыт народного театра под открытым небом.
В образах этих спектаклей дух народного подвига, дух мужественного сопротивления врагам революции определял стиль и направленность массового действа. Тема народа-героя развивалась в них то в плане патетическом (где авторы спектаклей обращались к трагедийным и героическим образам), то неожиданно приобретала комедийно-сатирическое — вплоть до обнаженного гротеска — звучание.
И, отдавая должное достижениям агиттеатра, мы должны вместе с тем отметить, что на пути к массовости и доступности создатели жанра, многое приобретя, понесли и определенные потери. Стремление к предельной ясности и плакатной агитационности, желание все досказать до конца, не оставив зрителю возможности домысливать увиденное, зачастую вело к прямолинейности в художественных решениях. Эта ограниченность выразительных средств агитационного массового театра проявилась как в декларативных приемах, так и в «агитации фактами», иными словами, в непосредственном использовании политических и общественных событий без попыток образного решения, без обобщений и поисков типического в явлениях жизни.
В массовых народных спектаклях (или «инсценировках», как их тогда называли) действовали условно-аллегорические обоз-
218
начения классовых сил. Не случайно они были лишены имен и назывались «Рабочий», «Капиталист» и т. д. Герои, пришедшие в массовые действа, обладали предельной ясностью и целостностью характеров, порой доходящих в своих крайних проявлениях до схематичности.
Вместе с тем та обнаженная тенденциозность, которая являлась сущностью образов, и прямолинейность художественных выразительных средств давали возможность массовому действу найти путь к разуму и сердцу самых неподготовленных зрителей. В этом был «социальный заказ» того времени. (А мы должны помнить, что массовый агиттеатр, детище определенной эпохи, был поставлен на службу своему времени и нес великую агитационную миссию.)
При всех недостатках массовые действа — одна из достойных и славных страниц советского театра эпохи революции, ибо массовые зрелища первых послевоенных лет явили собой наиболее демократичную форму искусства. И не только утилитарно-агитационные цели сыграли роль в том плакатном стиле массового действа, который отличал большинство начинаний в этом жанре в первые послереволюционные годы. Плоть от плоти своего времени, массовые действа Красного Петрограда сразу же, с первых шагов, со всей мощью общественного темперамента взяли такую эмоциональную высоту, что в этом страстном кипении мировых проблем не нашлось места для подробной и обстоятельной обрисовки человека, его психологии, личных переживаний.
Массовые действа первых послереволюционных лет по своей пламенности существовали в той же эмоциональной плоскости, что и'пламенные речи вождей революции, зовущих народ к подвигу, героизму, великому братству свободных людей.
В массовых политических спектаклях Красного Петрограда органично сочеталось и то, что было взято от традиционного театра, с приметами новой эпохи: демонстрациями, шествиями, митингами и особой организацией массы, характерной для революции.
Этот сплав принципов театрального искусства с невиданным прежде жизненным материалом, который привнесли площади и улицы городов, наполненные революционными массами, и родил агитационный театр под открытым небом.
В праздничном шествии массовых площадных действ нашли образное воплощение устремления народа-победителя, с великим энтузиазмом приступившего к строительству новой жизни. В массовых действах народ стал главным героем и активным сотворцом празднества. Это было знамением времени — времени революционного единения народа.
Монументальная пропаганда
Великое значение в демократизации искусства приобрела ленинская идея «монументальной пропаганды», т. е. пропаганды идей нового общества, ведущейся средствами нового искусства,
219
 шагнувшего
на площади и улицы, пришедшего к народу,
заговорившего
простым и понятным народу языком.
шагнувшего
на площади и улицы, пришедшего к народу,
заговорившего
простым и понятным народу языком.
«Надо двинуть вперед искусство как агитационное средство»1,— так, по свидетельству А. В. Луначарского, определил В. И. Ленин задачу, стоящую перед молодым советским искусством.
Следует отметить, что В. И. Ленин обращал внимание на народные массовые празднества и даже сам принимал в них участие. Чрезвычайный интерес представляет свидетельство В. Д. Бонч-Бруевича: «Мне лично приходилось наблюдать однажды Владимира Ильича на народном празднике в Женеве, называющемся «Эскаляда», в честь освобождения Швейцарской республики от нашествия австрийских войск. На этом празднике, продолжающемся, обыкновенно, несколько дней, принимают участие все сословия населения города и в том числе рабочие. Вечером устраивается громадный карнавал... И вот здесь, на этом празднике, я видел, как Владимир Ильич увлекался народным весельем...»2.
Но карнавал — это не только веселье, песни, пляски; народный праздник всегда отмечен политической окраской. В нем находят отклик и история народа, и настоящее, чем сегодня живет нация, и та революционность, которая всегда живет в народе, своеобразно проявляясь в дни празднеств.
Рассказ В. Д. Бонч-Бруевича о состоявшемся в канун 1904 года четырехдневном карнавале «Эскаляда», в котором участвовал В. И. Ленин и группа русских большевиков — политических эмигрантов, дает нам драгоценное свидетельство как личного отношения В. И. Ленина к народному празднику, так и политической подоплеки карнавала, устраиваемого в честь освобождения страны от иноземных захватчиков: «Пели все, пела вся улица веселые бодрые песни, в которых звучали то мотивы «Марсельезы», то мотивы «Карманьолы».
<...>Надо было видеть, с какой неподдельной радостью, с каким огромным увлечением и заражавшим всех подъемом веселился Владимир Ильич, здесь на улице, среди женевской толпы, в которой, конечно, более всего принимал участие рабочий люд...
<С..>Вечно думая о жизни угнетенных, стремясь понять и провести в жизнь все то, что эту жизнь облагораживает, возвышает, очищает, поднимает,— он сам всегда хотел принять живое, непосредственное участие в самой гуще жизни, изучая и познавая ее со всех сторон»3.
В. И. Ленин всегда уделял большое внимание пропаганде политических идей средствами искусства. И глубоко симптоматично, что создателя «Интернационала» Эжена Потье он назвал «одним из самых великих пропагандистов посредством песни»*.
^ Луначарский А. В. Собр. соч., в 8-ми т. М., 1967, т. 7, с. 402.
Ленин В. И. О литературе и искусстве. М., 1979, с. 694. 3 Б о н ч-Б р у е в и ч В. Д. Воспоминания о Ленине. М., 1969, с. 32—33
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 22, с. 274.
220
В самых различных сферах духовной деятельности искал великий вождь пролетариата агитационную силу, сплачивающую, объединяющую людей: в литературе, музыке, театральном зрелище.
В 1919 году, учитывая важность агитационного воздействия зрелищных искусств на народ, В. И. Ленин подписал декрет «Об объединении театрального дела». В этом историческом документе есть пункт и о народных зрелищах.
• Зрелищные искусства — наиболее доходчивые и потому наиболее популярные у народа — необходимо было сделать делом партийным и государственным.)Массовые народные действа стали частью «монументальной пропаганды».
В 20-е годы они сыграли важную роль в развитии и становлении народного искусства в нашей стране. И прав был А. В. Луначарский, когда увидел в массовых действах зачатки развития самодеятельного искусства — той огромной культурной работы, которая в дальнейшем стала одной из основ широкого развития искусства народов нашей страны.
Развивая ленинскую идею «монументальной пропаганды», А. В. Луначарский претворил ее в жизнь в самых различных аспектах. В том числе — в области массовых праздничных действ. Необходимо отметить, что он одним из первых (если не первый) создал некоторую классификацию жанровых разновидностей, разделив празднества на две последовательно развивающиеся стадии.
Первая стадия включает, как писал А. В. Луначарский, массовое народное выступление в собственном смысле слова — движение масс из пригородов к единому. центру города, где совершается центральное действие праздника — массовый спектакль или символическая церемония. И улицы, и парки города, по которым пройдет шествие, и массы народа на тротуарах, балконах и в окнах домов явятся красочным зрелищем для участников шествия. В первой части праздника А. В. Луначарский предлагал провести ряд символических церемоний: древонасаждение, закладку памятников, зачинание построек, сожжение вражеских эмблем и т. д.
Вторая стадия празднества (или «второй акт») предполагает рассредоточение массы на отдельные группы с целью «дать... максимум радости, музыки, зрелища, веселья»..
Жанровые разновидности предполагались самые различные: от митинга-концерта (и пламенная революционная речь, и декламирование куплетов) до остросатирических выступлений клоунов.
Особое внимание уделяет А. В. Луначарский проблеме участия в празднествах художественной самодеятельности. «В народной массе таится великая творческая сила,— и*чона сотворит совсем особый театр...»1.
И как следствие процесса развития идеи «монументальной пропаганды» было рождение массового агиттеатра, где индивидуаль-
Луначарский А. В. О театре и драматургии, т. 1, с. 759.
221
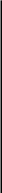 ный
герой уступает место коллективу,
осуществляющему эмоциональную
динамику массового действа.
ный
герой уступает место коллективу,
осуществляющему эмоциональную
динамику массового действа.
В своих предположениях и рекомендациях А. В. Луначарский определил и построение массового празднества (деление на два, как он говорил, «акта»), и основные силы, его проводящие (актеры-профессионалы и художественная самодеятельность).
И когда сегодня в праздничные дни по Красной площади идет многотысячное шествие, совершая торжественные церемониалы, когда огромные массы с песнями, под звуки многочисленных оркестров движутся по празднично декорированным улицам и паркам наших городов, являя собой незабываемый зримый образ солидарности трудящихся, когда в Москве, Ленинграде и других городах страны шумят свеже-зеленой листвой парки Дружбы, посаженные в честь фестивалей молодежи и других праздников, когда в праздничные дни по всему городу возникают сотни импровизированных эстрад, собирая толпы народа, создавая «очаги веселья», когда наряду с актерами-профессионалами успешно выступают коллективы художественной самодеятельности, мы не должны забывать, что многое из этого предугадано и предсказано выдающимся деятелем Советского государства А. В. Луначарским.
Предсказание А. В. Луначарского, что из недр народа родится массовое искусство, полностью оправдало себя в развитии художественной самодеятельности. Сегодня это «ударная сила» в любом массовом празднике и зрелище. Став подлинно всенародным культурным движением, художественная самодеятельность достигла высокого уровня. И тем отраднее сознавать, что ростки ее сегодняшнего расцвета были заложены еще в первых опытах красноармейских и рабочих кружков, в первых массовых политических представлениях агиттеатра под открытым небом, рожденных в колыбели Революции — городе Ленинграде.
«Могучая душа народных коллективов,— писал А. В. Луначарский в 1920 году,— требует, чтобы содержание передано было в формах мощных, ярких, монументальных...»
И, словно продолжая его мысль, говорит В. Маяковский: «Весь тот вулкан и взрыв, которые принесла с собой Октябрьская революция, требуют новых форм в искусстве».
Говоря о поисках языка, на котором необходимо было обращаться к народу в новой конкретной исторической обстановке, А. В. Луначарский неоднократно подчеркивал, что пролетариату «в театре нужно то, чему в живописной практике соответствует плакат и особенно фреска. Он жаждет монументальности... Революции противно все, что мельчит, ей нужны вещи не микроскопические, а телескопические... Картины, которых она жаждет, должны быть монументальны».
Высказывания А. В. Луначарского о монументализме, о своеобразии монументального реализма представляют большой интерес в применении к массовым празднествам и зрелищам.
«Монументальный реализм пользуется элементами реалистическими, соединяет их в художественной комбинации, глубоко прав-
222
дивой, совершенно оправдываемой элементами и взаимодействием элементов, находящимися или могущими быть найденными в нашей действительности. Но он вправе строить гигантские образы, которые в действительности реально не встречаются, но которые являются персонификацией коллективных сил... Это не реализм? Да, здесь есть элементы романтики, потому что скомбинированы элементы неправдоподобно. Но они правдиво изображают правду. Правда эта выдвигает внутреннюю сущность развития, дается как знамя...»1.
А. В. Луначарский акцентирует внимание на специфических особенностях реализма, характерных для монументального искусства, дает научное определение этой специфики, являющейся основополагающей для создания массовых празднеств и зрелищ — народного агитационного площадного театра.
Призывая художников поднимать действительность до героических символов и вместе с тем решать образы Революции в монументально-реалистических чертах, а не в плане абстрактной символики, А. В. Луначарский требовал от художников создания пролетарского, революционного искусства, отражающего то новое, что родилось в социалистическом обществе.
Когда сегодня читаешь пламенные строки выдающегося деятеля Советского государства, зовущие художников выделить то колоссальное и несравненно благородное, что не может не жить в человеческой коллективной психике, и на этой основе создать подлинно народное зрелище, то еще раз ощущаешь, какая огромная потребность в монументальном искусстве — массовых празднествах и зрелищах была в первые послереволюционные годы, какой агитационной силой были они и какая великая сила заключёна в них сегодня.
Театр под открытым небом
На стыке XIX и XX веков мировой театр испытывал мощные _ удары, объективно подготовившие значительные, качественные изменения этого вида зрелищного искусства. Их несли новаторские замыслы талантливейших деятелей театра, вместе с нарождающейся новой драматургией все убедительнее возвещавших миру об утверждении самостоятельного искусства режиссуры. И каждая подлинная новация была обусловлена не формальными поисками, а идейно-художественными устремлениями мастеров.
Режиссерское творчество стало властно заявлять о себе тогда, когда в нем исторически ощутилась неодолимая потребность. И именно с режиссурой связаны в истории зрелищных искусств значительные перемены, рожденные творчеством подлинных новаторов.
Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд, Вахтангов, мастера западноевропейского театра — Антуан, мейнингенцы, Макс Рейнгардт, Жак Копо... На стыке двух веков и в первой четверти XX века они провозгласили рождение новых принципов театрального искусства.
Луначарский А. В. О театре и драматургии, т. 1, с. 737—738.
223
 Решающая
роль режиссера сказалась и в самом
молодом искусстве
— кинематографе. «Великий немой»
существовал благополучно
и сыто; мало кто считал его искусством,
и он свыкся с удобной
ролью чего-то прикладного, повисшего в
воздухе где-то между
театром и ожившей фотографией.
Решающая
роль режиссера сказалась и в самом
молодом искусстве
— кинематографе. «Великий немой»
существовал благополучно
и сыто; мало кто считал его искусством,
и он свыкся с удобной
ролью чего-то прикладного, повисшего в
воздухе где-то между
театром и ожившей фотографией.
Но пришло время, и в мировом кино образовалась группа высокоталантливых режиссеров. Появление Д. Гриффита, Ч. Чаплина и документалиста Р. Флаэрти в американском кинематографе, рождение великих картин С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, А. Довженко, творческий поиск других замечательных режиссеров стремительно, в течение каких-нибудь десяти — двенадцати лет, создали новое искусство кинематографии.
И наконец, обращение выдающихся советских режиссеров Мейер хольда, Марджанова, Охлопкова, Петрова и других к созданию массовых праздничных действ решило судьбу жанра, сделав его инструментом воспитания в^ народе высоких политических и общест венных идеалов. |
История пространственно-временных искусств свидетельствует, что развитие их идет по линии взаимопроникновения, взаимовлияния. ; Массовое действо, в котором вступают во взаимодействие различные виды и жанры искусства, всегда стремилось к сплаву — видовому и жанровому. Сплав многих искусств, приведенных к единому знаменателю, наблюдаем мы в массовом действе/
Пластика — один из главных действенных компонентов массового зрелища — заявила о себе в первой четверти XX века в лучших мировых образцах немого кино. В немом кино, как известно, отсутствовали словесное обозначение действия и словесная образность. Их заменяла пластика, несущая действенно-смысловое значение.
И к началу 20-х годов, ко времени рождения в нашей стране массового политического агиттеатра, кинематограф стал достаточно крупной выразительной силой, могущей оказать влияние на смежные виды искусств.
«Немое кино,— писал В. Шкловский,— вошло в театр обнажением смены и самостоятельности кусков, преобладанием движений над заглушённым словом».
Можно говорить о влиянии пластической культуры немого кино на режиссерские поиски в первые годы зарождения жанра массовых политических празднеств, тем более что и Мейерхольд, и Петров, а впоследствии Марджанов, Охлопков и другие создатели жанра успешно работали в немом кинематографе как режиссеры и актеры.
Динамика развития современного искусства такова, что оно заимствует «архитектурные проекты» из смежных искусств, если в них ощущается необходимость. Это касается и самых современных открытий в искусстве, и самых древних искусств. Проходит время, и многие, казалось бы, сданные в архив «проекты» и «конструкции» сегодня начинают новую жиздь, модифицируясь и приобретая современное звучание.
224
Конечно, «второе дыхание» в искусстве не есть простое механическое повторение, ибо, находясь под «током напряжения» времени, эпохи, общественных устремлений определенного поколения и его эстетических воззрений, традиции трансформируются, обновляясь и видоизменяясь.
Их «воскрешение» идет не по линии чисто формальной, а по законам сущностной природы того или иного явления.
3 Великие и многозначные темы, которые поднимают массовые спектакли под открытым небом, их образное, эмоциональное воплощение всегда требовали своеобразного режиссерского почерка и особых, специфических выразительных средств.
* Режиссура завоевала значительные и прочные позиции в жанре массового зрелища и массового празднества. Здесь мы встречаемся с любопытным обстоятельством, обусловленным давним стремле нием театральных режиссеров к массовому праздничному зрелищу, к народному театру улиц и площадей.
• К театру под открытым небом, к площадному массовому пред ставлению, хранящему лучшие традиции народного зрелища — тра диции, идущие от древних времен,— к такому театру стремились мастера режиссерского цеха. Быть может, стремление мастеров режиссуры вывести театр на площади обусловлено надеждой найти у истоков театрального искусства — в площадном народном театре — ответы на многие вопросы, которые стоят перед современ ным театром?
Гордон Крэг еще в начале века открыл во Флоренции, недалеко от Римских ворот, «Арену Гольдони» — экспериментальный театр под открытым небом.
'Макс Рейнгардт неоднократно разрушал привычную театральную коробку. Еще в 1910 году в пантомиме «Сумурун» («1001 ночь») впервые в европейском театре он применил японскую «цветочную тропу», и актеры играли посреди зрительного зала. Выдающийся немецкий режиссер увлекся идеей ломки театральных традиций и перенес пантомиму на арену цирка, ибо театр уже был ему тесен.
Там, на арене цирка, где нет привычной театральной рампы, актеры играли посреди зрительного зала, как в театре Древней Эллады, как в площадном средневековом театре.
Играли «Сумурун», «Царя Эдипа» и др. Рейнгардт утверждал, что именно «отсюда проистекает контакт между актером и зрителем, из которого рождается совершенно неожиданное и неведомое воздействие. Зритель оказывается теснее связанным с действием, нежели это имело место прежде».
Идея создания массового театра воплощалась в самых различных аспектах. В рейнгардтовских спектаклях в огромном лондонском «Олимпия-зале» (1912 год) участвовали 200 статистов, 240
музыкантов и т. д.
Стремление режиссера к массовому зрелищу естественно привело его к созданию «театра под открытым небом». Учредив в Зальцбурге ежегодный летний театральный фестиваль на открытом воздухе, Рейнгардт поставил там ряд спектаклей.
225
8 Заказ 136
 На
заключительном этапе большого жизненного
и творческого пути
немецкий режиссер пришел к разновидности
массового действа—
театральным спектаклям под открытым
небом.
На
заключительном этапе большого жизненного
и творческого пути
немецкий режиссер пришел к разновидности
массового действа—
театральным спектаклям под открытым
небом.
Открытое небо влекло мастеров режиссерского цеха не только старшего поколения. По существу, выход театральных режиссеров и художников в кинорежиссуру — это близкое, родственное старым мастерам стремление выйти из театральной коробки под открытое небо, к необозримым просторам, открывающимся перед объективом кинокамеры.
Эйзенштейн, Марджанов, Петров, Юткевич, Козинцев, Охлопков... Выдающиеся мастера, они пришли к подлинной натуре, природе, огромным пространствам земли, океана, непостижимым'разумом пространствам космоса.
Для воплощения масштабных замыслов им понадобился простор площадей, распахнутые настежь дали полей и лесов и открытое небо над головой. Там, под открытым небом, на огромных просторах легко и вольно дышалось, там ничего не ограничивало полета фантазии. Там масштабы замыслов выдающихся режиссеров нашли свое воплощение в безграничных по сравнению с театром возможностях кино. -
Они пришли из театра в кино (одни — навсегда, другие — лишь на время, сохранив на всю жизнь любовь к кинематографу), потому что театра им уже было мало. Театральная коробка, созданная несколько веков назад и в принципе оставшаяся почти без изменений и по сей день, рампа, разделяющая сцену и зрителей, невозможность вывести театр на широкий простор, к свежему ветру и солнцу — все это звало мастеров режиссерского цеха на площадь, на улицу, к новым крупномасштабным созданиям.
«Драма родилась на площади...» Очевидно, то, что так тонко подметил Пушкин, подспудно движет мастерами, заставляя их выходить на площади крупных современных городов и совершать паломничество по выжженным палящим солнцем песчаным просторам Африки, чтобы иметь возможность говорить языком искусства с народными массами в самых глухих уголках земного шара...
Макс Рейнгардт, Фирмен Жемье, Всеволод Мейерхольд, Эрвин Пискатор — славные имена, крупнейшие мастера режиссерского цеха. Их, столь различных по своим творческим устремлениям, почерку, поиску, творческим целям, объединяло это стремление к театру под открытым небом, к масштабам, которые обычному театру были не по силам. И, очевидно, секрет здесь заключается не просто в количественном увеличении участников спектакля и не в обширном пространстве, где действовали массы участников. Мастеров режиссуры влекли масштабы эмоций, которые мог дать массовый театр под открытым небом.
Путь английского режиссера Питера Брука от театра к кинематографу так же закономерен, как и других мастеров режиссуры. Параллельно со своими кинематографическими экспериментами Брук и театр вывел на площадь.
В 1971 году он создал Международный центр театральных исследований. Этот творческий коллектив, в который вошли актеры из разных стран мира, осуществил в Иране, на руинах Персеполя — древнеперсидского города, спектакль под открытым небом «Орг-хаст», построенный на мифах, повествующих о Прометее, и на эсхилловских «Персах».
Группа МЦТИ вместе с Питером Бруком совершила путешествие по Африке, выступая на базарных площадях, на улицах африканских городов и деревень, играла в США, в рабочих клубах и во дворах кварталов бедноты, играла под открытым небом пьесу, созданную по древнеперсидской поэме «Совещание птиц». Питер Брук говорил, что эта поездка предпринята, чтобы дать простым людям энергию, принести им радость.
Так рассматривали проблему выхода театра под открытое небо прогрессивные деятели Запада, видя в самом этом акте воплощение гуманистических и культурных, воспитательных и просветительских идей.
И совершенно иные цели преследует, выходя под открытое небо, к примеру, американский авангардистский театр. Этот театр, взяв курс на проповедь «антиискусства», в 50-е годы пришел к созданию новых жанров — «эктивитиз» (действие), «ивентс» (событие). Популярный в Америке жанр «хэппенинг» (происшествие) зародился как жанр камерный. Спектакли-действа поначалу шли в чердачных помещениях, заброшенных складах, чтобы затем перейти в фешенебельные концертные (кстати, обратите внимание — не театральные) залы Нью-Йорка. В основу драматургического принципа «хэппенинга» берется коллаж (склеивание). Действие в «хэппенинге» отсутствует, равно как и смысл и логика. Это именно склеивание случайных событий, предметов, отвлеченных ощущений.
Аллан Капров, считающийся одним из создателей и теоретиков «хэппенинга», объяснял, что цель этого «искусства» — создать прототип неоформленного, зарождающегося сознания. Приводимые ниже фрагменты из сценария Аллана Капрова «Домашний очаг» дают представление о «поисках», ведущихся в этом жанре.
«Создание одинокой мусорной кучи где-то за городом. Вокруг — горы хлама, потом — дымок. Часть мусора огорожена красной оградой из старых консервных банок. Вокруг деревья.
...11 часов утра. Мужчины сооружают из всякого деревянного хлама башню на горе мусора. Вокруг устанавливаются высокие жерди, на них укреплены обрывки картона. На другом холме из молодых деревьев и веревок девушки сооружают «гнездо». Рядом на бельевых веревках они развешивают старые рубашки.
...2 часа дня. Прибывают машины. На буксире они тащат какую-то старую рухлядь — остов автомобиля. Машины останавливаются невдалеке. Выходят люди.
Девушки залезают в «гнездо» и истошно вопят. Мужчины идут к шипящей развалине, закатывают ее в гору мусора и обмазывают ее сверху... клубничным вареньем. Подходят девушки и слизывают варенье. С криками и бранью мужчины разрушают «гнездо», затем возвращаются к девушкам у машины, прогоняют их и едят варенье пальцами»1.
' Цит. по кн.: К у к а р к и н А. В. Буржуазное общество и культура. М., 1970, с. 178—179.
226
227
 Так
продолжается до последней сцены. У
автора она называется «обличением»
и состоит в следующем: машину-развалину
закатывают
в мусор, поджигают, затем все садятся,
закуривают и молча расходятся.
Так
продолжается до последней сцены. У
автора она называется «обличением»
и состоит в следующем: машину-развалину
закатывают
в мусор, поджигают, затем все садятся,
закуривают и молча расходятся.
В данном случае перед нами типичный пример бесфабульного сюжетосложения, лишенного цели и мысли.
«Случайности» вокруг мусорной кучи можно нагромождать десятками и сотнями. Это ничего не изменит ни в «сценарии», ни в «спектакле», ибо само по себе бесцельное нанизывание одного на другое случайных событий не является искусством. Именно бесцельность «хэппенингов» Аллана Капрова близка абсурдистскому направлению в театре.
Надо отдать должное создателям «театра абсурда» — они очень точно определили сущность собственного детища1, в основе которого лежит трагический распад людских связей, разобщенность, невосприимчивость к проблемам человека и общества.
По признанию столпа «театра абсурда» Эжена Ионеско, «абсурд — это то, что лишено цели»; все действия человека «становятся бессмысленными, абсурдными, бесполезными». Язык больше не создает связи между людьми, не служит посредником.
Сценарий Аллана Капрова близок к этой позиции, определяемой безыдейностью, отсутствием смысловой направленности произведения.
Полная людская разобщенность, неумение и нежелание найти духовные нити, связующие людей, прийти к общности, к человеческой солидарности характерны для абсурдистского направления хеппенингов. Запланированная обреченность героев, бесцельность человеческого существования — вот характерные черты этого направления «антиискусства». В результате—ненависть человеческих особей друг к другу, а вместо активной жизнедеятельности — стремление к смерти.
Ионеско откровенно призывает окончательно разрушить жизненные связи, возводя стремление к смерти в некий нравственный культ:«Так как желание смерти находится сегодня в сердцах всех живых существ, так как мы страдаем, пытаясь это выразить, и так как все живые существа стремятся к покою и миру, давайте разрушать жизненные связи и культивировать стремление к смерти»2.
Здесь уж попросту, вопреки логике, получается: раз люди стремятся к миру, необходимо культивировать стремление к смерти. Обреченность человечества (в подтексте) есть и у Аллана Капрова в его «хэппенингах», с которыми он в поисках наибольшей достоверности вышел под открытое небо. Но и свежий воздух, и чистое небо не могут вывести из тупика поиски абсурдистов, ибо эти поиски никуда не ведут, так как никаких осознанных задач абсурдисты не ставят.
Опыт создания «хэппенингов», в том числе и поставленных
Ab=surdus (лат.) — нелепый, неблагозвучный, неприятный, бездарный. 2 Цит. по кн.: Кукаркин А. В. Буржуазное общество и культура, с. 402.
228
под открытым небом,— убийственная картина, говорящая о полном тупике, в котором оказался этот жанр.
В разные годы выдающиеся мастера режиссуры стремились из театра на площадь для того, чтобы иметь возможность обращаться к народу «во весь голос», поднимая высокие общественные проблемы. Капров же устремился под открытое небо для того, чтобы копаться в грязной мусорной куче. Какая же цена этому «искусству», которое само выгоняет себя на городскую свалку?
Существование подобных «действ» не характерно для театра под открытым небом, отличающегося демократическими тенденциями, стремлением к человеческой солидарности, идейной направленностью и яркой динамичностью — качествами, истоки которых лежат в народных празднествах, фольклорных обрядах, играх и игрищах далекой древности.
Действенное, игровое начало всегда жило в народных празднествах. Это та живая нить преемственности фольклорного творчества, которая идет от Великих и Малых (или Сельских) Дионисий Древней Эллады, от карнавальных празднеств Возрождения, масленичных игр, русских народных гуляний, скоморошьих игрищ и глумов и т. д.
Игровая природа народных праздников сохранилась и по сей день. Фольклорная основа, связь с национальной культурой — краеугольные камни современного народного празднества. Достаточно напомнить, что в массовом зрелище на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Лужниках, посвященном открытию XXII Олимпийских игр, драматургической кульминацией стала хореографическая композиция, где участвовали многочисленные фольклорные коллективы из пятнадцати республик страны.
Многие народные праздники, существующие сегодня у нас в стране, берут свое начало в фольклорных источниках: и весенний праздник первой борозды, и осенний праздник урожая, и татарский сабантуй, якутский ысыах, и праздник «Русская зима», и многотысячные песенные праздники Прибалтики, среднеазиатские народные празднества, где бережно сохраняются старинные конные игры, скачки, национальная борьба, и многие другие. Эти примеры можно продолжить, ибо множество примеров, подтверждающих, что народные праздничные массовые действа в лучших своих проявлениях сегодня успешно развиваются, постоянно пополняясь новыми жанровыми разновидностями, отражающими современное содержание, сочетая современность с традициями национальной культуры народов.
Праздничное цветение массовых народных действ в нашей стране — самое яркое и убедительное тому подтверждение.
Отличительной особенностью жанра массовых праздничных действ в Советском Союзе является их многонациональный характер. Во всех наших республиках, и союзных, и автономных, сегодня успешно развивается жанр массовых праздничных действ, и каждая республика вносит в эти народные празднества свой неповторимый колорит, обусловленный самобытными особенностями национального фольклора.
229
■ ^^Н^
 Бурное
развитие национальных культур в нашей
социалистической
действительности шло на основе
фольклорного пласта, бережно сохраненного
народом и донесенного из глубин далекого
прошлого до
наших дней. Это своеобразие динамики
национального искусства
нашло свое отражение и в массовых
празднествах.
Бурное
развитие национальных культур в нашей
социалистической
действительности шло на основе
фольклорного пласта, бережно сохраненного
народом и донесенного из глубин далекого
прошлого до
наших дней. Это своеобразие динамики
национального искусства
нашло свое отражение и в массовых
празднествах.
В современных массовых действах, постоянно проводящихся в нашей стране, родился органический сплав глубоко идейного, самого сегодняшнего содержания, самых насущных проблем мира, страны, народа с традиционными формами песенного, танцевального, обрядово-игрового национального фольклора, несущего в себе драгоценные черты многовековой культуры. Поэтому жанр массового действа — постоянно обновляющаяся динамическая форма образного воплощения устремлений и чаяний народных, его надежд и свершений — стал поистине сильным средством эмоциональной пропаганды, выполняющим высокую миссию воспитания народа.
Потребность в массовых праздничных действах все возрастает и имеет тенденцию дальнейшего роста.
Народные празднества стали важным фактором общественной жизни и во всех социалистических странах. Своеобразными народными действиями-спектаклями под открытым небом являются и обрядовые праздники, связанные с фольклорными традициями, истоки которых лежат в глубокой древности. В странах социалистического содружества они пользуются поддержкой государства и успешно развиваются наряду с современными политическими празднествами, наполняясь новым содержанием, сохраняя при этом традиционный национальный колорит.
Есть определенная закономерность в том, что люди стремятся праздновать не в тесных закрытых помещениях, а на вольном воздухе, под открытым небом. Тогда свидетелем народной радости становится как бы весь мир. Художников всегда властно звала возможность обращаться к миллионам людей. Их волновали грандиозные образы великих мировых столкновений страстей и судеб, проблемы человеческого общества и человеческой солидарности. Все эти глобальные темы, которым необходимо обобщенное образно-символическое решение, требовали новой выразительной силы, новых выразительных средств.
Народность и агитационную силу искусства художники не случайно связывали с выходом театрального действия за пределы театральной коробки: они мечтали разрушить вековой водораздел «актеры — зрители» и в стремлении максимально демократизировать зрелище, приблизив его к площади, к улице, хотели вовлечь в действие зрителя, сделать его непосредственным участником происходящего, добиваясь этим наибольшего эмоционального воздействия.
Но наверное, так бы и осталось мечтой мастеров режиссуры стремление к площадному народному театру, если бы не был он вызван к жизни великой революционной бурей. Октябрьской революции обязан свом' рождением в нашей стране политический
230
агиттеатр под открытым небом, театр народных масс. Там, на площадях Петрограда, где совсем недавно прогремели революционные битвы, зачиналась славная история советского театра. И первое слово суждено было сказать массовому народно-героическому театру.
Театр народных масс, рожденный Октябрем, быстро завоевал свое место в ряду других жанров. Мы можем говорить о том, что в первые годы после Октябрьской революции был создан агитационный массовый политический театр, служащий выражением идеологии пролетариата, поставивший свое молодое искусство на службу Революции, театр, который привлек десятки, сотни тысяч рабочих, большие массы комсомольской молодежи, театр, пропагандирующий новое, массовое искусство, основанное на революционной идеологии, искусство, проводящее идеи Коммунистической партии.
Дух высокой патетики пронизал жанр массовых празднеств и зрелищ, ибо в спектаклях агиттеатра под открытым небом всегда шел разговор о грандиозных событиях, о судьбах мира, о великих свершениях народа. Массовые народно-героические действа были наполнены подлинным революционным пафосом, этим, по меткому определению С. Эйзенштейна, наивысшим доступным нам эмоциональным ощущением.
В молодом советском искусстве патетика, пафос стали определяющим фактором новой эстетики. И героями произведений стали теперь сами народные массы.
Первый опыт создания коллективного героя — «нечистые» в «Мистерии-буфф» В. Маяковского — был подхвачен создателями народно-героических действ, творчески развит и привел к тысячным массам трудящихся — участникам агиттеатра под открытым небом.
.А. В. Луначарский говорил, что «пролетарско-революционному театру больше всего свойственно тяготеть не к индивидуальному, но к коллективному герою и разрабатывать коллективную психику и динамику массового действия, а для этого самая подходящая, и принципиально и технически, арена — не закрытый театр, но простор площади и поля под открытым небом»1.
В этих массовых народно-героических зрелищах с их эпической силой и масштабностью было найдено образное художественное воплощение органического слияния великих революционных идей с силой, правдой и оптимистическим мироощущением народа, проявившихся в огромной энергии борьбы и в пафосе созидания.
Эти черты народного характера, так отчетливо выявившиеся в революционную эпоху, были талантливо уловлены зачинателями жанра в Советской России. Массовый агиттеатр стремительно развивался, рождая свои особые эстетические критерии. И впервые в истории зрелищных искусств главным героем действ стал народ.
Сознание планетарности происходящих событий, их космический
Луначарский А. В. О театре и драматургии, т. 1, с. 760.
231
1
 размах
явились предпосылкой поисков
монументальных форм патетического
искусства. Художникам виделись огромные
перспективы будущего, небывалые
контуры новой жизни: грядущая всемирная
Революция, общечеловеческое Братство,
Борьба Масс, Класс,
Общество.
размах
явились предпосылкой поисков
монументальных форм патетического
искусства. Художникам виделись огромные
перспективы будущего, небывалые
контуры новой жизни: грядущая всемирная
Революция, общечеловеческое Братство,
Борьба Масс, Класс,
Общество.
Такими категориями оперировала революционная эпоха. И имен-■ но дух этой эпохи, стремящейся к обновлению жизни, пытались отобразить в своем творчестве художники молодой Советской России. Революция дала художникам могучие крылья, и они, воспарив на огромную, недосягаемую прежде высоту, увидели то, что ранее не было доступно их взору: страну, народ, жизнь. С этих высот нельзя было возвращаться к быту, мельчить натурализмом. Эти высоты звали к величавому эпосу.
Эстетику массового агитационного театра определили факторы, берущие начало в фольклорном творчестве — площадном народном театре и древнерусской литературе. Эпичность, монументальная героика шла от русского литературного эпоса, комедийно-сатирическая линия восходила к площадному ярмарочному зрелищу.
Народные театрализованные праздничные действа воспринимались как своеобразное кредо нового, революционного искусства. На шумных, многолюдных площадях и улицах Красного Петрограда, в торжественных праздничных действах массового агит-театра закладывался фундамент советского театра, рожденного Великим Октябрем.
Театр народных масс
При создании первых монументальных массовых спектаклей народного агитационного театра, в поисках специфических жанровых возможностей совершенствовались образность и своеобразие языка. В незабываемых спектаклях того времени нашла свое воплощение молодость Революции. Поэтический образ ее и великая героическая борьба рабоче-крестьянских масс с угнетателями были воплощены в образе эпического размаха и монументальной масштабности.
Все это было обусловлено тем, что главным содержанием и основной темой стала Великая Октябрьская социалистическая революция, вызвавшая к жизни не только самое рождение жанра, но и определившая его идейную сущность, стилистику, выразительные средства на долгие годы.
Массовые действа были заряжены живительной энергией патриотизма, давшего людям мужество и силу в трудных условиях гражданской войны, блокады, разрухи и голода. Они несли многотысячному зрителю поэтический образ Революции, давшей народу великую правду и справедливость.
Основы, заложенные при создании массовых действ в первые послереволюционные годы, стали традиционными на протяжении всех лет развития жанра в нашей стране. И сегодня верность идеалам Великого Октября, верность ленинским идеям, борьба и
232
победа народа, самоотверженный труд людей, строящих коммунизм,— вот идеологический фундамент, основополагающий для создания массовых праздничных действ.
Массовые празднества развивались в эпохи революционного подъема народа, с новой силой возрождались вместе с великими общественными явлениями. Именно этим обусловлен новый подъем в развитии массовых народных празднеств в наше время и в нашей стране.
Народно-героическое массовое действо, массовый политический агитационный монументальный театр — плоть от плоти генеральной линии советского театра, театра великой революционной эпохи — многозначен; его многоструктурная, многоплановая монтажная композиция всегда говорит о больших и важных проблемах мира, человечества. В нем — и ветер революции, и бодрый ритм первых пятилеток, и грозный шаг нашей победоносной Армии, освободившей Европу от коричневой чумы, и сегодняшние могучие свершения народа, и гул космической эпохи, и неукротимое дыхание близкого будущего, и само будущее, властно врывающееся в сегодняшние трудовые будни нашей страны.
Героическая эпоха должна воплощаться в формах эпической монументальной героики. Массовое действо наполнено масштабными сценами, полными осознанного политического и общественного темперамента, оно не терпит компромиссов и полутонов и должно быть ясным и точным как по мысли, так и ло образному эмоциональному воплощению.
Только с самых высоких идейных позиций художник может обращаться к народу, всем своим творчеством утверждая великие идеи, зовущие народ к новым свершениям.
Возраст массовых празднеств и зрелищ как самостоятельной разновидности театрального действа так велик, что значительно превышает возраст театра Древней Эллады.
Современное искусство синтезирует многовековые искания в области художественной жизни человеческого духа, находя им свое толкование и выбирая то, что сегодня наиболее полно отвечает политическим и общественным запросам.
Но всегда, во все времена, был и остается непреложным закон создания массового действа: оно должно быть народным празднеством, демократичным по своей сути, созданным для самых широких народных масс.
Этот закон действовал и в Великих Дионисиях Древней Эллады. Он торжественно и громогласно утверждался в народных празднествах Великой французской революции и с новой силой возродился в народно-героических представлениях массового политического агиттеатра Красного Петрограда.
Сегодня, когда мы являемся свидетелями нового возрождения самобытной формы народных празднеств, мы ощущаем еще большую жизненность этого закона: массовое действо и народное празднество—понятия идентичные.
«Народ — не только сила, создающая все материальные ценно-
233
 сти,—
писал М. Горький,— он — единственный и
неиссякаемый источник
ценностей духовных, первый по времени,
красоте и гениальности
творчества философ и поэт, создавший
все великие поэмы, все
трагедии земли и величайшую из них —
историю всемирной культуры»1.
сти,—
писал М. Горький,— он — единственный и
неиссякаемый источник
ценностей духовных, первый по времени,
красоте и гениальности
творчества философ и поэт, создавший
все великие поэмы, все
трагедии земли и величайшую из них —
историю всемирной культуры»1.
И если мы, авторы и режиссеры, создатели массовых народных действ, всегда будем ощущать свое кровное родство с народом-творцом, знать, что мы создаём для народа, тогда жанр будет развиваться в верном направлении, будет служить великому делу — коммунистическому воспитанию народа, способствовать неуклонному росту его духовной культуры.
Сегодня театр плодотворно использует области смежных искусств — поэзию, прозу, киноискусство. Процесс, аналогичный этому, происходит и в жанре массовых действ. Массовое действо все больше и больше удаляется от традиционных форм. И в этом «атомном реакторе», где переплавляются старые формы и входят в соединение с новыми, образуя качественно иной художественный сплав, режиссеру-драматургу уготовано одно из первых мест.
Никогда еще на протяжении всей его истории не приобретал этот жанр такого размаха, как в наши дни. Советский народ, строящий коммунизм, озарен великими идеями, высокими социальными и общественными идеалами. Это наполняет нашу жизнь тем жизнеутверждающим оптимизмом, той бодростью, радостью, которые характерны именно для советских людей как результат нашей жизни, наших общественных взаимоотношений.
Эта «тональность» и является фундаментом, на котором рождаются массовые празднества и зрелища, ибо этот жанр всегда был ярким отражением социальных и общественных процессов.
Сегодня мы можем с полным основанием утверждать, что массовые празднества и зрелища стали в последние годы поистине всенародными, охватывают самые глубинные народные массы. Изучая сегодня проблемы жанра, еще и еще раз убеждаешься, что массовые празднества, где сам народ является их сотворцом, становятся самовыявлением народа, убедительной демонстрацией его сплоченности и единения.
Режиссеры массовых праздничных действ — наследники славных традиций народного агитационного театра. Массовое действо и сегодня современный политический агиттеатр, боевой, острый, обращающийся непосредственно к массам, говорящий им о проблемах мира, народа, жизни человечества.
И сегодня массовые праздничные действа — сильнейшее оружие идеологической борьбы.
Мы должны учитывать эту особенность жанра и, развивая и углубляя его, помнить, что в нем заключена большая сила эмоционального воздействия на народные массы. Сегодня мы уже
Горький М. О литературе. М., 1980, с. 49.
234
можем говорить об огромном многообразии разновидностей жанра. Одни родились в наше время, а иные, придя из других эпох, видоизменились, приобретя новую силу и убедительность благодаря творческому развитию традиционных форм народного массового праздника.
Театрализованный концерт, концерт-митинг, массовое гулянье, театрализованное шествие, праздничные действа на улицах, площадях, в парках, спортивные праздники на стадионах, декады и Дни национального искусства, фестивали искусств, концерт-реквием, праздники песни, праздники танца, карнавалы, театрализованные зрелища во Дворцах спорта, праздники на воде, театральные спектакли на открытом воздухе, праздники улиц, спартакиады, детские театрализованные праздники (на театрально-концертных площадках, на стадионах) — вот далеко не полный перечень разновидностей жанра, ставшего сегодня неотъемлемым компонентом общественной жизни нашего народа.
Мы должны знать многообразие массовых народных действ, их возможности, наиболее действенные формы и использовать их как средства пропаганды. Необходимо полностью поставить жанр на службу нашим идеям, чтобы превратить его в активного помощника в деле воспитания народа. В этом — главная задача:
