
- •Текст взят с психологического сайта http://www.Myword.Ru
- •Isbn 5-201-02212-х
- •Isbn 5-201-02212-х
- •1 Работа вьшолнена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного научного фонда (код проекта 94-06-19751)
- •1 В исследовании r е Харламенковой 7] раскрыты именно личностные стили целеполагания
- •II "Российская история" -
- •6/ Наиважнейший временной период. Испытуемому предлагалось уточнить, какой период в его жизни был наиболее важным для становления его личности (детские, школьные, юношеские, зрелые годы);
- •Текст взят с психологического сайта http://www.Myword.Ru
1 Работа вьшолнена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного научного фонда (код проекта 94-06-19751)
постоянных и существенных. А потому мы, и как политический оога-низм всегда верили в нравственность вечную, а не условную на несколько дней." 4. с. 80]
Любое политическое, общественное действие должно быть облегчено общечеловеческой, нравственной идеей. В общественном сознании значение социальных отношении, их роль в развитии общества всегда рассматривалась через призму определяющей философской идеи, жоторая играла аккумулирующую, регулирующую роль Под флагом определенной идеи в России объединялись разные социальные группы, тогда как в Европе каждое социальное сословие имело свою идеологию. Идеология в России никогда не имела границ.
Идеологизация русского общества началась гораздо раньше, чем победил марксизм и социализм. Идеология опиралась на имманентную потребность русского общественного сознания в объединяющей идее. Начиная от идей спасения России, до ее мессианской роли в мире, кончая идеями народничества и коммунизма - самые разные идеи витали в русском сознании на протяжении всего 19 века. Поэтому говорить об идеологизации русского общества именно после октябрьской революции не совсем верно. Просто данная идеология легла на благоприятную почву. Идеологии буржуазного общества, за исключением Германии, всегда несли в себе значительную долю рациональности, поэтому они достаточно гибко и дифференцированно вписывались в социальную жизнь. Идеи, возникающие на российской почве, всегда были замешаны на вере и психологии, будь то вера в Христа, поиск вечной справедливости или коммунизма. Именно в силу этой последней особенности вырабатывались некие формулы, направляющие общественное сознание и. в конечном итоге, начавшие им управлять (во времена Александра I формула "православие, самодержавие и народничество" служила прекрасным цементом общества, питая веру в "батюшку царя").
Проникновение марксизма было обусловлено идеализмом российского общественного сознания, стремлением к идеалу, утопизмом, приматом веры над здравым смыслом и рационализмом. Именно в силу этого тоталитарной власти в течение десятков лет удавалось поддержать веру в абстрактный идеал коммунизма, несмотря на все большую очевидность его вопиющего противоречия с реальность».
Естественно, что сложность и глубина российских философских идей, были ли они идеями славянофилов или западников, блестящий уровень культуры российских мыслителей уступили место общедоступной идеологии в период превращения марксизма в советскую идеологии. Ленин, в частности, сделал все, чтобы идеи революции, кото-
6
рые в устах Плеханова, Троцкого, Бухарина имели философскую форму и культурные основания, превратились в лозунги на заборах. Идеология образовала некоторый синкрет науки, веры и политических лозунгов, тогда как сама политика не имела ничего общего с мифами, содержавшимися в формулах и лозунгах.
Лозунги насилия и уничтожения буржуазии постепенно сдвинулись с негативной на как бы позитивнун тональность, хотя идея коммунистического будущего всегда сочеталась с практикой уничтожения его врагов. Если в дореволюционном обществе творцом и носителем идей была русская интеллигенция, то в социалистическом, благодаря классовому подходу утвердились приоритеты рабочего класса и крестьянства в ущерб интеллигенции. Но парадоксальным образом идеология выполнила интегрирующую общество роль, оказалась универсальным средством. Впоследствии, когда интеллигенции в какой-то мере удалось укрепить свою социальную позицию за счет культурной функции, идеологические лозунги перекочевали с заборов на экраны телевизоров и страницы романов. Идеология проникала в психологию, поскольку каждый лозунг имел свой психологический не только массовый, но и индивидуальный стел.
Здесь обнаруживается существэнное уже с научно-психологической точки зрения различие между сознанием и мышлением. Идеологические лозунги имели ценностный смысл для индивидуального сознания, но отнюдь не требовали мышления, размышления, осмысления происходящего. Именно поэтому советской идеологией была решена казалось бы фантастическая задача - грань между идеалом и реальностью была минимизирована, был уничтожен принцип реальности, свойственный всякому научному, критическому рациональному мышлению взрослого человека, отличному от условного мышления ребенка и подростка. Коммунизм вытравил из российского сознания религиозность, воспитаннув веками христианства, потому что сам стал своеобразной религией, предполагающей надличкае, способ жизни, подчиняющийся высшим принципам. На этой основе бала решена другая кажущаяся на Западе недостижимой задача - социализм реализовал принцип добровольного принуждения к труду, что выразилось, как известно, в массовых трудовых подвигах, трудовом энтузиазме. Это было, несомненно, уникальное социальное достижение-Вопрос о том, насколько российская вера в идеал была органична или сопровождалось ложью, является очень сложным. На наш взгляд, появились особые неосознаваемые формы неправды и лжи в самой индивидуальной психологии (кроме сознательной политической лжи), связанные с желанием верить неправде, а не просто сознательно лгать.
7
Однако мало кто из критиков и аналитиков социализма, которые чаще всего ограничивались едкими, но частными суждениями, обратил внимание на то. что советская идеология переродилась до "перестройки". Это произошло в период "застоя", роста бюрократизации и расцвета мещанства. Советское мещанство с его обыденно-приземленным сознанием было далеко от идеализма, на почве которого выращ-валась идеология коммунизма.
Расцвет мещанской идеологии шел множество корней, анализ которых выходит за пределы наших задач, но его основным принципом стало достижение благополучия индивидуальным путем, обращение формулы социализма, гласящей1 "все на благо общества" в формулу: "использовать общественные блага в свою пользу". Это социально-психологическое явление, в частности проявилось в карьеризме, в принципе "ты - мне, я - тебе". Это не было, на наш взгляд, началом индивидуализма, но подрывом коллективизма, питаемого идеологией, идеализмом и подстегиваемого "режимом".
И тем не менее несмотря на возросшую прагматичность индивидуального сознания, все же в нем сохранялась многолетняя привычка к готовым идеологическим формулам. И когда, провозглашая демократию, попытались такой формулой осуществить ту привычную Функцию, можно предполагать, что только в момент острых социальных событий у Белого Дома, она - эта новая формула, и то у немногих, вызвала прежние, связанные с возрождением идеала переживания. Но распад прежних социальных связей, подлинно или псевдо-коллектавных, атомизация общества, состоящая в предоставлении каждого самому себе как в деле политического выбора, так и в деле выживания, и продолжающийся в обновленных формах расцвет мещанства, потребительства, теневой спекулятивной активности {под флагом 1 экономической активности и возрождения), все эти причины посте-I пенно заблокировали восприятие этой формула. Для большинства она устала терять свой психологический смысл, который имели, несмотря на их мифичность и утопичность, прежние идеологические формулы. Российское сознание, воспитанное на лозунгах, привыкло к создаваемой ими социальной определенносгш. более того, к категорическим определениям, какой на дворе этап социализма и в каком году начнется торжество коммунизма.
Привычка к монологизму не могла в одночасье перерасти в готовность к восприятию плюрализма, альтернативности. Социальное мышление было не развито, сознание ограничивалось восприятием. Даже наличие "двойной арифметики" - как надо и как есть на самом деле - при социализме не воспитало способности видеть и решать противоречия, ставить проблемы
8
В условиях крушения прежней идеологии основным оказалось не упразднение марксизма (который, кстати, также как вся система был упразднен и очень легко), а образовавшийся вакуум в идеологизированном, оозпашш. Именно в силу этого на социальную поверхность начали выплывать клише, создаваемые случайными людьми, носящие случайный и нелепый смысл, типа "вымыть ноги в Карибском море". Выплыла "пена" низкопробного сленга мещанства. Образовался разрыв между уровнем сложных, иногда более иногда менее глубоко, но научно обоснованных социальных программ и транслируемых по телевидению сюжетов господина Мавроди или новоявленных невежественных политиков.
В период тоталитаризма в России политика "съела" культуру, когда интеллигенция решила добровольно и самоотверженно служить политическим целям. В настоящее время при наличии массовых университетов, колледжей и лицеев, провозглашающих ценность (доро-гостоимость) образования, на фоне лозунгов о профессионализме и компетентности, наука и искусство, более не финансируемые обществом, не могут содействовать если не созданию новой, то хотя бы восстановлению старой дореволюционной идеологии.
Чем же замещено место идеологии? Мы склонны утверждать, что психологией. Проивошедшая экономическая дифференциация общества уже без всяких идеологических присказок упразднила возможность общей идеи, порождающей сходные смыслы у разных людей. Для многих все происходящее стало бессмысленным и совершенно непонятным. На этом фоне на смену идеологизированного, почти от века идеалистического мировоззрения пришла психология.
Крупнейший социальный психолог, не только Франции и Европе, но и мира, С.Московичи считает, что психология всегда занимала ведущее место в системе всех социальных отношений - экономических, политических, правовых, что она есть их аккумулированное выражение 9]. Тезис, что это так всегда - во всех обществах и на любых этапах их развития - нуждается в более развернутом обосновании. Но мы считаем, что сегодня это положение справедливо для России, и лидирование психологии пришло на смену предшествующему этапу лидирования идеологии.
Распад социальных отношений привел к атомизации общества, доведенной до его первичной единицы - индивидуума. Но именно потому, что единицами стали не характерные для социалистического строя общности - производственные, научные коллективы, психология стала ведущей, (поскольку ее первичной основой является именно отдельный индивид, личность). Личности, оказалось, предоставлена. сказать свое "слово", решая задачу выживания или безмерного обо-
гащения. Личности предоставлено сыграть свою роль, но не в обществе, как считалось в марксизме, не в истории, а в пьесе без сюжета и в социальной ситуации полной неопределенности: в игре без правил.
Несколько лет назад мы обратились к исследованию сознания личности, очень мало изученного именно в этом качестве, и поставили сложнейшую задачу - рассматривать сознание как психосоциальное явление, как явление исторической психологии: изучить сознание и психологию, сложившуюся как результат и одновременно регулятор реального способа жизни, найденного личностью в данной совокупности социальных условий и обстоятельств.
Для исследования состояния реального сознания прежде всего необходим типологический подход. Поскольку разнообразны способы жизни личностей, вырабатываемые ими при одних и тех же (в целом) социальных условиях и дифференцированных социальных обстоятельствах, разнообразны и типы их сознания. Нами были разработаны основные определения специфики индивидуального сознания, одновременно и как общественного и как личностного образования, проведена дифференциация его качеств как процесса, способности, состояния и образования, выявлена связь сознания и социального мышления как его механизма и определены основные операции последнего 11.2].
После такой предварительной теоретической работы, которая скорее ориентировала последующие эмпирические исследования, чем претендовала на роль законченной теории, мы приступили к кросс-культурным исследованиям.
Если в социальном мышлении мы выделили несколько основных процедур: представления (репрезентации), интерпретации, проблематизации и категоризации, то в качестве предмета кросскультурных, сравнительных исследований мы избрали в основном социальные представления (хотя отдельные эмпирические исследования были посвящены интерпретации и проблематизации) 3; 10].
Почему мы выбрали для кросскультурного исследования социальные представления? Во-первых, именно в них мы видим специфику российской ментальности, которая всэгда была страной, где преобладали идеи и представления, т.е. они имманентны российскому сознанию. Этот выбор предмета исследования, во-вторых, обеспечил возможность научного сотрудничества с С.Московичи, считающим представления ведущей и единственной характеристикой и общественного, и индивидуального сознания. А наличие сотрудничества позво-опереться и на широко признанные положения концепции С.Мос-
лило
ковичи, и на многолетнюю эмпирическую операционализацию его кон-
10
цепции, на годами отработанные и в этом смысле сверхнадежные методы исследования социальных представлений 12. 131. (Московичи, по-видимому, считал, что именно Россия является самым подходящим полем для исследования социальных представлений.
Концепция Московичи была использована нами не только в силу авторитетности ее автора, но потому, что она оказалась очень практична, конструктивна для исследования столь сложного, противоречивого объекта - реальности соодальных представлений. Поэтому сегодня, подведя итоги лишь одного этапа кросскультурных сравнений, мы можем осветить две основных проблемы.; первую - как мы Использовали эту теорию, выросшую на другой социальной почве, в голове ученого, обладающего другим способом мышления, т.е. какова была стратегия адаптации этой теории и стратегии самого исследования, и вторую - что, благодаря ей или в дискуссии с ней, удалось увидеть в реальности самой российской иентальности.
Перед нами стояло два основных теоретических вопроса. Первый: что составляет специфику российского менталитета как целого и какой стратегией можно вдавить ее специфику; второй (поставленный сравнительно недавно); как изменилось состояние российской ментальности в период резких социальных изменений. В начале статьи мы попытались ответить на последний вопрос теоретически. Но для доказательного ответа нужно было бы иметь лонгитвд, т.е. эмпирически сравнить состояние сознания до и после прошедших социальных изменений. Такого лонгитюда мы не имели. Но из проведенного выше теоретического анализа очевидно, что он и не мог быть проведен, потому что нельзя было бы сравнить общество, где лидировала идеология, с обществом, где ведущая роль принадлежит уже психологии, а сравнивать прежнюю психологию с современной в этой логике было бы не корректно.
Россия представляет собой сегодня совершенно уникальный пример социальных изменений, во-первых, по их радикальности, во-вторых, по их скорости. По гипотезе Дж.К.Абрика, представления связаны в систему настолько, что с изменением только одного представления или понятия меняется вся система Ш]. Мы не имели возможности проверить гипотезу Абрика, поскольку у нас не было лон-гитада и характеристики прежней целостной системы российских представлений. Но для нас важно то, что в концепции Московичи взаимосвязаны два основных вопроса - о целостности менталитета и о его изменчивости. Мы солидарны с его основными принципами: менталитет того или иного общества нельзя рассматривать как высший этап развития по отношению к другим; неправомерна идея поступательности социального развития. Московичи не считает, подобно
a
Шпевглеру и некоторым российским пессимистам, что развитие цивилизации идет к своему закату, но одновременно и не утвервдает, что каждая последующая стадия является более совершенной по отношении к предыдущей 9]. Такая теоретическая позиция была важна и как основание сотрудничества, поскольку изначально отсутствовал взгляд на российскую психологию как задворки западно-европейской, проявлялся постоянный интерес к ее специфике и способам ее обнаружения.
] Отвечая на первый вопрос - о специфической целостности российского менталитета, можно сказать, что мы выявляли ее двумя ос-Imenwm путями: путем парциального исследования каждого из социальных представлений в отдельности - политических, правовых, моральных, названных нами условно коллективными (не в смысле Дюрк-гейма, а для обозначения их социальной ориентированности), а одновременно - представлений о я - self, представлений о своей ответственности, об интеллекте и т.д., которые в отличие от первых мы назвали личностно-ориентированнши. Затем из этих фрагментов мы постарались составить целое, имея в виду удельный вес каждого, способ связи некоторых представлений, т. е. выявили композицию целого. Мы отдавали себе отчет, что российский менталитет есгь некоторый гештальт, в котором исходным является целое, но разрабатывая теоретические гипотезы о характере этой целостности, мы одновременно эмпирически шли и во встречном направлении - от частей к целому, судя о нем по их композиционному расположении.
Вторым стратегическим путем выявления целостности и специфики российского менталитета был путь кросскулыщжого сравнения. При первом способе мы пытались понять загадку российской менталь-ности как бы изнутри нее самой (к тому же отдавая себе отчет, что как исследователи мы являемся одновременно и гражданами, т.е. не можем отчуждать от себя объект исследования, как бы взглянуть на него со стороны, поскольку идентичны с ним). При втором - мы путем сравнения с системами других обществ пытались раскрыть ее специфику извне. Уже четыре-пять лет мы заняты кросскультурными исследованиями: с В.Дуазом (соратником С.Московичи, швейцарским психологом) - правовых представлений, с Е.Дрозда-Сенковской (сотрудницей Московичи) - оценочных представлений и суждений больших и палых групп друг о друге в зависимости от их близости и удаленности; совместно с финскими психологами (Ю.Хяйюриненом. Х.Рату) -сравнительным изучением типов интеллектуальности (имплицитных концепций интеллекта) западно-европейских и восточно-европейских личностей, совместно а польскими исследователями (Я.Рейковски) -политических представлений.
12
Отвечая на второй, не менее сложный вопрос, как выявлять (при отсутствии лонгитюда. не зная, что было раньше) изменчивость социальных представлений, мы разработали гипотезу, что изменчивость структуры менталитета можно выявить путем сопоставления двух его уровней - общественного (как он назывался в марксизме) или коллективного (в терминологии Дюркгейма) и индивидуального. Иными словами, кроме глобальной характеристики ментальности - ее целостности, выступающей на коллективом уровне, мы выявили дифференцированные характеристики ментальности, т.е. те типы сознания, психологии, социального мышления, которые свойственны разным личностям. Сравнивая каждый тип сознания с общественным его уровнем, мы сумели ответить на вопрос, какие типы делегируют изменения или являются носителями нового, по отношению к общественному целому, сознания, а какие типы консервативны. Причем, исследуя отдельные типы, т. е. индивидуальный уровень сознания, мы уже не ограничились совокупностью социальных представлений и вообще представлениями, а выбрали и другие характеристики индивидуального сознания и социального мышления - ценности, способность к проблемному социальному мышлении и оптимизм-пессимизм.
Почему мы не ограничились лишь совокупностью социальных представлений, имея в принципе возможность сравнить социально-ориентированные и личностно-ориентированные представления? Почему мы, отвечая на вопрос об изменении российского менталитета, не пользовались кросскультурным методом? Последним было очень соблазнительно и просто воспользоваться, поскольку проект российско-французского сотрудничества звучал так: "Демократическое сознание в Западной и Восточной Европе", а так как Западная Европа является уже традиционно демократическим обществом, а Россия еще только вступает на путь демократических преобразований, то, казалось бы, изменения российского сознания можно было выявить, сравнивая с эталоном высшего уровня развития демократического сознания. Но учитывая позицию С.Московичи, не считающего, что менталитет западноевропейских стран - это высший уровень развития по отношению к российскому, мы пришли к выводу развитие демократии как социально-политический процесс (который действительно различается по уровню развития в западно- и восточноевропейских странах) нельзя смешивать с развитием сознания в условиях демократических преобразований
Отвечая же на первую часть вопроса, почему мы, исследуя индивидуальный уровень сознания, не ограничивались только социальными представлениями, можно сослаться на доклад С.Московичи, сделанный на московской конференции в мае 1996 г., в котором он убе-
13
дительно показал, чго, например, высшие логические операции не являются высшими по отношению к символическим операциям первобытного мышления. И если рассматривать их в контексте функций того и другого мышления, операции, употребляемне мышлением дикаря, при всей их кажущейся примитивности по отношению к современному мышлению, оснащенному математическим, логическим и компьютерным аппаратами и технологиями, на самом деле пропорциональны, адекватны задачам его жизни. Иными словами. С. Московичи подчеркнул именно функциональные особенности того и другого типа мышления, подтвердив тем самым гипотезу, высказанную нами ранее: социальное мышление личности можно рассматривать именно как функциональный механизм ее сознания, как его "работу", а его продуктивность или реп-родуктивность искать в постановке и в решении социальных, жизнен-а не только искусственных экспериментальных задач. Именно Поэтому мы поставили своей целью выявить три параметра образовавшая типов: проблемность, ценность и оптимизм-пессимизм. Проб-пемность понимается нами как самая основная способность социального мышления Ценности рассматриваются не только по принятому иерархическому принципу и составу (не только ценностные представления), а именно, - в соответствии с критерием изменений сознания стремились выявить: старые или новые ценности доминируют в дознании каждого типа; если в нем педставлены только новые или только старые ценности, указать на "гармоничный" характер созна-а если в нем присутствуют и те и другие - на его противоре-
шый характер. Такой подход к ценностной характеристике ищдави-ального сознания мы также считали функциональным: естественно, что лица со старыми ценностями обладают иными социальными возможностями в обществе с новыми ценностями, в сравнении с лицами, новые ценности которых соответствуют ценностям общества. И, наконец, выявляя противоречивый или непротиворечивый характер индивидуального сознания у разных типов, мы исходили отнюдь не из априорной установки, что наличие противоречий в сознании есть факт негативный, блокирующий его активность, а наоборот, из того, что
эотиворечия, представленные в сознании, активизируют его проблемность Более оптимальные функциональные возможности сознания менее оптимальные (ограниченные) мы устанавливали на пересечении с первой его характеристикой - проблемностью социального пения. Т.е. каждая из трех характеристик - ценностная, проблемная и оптимизм-пессимизм диагносцировалась нами, по совету j.Московичи, на их "пересечении" друг с другом.
Почему в число трех диагносцируемых характеристик был вклю-№ен оптимизм-пессимизм, казалось бы, к характеристике самого саз-
14
нанйя не относящийся? Во-первых, потому, что оптимизм-пессимизм, является общей характеристикой активности личности, которая, в свою очередь, содействует или препятствует активности мышления. Во-вторых, мы опирались на исследования оптимизма-пессимизма За леским и Ленцем, выявлявших путем кросскультурного сравнения спи-сок наиболее сложных мировых социальных проблем (например, нукле-арной катастрофы, здоровья, спида и т.д.) и получивших различил оптимизма-пессимизма по ответам респовдентов о возможности-невоз-можности их решения (стоит заметить, что по полученным ими данным, Украина не занимает самого первого места по пессимизму, уступая его такой стране как Румыния, несмотря на Чернобыльскую катастрофу) 141. Иными словами, авторы максимально сблизили шргж-териешки оптшзж-пессшазж именно с социальными, проблемами и возможностью-невозможностью ш решения, что и отвечало общему принципу их взаимной пересекаемости.
Своеобразие российского менталитета мы исследовали, опираясь и на западную (эмигрантскую) публицистику, претендующую чаще всего с критических позиций выявить особенности социалистического образа жизни и сознания (в частности, издаваемый Т.Розановой журнал "Синтаксис", газету "Русская мысль", издаваемую в Париже и другие источники). Для нас были крайне важны результаты социологических отечественных исследований, прежде всего Н.И.Лапина, проведшего очень тонкий и глубокий ловгитюд изменения российских ценностей методами, близкими к семантическому дифференциалу в психологии, и более оригинальными, обеспечившими ему - в отличие от обычных опросов общественного мнения, картину глубинной архитектоники российского ценностного сознания, его "гештальтов" в каждый изучаемый период 8], а также на исследования В.Ф.Петренко, изучавшего методом семантического дифференциала политическое сознание. Но основой явились оригинальные исследования, проведенные в лаборатории психологии личности за последние пять лет. В их числе были исследования, не входившие по своему замыслу в данный проект, осуществленные независимо от него - это прежде всего теоретико-эмпирические исследования А.В.Ьрушлинского совместно с В.А.Поликарповым - мышления в диалоге, совместно с Л.В.Темновой решения моральных задач, совместно с М.И. Воловиковой - морального мышления, продолженное впоследствии О.П.Николаевой, исследовавшей соотношения правового и морального сознания по методике Тапп, наконец, оригинальное теоретико-эмпирические исследования российской ментальности в когнитивно-нравственно-правовом аспекте В.В.Знаковым 6]. В комплекс исследований, проведенных данным авторским коллективом, вошли работы Г.Э. Белицкой, впервые исследо-
15
ваБшей проблематизацив как процедуру социального мышления и затем, на основе разработанного ею оригинального метода ПСМ и польского опросника (ориентированного на исследование ценностных критериев и позиций в период выборов в Польше), проведшей (совместно с о П. Николаевой) исследование политических представлений в период выборов в Думу в 1993 г,, диссертации А.Н.Славской, впервые исследовавшей интерпретацию как процедуру социального мышления, как его наиболее оперативную функцию, В.Ф.Серенковой, изучившей проективно-временные особенности индивидуального сознания и возможности-ограничения в способности личности к планированию времени, диссертации С.В.Григорьева, впервые этнопсихологическими методами исследовавшего специфику и типологии представлений личности о своей жизни в ее свободно-игровых проявлениях {и так называемые игры сознания). Н.Л.Смирновой, выявившей имплицитные представления об интеллекте, интеллектуальности и интеллектуальной личности (умном человеке) в разных культурах, у разных возрастных поколений и полов, а также пилотажные исследования представлений "Я" в связи с ответственностью и многие другие.
Теоретические и эмпирические результаты нашей работы мы по-•ались представить на двух основных схемах, каждая из которых ,ет обобщенный ответ на два основных, поставленных выше вопроса-,ова специфика российской ментальности и в чем заключаются ее мнения в период резких социальных изменений.
Каждая из схем является одновременно и своеобразной интерпретацией результатов, подробное и фактологическое изложение которых в полном объеме невозможно в пределах одной статьи
На схеме 1 представлено условное графическое изображение своеобразного гештальта" российского менталитета в виде окружности. Она имеет две полусферы. В верхней в основном отражена результаты исследований социальных представлений, которые, как говорилось, изучались изолированно друг от друга разными исследователями Таким образом - верхняя полусфера - это мысль , сознание или ментальность в виде совокупности различных представлений -политических, правовых, моральных и т.д.. Нижняя полусфера отражает попытку (в основном пока теоретическую) показать мысль в действии, т.е. согласно концепции Московичи - функциональные, жизненные, социальные, как иногда говорится о технических системах, "разрешающие'' зозмотост сознания и мышления. В левой части нижней полусферы представлена способность личности к адаптации. ниже - к идентификации. В самом центре нижней части представлены некоторые социально-психологические характеристики, касающиеся соотношений: я-другой, мы-группа, которые конкретизированы в по-
Схема 1.
Социальные представления. Российский менталитет.
Я - общество
/потребность оценивать \
/ доверие- / недоверие
я-другой-мы-группа

социальной
n
нятиях, явившихся результатом исследований- доверие-недоверие, потребность оценивать других, проявившаяся в социальном сравнении. В правой части нижней полусферы расположены активность (поведение), удовлетворенность-неудовлетворенность (оптимизм-пессимизм) как активационные резервы или возможности-ограничения личности, и, наконец, как это ни парадоксально, способность решать проблемы вынесена в число (сферу) функционально-действенных механизмов сознания. В целом можно сказать, что в нижней полусфере представлены некоторые из регуляторкых механизмов российского менталитета. (В верхней полусфере остались не исследованными экономические представления, которые, несомненно, могут сильно изменить всю трактовку гештальта российской ментальности. В число ре-гуляторных механизмов также не включены такие как мотивационный и др.). Поэтому данную схему следует рассматривать как промежуточный этап обобщения результатов работы, необходимый для ее последующего углубления - во-первых и во-вторых, скорее как стратегию изучения и интерпретации целого, чем как реальность российской мэнтальности.
Первой характеристикой менталитета оказалось преобладание трального сознания - моральных представлений над политическими и правовыми (но пока нельзя сказать, что и над экономическими), это не представление о добре и зле, как это принято обычно считать, даже не представление о справедливости, а прежде всего чувство ответственности и совести Моральные представления имеют больший удельный вес, более развиты и входят составляющими и в политические, и в правовые. Последние, напротив, не развиты и компенсируются моральными отношениями, которые устанавливаются на уровне непосредственного взаимодействия людей. Например, в Европе можно заниматься совместной, скажем, исследовательской деятельностью с человеком, который не нравится, не симпатичен. В России для успеха такой деятельности люди должны вступить в личные, доверительные отношения, поскольку нет четких профессиональных правил и критериев. В России оказался не выработан опыт социального взаимодействия, основанный на отвлеченной, в определенном смысле безличной обязанности каждого, поэтому успешность оказалась зависимой от "хорошего" человека и добрых отношений. Мораль носит "конвенциональный" характер, т.е. основана на некотором условном соглашении типа "ты-мне, я-гебе".
Право в России отсутствует и в юридических институтах, и в сознании личности, где как бы представлен только один аспект -требования общества, обращенные ко мне. но не мои требования прав
18
от общества1. Это, как представляется, связано с отсутствием развитого изначального чувства, присущего личности, что все в конечном итоге зависит от "я", хотя реально социально такая внутренняя независимость может быть и не обеспечена. Иными словами, подтвердилось суждение о некоторой специфичности я-концепции. которая в западно-европейском сознании связана с развитым индивидуализмом. Второй целостной характеристикой ментальное™ оказалось такое представление о селф ("я"), которое неразрывно связано с представлением, об обществе, Б западно-европейском сознании отсутствует связь паблик (общественных) и приват (личностных) представлений отсутствует, поскольку соотношение личности с обществом многократно социально институционально опосредованно. По-видимому, в нашем обществе такая связь является наследием тоталитаризма, растворявшем личность в идеологических абстракциях "народ","общество". С.Московичи высказал мысль, что такая связь существует и в сознании француза в виде чувства Родины, национальной гордости. Однако, возможно, что эта связь характерна именно для национальных представлений, но менее выражена во всех остальных. Тогда как у русских существование такой связи как основной доказывается и фактом ее наличия в разных категориях у разных типов, что было выявлено в нашем совместном с Г.Э.Белицкой исследовании: при неразрывности представлений о себе с представлением об обществе одни лица, как отмечалось, определяют себя в качестве объектов, другие - субъектов, также как и общество одни представляют в качестве объекта, другие субъекта. Иными словами, в индивидуальном сознании присутствует одновременно и глобализация - в виде представления своей связи с обществом (как гоббеовс-ким Левиафаном), и дифференциация, проявляющаяся в конкретизации своего способа связи с обществом. Мы предполагаем, что связь с обществом, как нечто подобное юнговскому архетипу, составляет пласт общественного подсознания, присутствующего в индивидуальном, а способ интерпретации этой связи есть уровень индивидуального сознания - осознанной характеристики своего "Я" в определенной диспозиции к обществу. Эти типологические представления о разном способе связи своего "Я" с обществом дифференцируют рос-
1 Б недавней публикации в газете "Русская мысль" опиенв&ется деятельность некоего лица, который создал на о Явственных началах нечто вроде юридическов консультации. в встором покогал лвдяи, запутавшимся с разрешение» своих сложных дел. отстаивать свои права. Данное Лицо удалось подвести под ложные обвинения к оно находится в розыске
19
сийскую ментальность на разные группы по специфическим именно для сознания критериям, а не по экономическим (или не только по экономическим) .
После получения этой типологии мы провели дополнительное исследование трех пересекающихся характеристик каждого типа -ценностной, социального мышления (способности к проблемности) и оптимизма-пессимизма, т. е. получили типологию, которая, имея определяющий фактор в виде субъект-объектных категорий, разделивших выборку на четыре типа, затем дополнилась другими. Общий вид этой типологии представлен на схеме 2. Основная часть этих результатов была нами описана 1, 21. Новой является шкала оптимизма-пессимизма, которая показала, что тип С-0, имея новые непротиворечивые ценности и конкретно-проблемное социальное мышление, одновременно и оптимистичен, а три остальных - в основном пессимистичны (хотя на студенческой выборке оказалась равная выраженность оптимизма и пессимизма).
Весьма важно отметить, что эта типология была результатом специального лабораторного исследования, которое раскрыло специфические связи в механизмах сознания и активности (мышления и удовлетворенности) разных типов. Эта часть работы не отличалась от традиционно психологических исследований.
Но следующим этапом явилось исследование, которое можно в полной мере назвать психосоциальным, когда по методу, разработанному В. Дуазом, мы начали искать, каким социальным группам принадлежат типы сознания, выявленные собственно лабораторным путем. В.Дуаз - сотрудник С.Московичи, разработал метод, близкий нашей прогрессивной типологии, так называемую анкеровку (что буквально переводится как якорность, а фактически по смыслу - как укорененность или "корень"). Суть его заключается в поиске тех социальных групп (профессиональных, возрастных или собственно социальных страт, слоев), которым действительно свойственны структуры сознания, обнаруженные лабораторным путем. Только после этого эти структуры ж механизмы могут быть названы психосоциальными, Анке-ровка таким образом является осноеной стратегией исследований психосоциальных явлений 51.
В качестве четырех социальных групп выступили предприниматели, интеллигенция (ученые и студенты), рабочие и пенсионеры. Самым неожиданным для нас результатом явилось то. что статистически подтвердилось наличие лабораторных характеристик определенных типов у реальных социальных групп. Причем коэффициент корреляции «ежду типом сознания и социальным слоем для первых двух групп был
Личностные типы сознания.
Психосоциальные личностные типы.
Схема 2.
Я - общество |
ценности |
проблемность соц. мышления |
оптимизм - пессимизм |
|
|||||
S-0 |
новые непротиворечивые |
конкретные проблемы - принятие решений |
оптимизм |
|
|||||
S-S |
старые - новые п ротиворечивые |
абстрактные проблемы |
пессимизм пессимизм - оптимизм |
|
|||||
0-S |
старые непротиворечивые |
конкретные проблемы в связи с деятельностью |
пессимизм |
|
|||||
0-0 |
старые - новые противоре чивые |
констатация проблемы |
пессимизм |
|
|||||
анкеровка |
|
|
|
|
выводы |
||||
социальные слои |
|
|
|
оптимизм - пессимизм |
адаптированность |
||||
предп рин и матели |
S-O |
новые |
конкретные проблемы |
оптимизм |
+ + |
||||
|
|
непротиворечивые |
- принятие решений |
|
|
||||
интеллигенция - |
S-S |
старые - новые |
абстрактные |
ученые - пессимизм, |
? |
||||
ученые - студенты |
|
противоречивые |
проблемы |
студенты - оптимизм- |
|
||||
|
|
|
|
пессимизм |
|
||||
рабочие jS |
0-S |
старые |
конкретные проблемы |
|
|
||||
|
|
н епротиво р ечивые |
в связи с |
пессимизм |
- |
||||
|
|
|
деятельностью |
|
|
||||
|
|
старые - новые |
констатация |
|
- - |
||||
s пенсионеры |
o-o |
противоречивые |
проблемы |
пессимизм |
|
||||
21
достаточно высок, чтобы говорить о прямой принадлежности кавдой из них данному типу сознания, а особенности сознания рабочих и пенсионеров были слабо выражены, слабо дифференцированы. иными словами, сознание з-го и 4-го типов - объект-субъектное и объект-объектное - не однозначно привязано к определенным социальным слоям, что требует дальнейшего исследования.
Основным результатом наших работ, таким образом, явилось эмпирическое доказательство того, что у реальных социальных групп существует тип сознания по комплексу четырех параметров - представлению о связи я-общество, способности к проблематизации, ценностям и оптимизму-пессимизму.
Остановимся на интерпретации некоторых типов.
Субъект-объектное сознание присуще предпринимателям, хотя ранее мы отмечали, что, по-видимому, такого типа сознание могло быть свойственно и русским мессионерам, пытавшимся спасти Родину, и дессидентам, в силу чего необходимо искать и другие характеристики типа. Они имеют новые и потому непротиворечивые ценности, проблемное мышление, привязанное к их профессиональной деятельности 0-в основном - оптимистическую перспективу.
Субъект-субъектное сознание присуще интеллигенции - ученым и студентам (несмотря на различия возраста и профессионального статуса этих групп) По характеру ценностей их сознание противоречиво, а мышление обладает способностью решения абстрактных (со критериям Г. Э. Белицкой), но не конкретно социальных проблем (разумеется, это не относится к социологам и юристам). Студенты дифференцируются от ученых только по характеру третьей шкалы: ученым (в основном) присущ пессимизм, а у студентов сочетаются пессимизм и оптимизм.
Сознание объект-субъектное и объект-объектное, как было сказано выше, не однозначно свойственно определенным социальным слоям. Но по характеру ценностей и способности к проблемному мышлению они различаются. Мышление рабочих проблемно в области профессиональной деятельности (т.е. конкретно-проблемно), мышление пенсионеров беспроблемно или, констатируя проблемы, они не имеют потребности их решать (а лишь констатируют - га критерию Белицкой 133). Оба слоя характеризует пессимизм.
Эти данные позволяют ответить на один из интересующих западную Европу вопросов, откуда появились новые русские (в нашем исследовании - предприниматели до сорока лет). Они склонны отвечать на этот вопрос в экономических категориях, связывая их появление с особенностями теневой экономики, которая развилась уже в пери-°Д. предшествовавший перестройке. Не отрицая возможности такого
22
объяснения, заметим, что для нас. во-первых, "новые русские" дифференцируются на предпринимателей, так или иначе активно занятых современными видами финансово-экономической деятельности и владельцев недвижимости, т.е. людей, негласно участвовавших в приватизации крупной государственной собственности, которые не в состоянии пустить эту собственность в оборот. Первая группа - по научным и публицистическим данным - это активные люди, характеризующиеся высокими интеллектуальными способностями. Кроме способности решать проблемн, связанные с их профессиональной деятельностью (в чем они, казалось бы, сходны с рабочими), специфика их мышления заключается также в диагносцированной нами способности к оперативному мышлению, в скорости и способности принимать решения. Их когнитивный стиль является сложным, т.е. они способны удержать проблемы и множество вариантов в своем сознании достаточно длительное время (что не противоречит их способности принимать быстрые своевременные решения). В чем специфика их профессиональной деятельности, радикально отличающая их задачи, от решаемых рабочими? Их деятельность осуществляется в современном социальном пространстве, которое, как уже отмечалось, в высшей степени обладает, во-первых, неопределенностью, во-вторых, нестабильность». Обычно профессиональные задачи повторяемы, как правило, легко типизируются, имеют четко очерченные условия и требования и даже коды решений Данная группа фактически сама создает из разных наборов социальных данных некие композиции, каждая из которых отличается оригинальностью. Тем самым данная группа, как уже отмечалось, во-первых сама создает условия для других социальных групп, во-вторых, создает тем самым для себя своеобразные опоры "костыли" в "топком болоте" социальной действительности. Иными словами, мы приходим к выводу, что данная группа заняла лидирующее положение в обществе благодаря своим психологическим, точнее - личностным качествам, еще более конкретно - своим оригинальным интеллектуальным способностям, сочетающимся с высокой инициативой.
Профессиональная деятельность в сфере производства характеризуется стереотипностью, жесткостью, стандартностью условий и вместе с тем глубокой противоречивостью; эти противоречия не могли решать даже высоко интеллектуальная выборка директоров, представляющая собой, как правило активных, выносливых, преданных до самоотверженности своему делу людей. Противоречия ценностей у рабочих дезориентируют их, а способность решать профессиональные проблемы не распространяется на социальную сферу, социальное мышление недостаточно развито. Предприниматели же, также своего рода лидеры, обладают огромной свободой, будучи не связаны с опреде-
23
ленным видом деятельности - возможностью перехода из одного в другой, поисковой активностью в сфере социально-экономической неопределенности и нестабильности.
Тем не менее, все наши данные об этом социальном слое свидетельствуют: решающую роль сегодня начинают играть отдельные личности, обладающие высокими интеллектуальными и личностными качествами, в чем мы видим первое доказательство общего тезиса о решающей роли психологии на современном этпе.
Противоречивость ценностей в сознании интеллигенции, с одной стороны, может обострять способность к проблемному мышлению, но, с другой - блокировать интерес к социальным проблемам, сужать круг проблем интеллигентов узко профессиональными. Во всяком случае, их социальное мышление недостаточно развито, что тормозит социальную активность и определяет пассивность данного социального слоя, даже его молодой студенческой части.
Не уточняй деталей, которые также нуждаются в дальнейшем исследовании, можно сделать вывод, что у разных типов существуют разные функциональные связи между разными механизмами их сознания, которые в одних случаях оптимизируют его продуктивность, а в других - блокируют. В свою очередь, даже при высоком уровне развития личности функциональные ограничения сознания могут тормозить ее активность. В целом мы получили пока картину, но еще не систему сложного соотношения возможностей разного типа личностей с разными возможностями мышления и сознания у разных типов, с точки зрения профессиональных и социальных характеристик.
Второй вывод заключается в том, что расслоение на страты произошло по психосоциально параметру, по личностным возможностям и ограничениям, а. в свою очередь, это расслоение дифференцировало разные слои по их социальным возможностям. Рабочий класс и пенсионеры оказались, фактически, в недееспособном социальном слое.
Третий еыеоЭ касается сущности изменений, произошедших в нашем обществе, изменения касаются не только экономической и политической сфер, не только ценностей, я даже, как мы и предполагали, не только самосознания - осознании себя как субъекта, обладающего всеми возможностями или как объекта, от которого ничего не зависит. Изменения заключаются в том. что до сих пор при наличии постоянно повторяемого на этапе социализма лозунга о классовом обществе, существовал некий средний класс, который можно сравнить с так называемым мидл-классом во Франции (средний не только по Уровню сложности социальных задач, по характеру социальных позиций) - Изменения сознания заключаются в возникшем неравенстве со-
24
шальных возможностей разных социальных зрупп Это неравенство определяется не только материально-экономическим параметром (и всеми вытекающими из него последствиями), но и по способности-неспособности разных групп участвовать в социальной жизни (такая способность очень низка сегодня у интеллигенции, мала у рабочих). Сложилась ситуация, при которой один слой (предприниматели) задает социально-экономические условия жизни всем остальным слоям общества (хотя он никого не эксплуатирует). Главное же неравенство проявилось в способности-неспособности разных слоев адаптироваться к социальным изменениям. Группа предпринимателей оказалась адаптирована к ним вдвойне (даже втройне - по своей субъектвости, новым ценностям, социальному мышлению и оптимизму). Пенсионеры и частично рабочие оказались вдвойне неадаптированными - их ценности либо противоречивы и блокируют их собственное мышление, либо консервативны, мышление беспроблемно и ограниченно профессиональными задачами, позиция и самосознание объектно, что усугубляется неудовлетворенностью и пессимизмом.
Интеллигенция на сегодняшний день занимает неопределенное положение в обществе, поскольку, обладая огромным интеллектуальным потенциалом, парадоксальным образом не может его использовать как социальный потенциал своей личности. Она есть резерв нашего менталитета и общества, но резерв совершенно не используемый самой этой группой и обществом.
В целом, отвечая на вопрос о специфике российского менталитета и его изменении, можно сказать, что по сравнению с огромной ролью интеллигенции в дореволюционный период, позволявшей не только духовно-нравственно, но и культурно соперничать с Западной Европой, ныне интеллигенция утратила и пока не может обрести свою позицию.
Специфика российской мантальности. состоящая в цементирующей роли морального начала, которая была всегда присуща русскому обществу и составляла его цельность, соборность, разрушается дифференциацией разных слоев. Фактически целое состоит из большинства социально не адаптированных слоев. До сих пор мы говорили о влиянии возможностей сознания и личности на социальную адаптацию. Но пущен в ход и обратный механизм: отсутствие социальной адаптиро-ванности лишает сознание возможности понять смыслы происходящего, где единственной задачей становится физическое выживание.
В русском менталитете сохраняется имплицитная связь каждого я с обществом, но поскольку общество уже выступает в лице политически и экономически несостоятельного правительства, эта имманентная для русского связь может разрушиться. Политики должны
25
когда-то осознать значение этой связи и использовать в составлении своих формул и программ огромну». еще не закрытую возможность ее сохранения, заполнения создавшегося смыслового вакуума. Развившиеся за годы застоя межличностные отношения хотя и построены на своеобразной "конвенциональной" морали1, уже требуют придания им правовых, взаимоответственных форм.
Таким образом, что касается характеристики положения российского общества на основе специфики российской ментальности, выявленной нами в самом первом приближении, то можно сказать, что общество не просто находится в политическом, экономическом и множестве других кризисов, оно - в силу уничтожения среднего класса, придающего необыкновенную статичность-устойчивость, например, французскому обществу, находится в состоянии подвитого неравновесия. Эта неустойчивость определяется расстановкой психологических "сил", слоев, обладающих разными (до сих пор дополнявшими друг друга) социальными, духовными, личностными возможностями. Сегодня они уже не дополняют друг друга, а образовали противоречивые полюса.
Что касается выводов собственно научного характера, то мы в определенной степени доказали:
1) в обществе произошла дифференциация по комплексу социальных представлений, в каждом из которых образовались разные смысловые и функциональные "гештальты";
2) именно социальные представления и индивидуальные возможности- ограничения сознания являются ведущими характеристиками этих социальных групп, а не политические, не правовые;
3) подтвердилась идея Московичи, что социальные представления, являясь ведущими на современном этапе развития России, выполняют реальную жизненную и социальную функцию. Эта функция в одних случаях оказалась позитивной - в других негативной, малопродуктивной;
4) получена дальнейшая конкретизация концепции субъекта, разработанной С. Л.Рубинштейном: осознание себя как субъекта или объекта сопряжены с характеристиками общества (а в иных случаях
1 Мы употребляем понятие "конвенциальности" в специфической.
отличной и даже противоположном кольберговскому определению смис-
ле- Если для Кольсерга конвенциональное™ предполагает равенство.
Доверие, справедливость (II уровень морального развития}. то в
оссин конвенциональность - синоним договоренности, в узких рам-
ах которой возможно доверие только на началах приоритетности мо-
PUII»« обязательств.
26
- другого) как субъекта и объекта, о чем в свое время предупреждал Рубинштейн в этическом ключе как о недопустимости использования другого в качестве средства, т. 6. объекта.
Нами получена конкретизация классического тезиса Рубинштейна о единстве сознания и деятельности: это единство носит типологический характер и в некоторых случаях превращается в противоречие сознания и деятельности. Б целом же было проведено доказательство идеи, высказанной Рубинштейном еще в "Основах общей психологии" о функциях психики применительно к функциональным возмошостям и ограничениям сознания, которые влияют на личностную и социальную позиции.
Относительно реализации психосоциального подхода, можно резюмировать, что при всей сложности его эмпирического исполнения, именно он раскрыл сложные взаимосвязи функциональных возможностей психики, сознания, личности и той, каждый раз разной в одну и ту лее эпоху, композиции социальных условий, в которых оказывается личность разного типа. Интеллектуальные преимущества предпринимателей, возможно, развитые в совершенно иной профессии, дали им преимущества в сверхсложной социальной действительности, которая, как ни парадоксально, оказалась просто сведенной к задаче сохранения жизни и здоровья для другого типа, интеллектуальные возможности которого были в предыдущую эпоху либо социально, либо профессионально не сформированы, в свою очередь решение только задачи выживания или сведение задачи только к сохранению возможности профессиональной работы (у интеллигенции) естественным образом не содействуют расширению для них сферы социальной жизни и развитию социального мышления.
Однако вывод о решающей роли психологии общества и личности на современном этапе одновременно есть социально оптимистический вывод, поскольку российское сознание, несмотря на эпоху уничтожения духовности, христианской веры, любви к ближнему, всегда имело и имеет свой "якорь", свою укорененность в связи со своим народом, своей Родиной, свою соборность. Судьба России на протяжении истории доказала, что лучшее в ней поднимется в самые критические, самые запредельные периоды. Пережитое унижение человечности, уничтожение культуры, религии, нравственности тем не менее закалило российский характер, что для нас является залогом будущего возрождения.
Литература:
1. Абульханова К.А., Воловикова М.И., Елисеев В.А. Проблемы исследования индивидуального сознания. //Психол. Журн. Т.12, N4, 1991, с. 27-40
27
2. Абульханова - Славекая К А Социальное мышление личности проблемы и стратегии исследования // Психол Журн 1994, Т 14, 514. с 39-55
3 Белицкая Г э Типология проблемности социального мышления Лвтореф дисс канд психол наук М , 1991
4 Достоевский Ф М Дневник писателя за 1877 г // Россия и Европа Опыт соборного анализа м ,1992
5. Дуаз В Феномен анкеровки в исследованиях социальной репрезентации // Психол Журн , 1994, Ml
6 Знаков В В Неправда, ложь и обман как проблема психологии понимания // Вопр лсихол , 1993, N
7 Ковалев В Россия и Европа Истина и свобода //Россия и Европа Опыт соборного анализа И , 1992
8 Лапин Н И Ценности в кризисном социуме //Ценности социальных групп и кризис общества М 1991 , с 4-21
9 Московичи С Социальные представления исторический взгляд // Психол Журн 1995, N 1, с.3-18, N 2. с 3-14
10 Славская А Н Личностные особенности интерпретирования субъектом авторских концепций Автореф дисс канд психол наук М , 1993
11 Abrlk J -С1 A Theoretical and experemental approach to the studi of social representations in a situation of interaction.//Social representation Ed by R H Farr & S Moscovici Cambridge, 1984
12. Moscovici S. Social representations Cambridge, London, N-Y., 1984
13 Moscovici S Social influence and social change London, N-Y,, San-Franc, Academic press, 1978.
14 Zaleski Z Lens W Psychology of future orientation Ed Z Zaleskl, W Lens, 1995
±2i
"Образ я" российского психотерапевта: менталитет тех, кто формирует наш менталитет1
Камыкоша £ С , Ромвнец К В , Ягнюк К В.
На
протяжении последних двадцати дет мы
стали свидетелями того, как в нашем
обществе постепенно зарождалась и
развивалась новая потребность -потребность
в получении институционализированной
психопошческой
помощи Причины появления и довольно
бшетрогс распространения error,
потребяоети,
по крайней мере, в крупных городах - это
тема отдельного социологического
исследования, для нас же важно сейчас,
что данная потребность отражает
Определенные изменения в жизни и в
менталитете россиян В социалистическую
эпоху единственным оредотаом для
раэрешения жизненных проблем, выхода
из кризиса взаимоотношений было дружеское
неформальное общение; никому и в голову
не могло прийти обратиться к психиатру
или психоневрологу- такое обращение
сразу ставило человека в разряд
душевнобольных а это означало -
"неполноценных", "ущербных".
С другой стороны, наиболее массовым и
популярным способом лечения психических
отклонений и нарушений была фармакотерапии,
с применением иногда весьма сильнодействующих
средств, что также отпугивало людей и
не вызывало доверия к психиатрам
В постсоциалистичесние времена ситуация складывается иным, белее благоприятным для человека обратом «тали доступны *ак традиционные виды мнституцж>налиэировачной психологической помощи - обращение к церкви, к Богу, к священнослужителям в поисках утешения и облегчения душевного бремени, так и новые - обращение в психологическую консультацию, кабинет боциальнО-психологической помощи, к психотерапевту И та, и другая формы помощи используются все более активно, соответственно "проводники" этой помощи, те те люди, которые непосредственно ее оказывают, - священники различных рангов, психологи-консультанты, психотерапевты, - все в большей мере участвуют в формировании психологического и духовного склада росснН,
Разумеется, мы "е склонны переоценивать вклад тех и других в формирование; современного российского менталитета, однако его нельзя игнорировать Одним из важных механизмов морального развития личности является научение путем подражания, имитации поведения значимых других Из этого следует, что "потребители", если так можно выразиться, психологической помощи - верующие, пациенты психотерапевтов посетители психологических консультаций - в той или иной мере воспроизводят психологические и нравственные установки тех, кто им эту помощь оказывает. Иными словами, личностный склад профессионалов, те деятелей церкви, психологов, психотерапевтов, несомненно, является одним иэ действенных факторов "помогающего" взаимодействии Видение себя и мира "реципиентом" психологической помощи изменяется в коде его взаимодействия с
Работа выполнена при фичэнсовои поддержке Российского фонда фундаментальных ис(.лвдовами1' к Российского Гума-врного кадимого фогда {код проекте 94-06-1Э75!)
±22
профессионалом и неизбежно несет на себе отпечаток, личностных особенностей последнего.
Целью данной работы является анализ "образа я" психотерапевтов и психологов-консультантов, рассматриваемого как одна иэ составляющих оказываемого ими психологического воздействия на пациентов и клиентов психологической консультации
В настоящее время существует множество подходов к пониманию сути и методов психотерапевтического лечения, в рамках данного исследования мь. предлагаем различать два подхода' 1) более традиционный для отечественной медицинской практики, носителями его выступают, как правило, психотерапевты, психоневрологи, имеющие базовое медицинское образование. а основными методами лечения являются фармакотерапия, внушение и гипноз, аутотренинг, рациональная терапия и элементы когнитивно-бихееиорального подхода; 2) "психологический" подход, основанный на применении современных психотерапевтических методов., таких как пс икс динамическая психотерапия, недирективная психотерапия, гештальт-терапия и т.п., носителями которых выступают чаи<ё всего психологи, т е лица с базовым или вторым психологическим образованием. Различия в базовом образовании влекут эа собой различий в понимании лечебных факторов психотерапии, "психологический" подход большую, если не решающую, роль приписывает взаимодействию "гтсихотерапевт-пацнент" или, соответственно, "коксультант-к л цент", при этом важное значение имеет также степень психологической зрелости к глубина самоос о знании психотерапевта, т.е. уровень его личностного развития. В традиционном подходе этим факторам отводится второстепенная роль.
Авторы данной работы придерживаются "психологического" подхода к пониманию психотерапевтического процесса, с точки зрения этого подхода осознание психотерапевтом своих личностных качеств, степень дифференцированное™ "образа я", являясь одной иэ предпосылок успешной профессиональной деятельности, а определенной степени должно обеспечиваться в ходе получений профессионального образования и развиваться по мере накопления собственного практического опыта. В частности, покаэатепем дифференцированное™ "образа я" может служить способность психотерапевта или консультанте осознавать различия своего профессионального и приватного "я", т.е. дифференцированно переживать профессиональную и приватную идентичность, &п> не оаначает, что в частной жизни психотерапевт проявляет черты, диаметрально противоположные тем, которые он демонстрирует пациентам, следствием дифференцированное™ и осознанности профессиональной и приватной идентичности йыйТулает способность психотерапевта в значительной степени контролировал» проявление своих личностных особенностей и использовать их осознанно и на благо пациента.
Гипотеза
исследования,
психотерапевты с психологическим
базовым (или вторым) образованием
отличаются от психотерапевтов с
медицинским образованием по степени
согяасоаанности/диффервнцированж?стя
профессионального и приватного "образов
Я.
183
Метод исследования.
Данная работа осуществлялась в рамках исследования, проводимого одновременно во многих странах (США, Германия, Англяя, Швейцария, Франция, Бельгия, Норвегия, Швеция, Южная Корея, Израиль, Италия и др ) и направленного на изучение профессионального и личностного роста психотерапевтов) В качестве основного метода используется аутентичный перевод специально сконструированного опросника, содержащего оноло 350 вопросов, затрагивающих разные аспекты личности и деятельности психотерапевта (Common Core Questionnaire, см. 1). Он позволяет получить обширную и вполне достоверную информацию, поскольку является анонимным и заполняется респондентом исключительно при наличии его собственного желания.
Материалы, получаемые в результате опроса, включают В себя те сведения, которые в рамках данного исследования выступают в качестве переменных, для анализа образа Профессионального гя" имеется список прилагательных (N=29), котсюые оеспондект должен лроранжировать (от 0 до 3) применительно к своему профессиональному "я" дважды. 1) отвечая на вопрос: "В какой мере Вы, как психотерапевт, хотели бы обладать следующими качествами0" и 2} отвечая на вопрос: "В какой мере Вы, как терапевт, проявляете следующие качества?" Эти прилагательные большей частью заимствованы и» широко известной методики "Характерологический профиль Ливи" и дополнены десятью прилагательными, релевантными профессиональному образу "Я" психотерапевта (напр, "эффективный", "дистанцированный", "тонкий, искусный'' и т.п.),
Для анализа лрияатчего "образа я™ ш опроснике содержится третий список прилагательных, он включает 21 пункт, идентичный о первым и вторым описками, и 8 дополнительных, поскольку часть прилагательных, имевших отношение к профессиональной деятельности, заменена на другие, относящиеся в большее* степени к частной жизни (например, изъяты прилагательные "вовлеченный", "запутавшийся", "эффективный" и т п , а предлагаются такие: "демонстративный", "фаталистичный", "впечатлительный" и т.п.)
Испытуемые
В качестве респондентов выступали московские психотерапевты; всего были обработаны данные по 77 опросникам Иэ них 26 респондентов было с медицинским базовым образованием, 51 респондент имел базовое или второе психологическое (на основе педагогического, или аналогичного) образование Обе подгруппы были уравнены по важнейшим социально-демографическим и Профессиональным показателям (см. табл. 1).
124
Таблица 1. |
|
|
|
|
|
|
|
мужчины |
женинны возраст М SD |
стаж М SD |
опт личной психотерапии да нет |
||
pi-еаонценты образованней (N=2b) |
11 |
15 |
3S9 |
77 |
69 48 |
18 8 |
респонденты с вснхологическнм образована»: (N-51) |
IS |
36 |
35 7 |
62 |
65 42 |
41 10 |
Результаты
Полученные данные были обработаны при помощи статистического пакета BMDP Statistical Software (program version 1987) Полученные результаты представлены в та б л 2
Методы дескриптивной статистики и анализ разнообразия практически не обнаружили значимых различий между психотерапевтами медицинской и психологической ориентации по всем трем спискам прилагательных Графически результаты сравнения этих подгрупп респондентов представлена на рис 1а, 16, 1в
Попарное сравнение списков 1 ("идеальное профессиональное я") и 2 ("реальное профессиональное я"> и списков 2 и 3 ("приватное я") методом two-ways ANOVA для психотерапевтов-медиков и психотерапевтов-поихопого* показало, что-
1 Значимые различий между двумя подгруппами респондентов не обнаружены по следующим прилагательным: принимающий, бросающий вызов, холодный, вовлеченный, дистанцированный, решительный, дружелюбный, осторожный, интуитивный, активный участник, нейтральный, методичный, позволяющий, прагматичный, восприимчивый, сдержанный, не помогающей, теплый.
2. Значимые различия обнаружены по следующим прилагательным'
- авторитарный - псюсотерапевты-"поихологи" оценивают свой "приватный образ я" как более "авторитарный" по сравнению с "реальным профессиональным образом я";
- запутавшийся - психотерапевты-"поихо1юги" оценивают свой "реальный профессиональный образ Я" как более "эаЛуТййшийсн" № сравнению с "идеальным профессиональным я";
- критичный - психотерапетты-"'психологи° оценивают свой "приватный образ я" как более "критичный" по сравнению с "реальнь-" профессиональным
- требовательный - психотерапевтьг-"психологи" оценивают свой "приватный образ я" как более "требовательный" по сравнению с "реальным профессиональным образом я";
Таблица 2. "Идеальное профессиональное я", "реальное професскюнаяьное я", "приватное я" (N=77)
Прилагательное |
"Идеальное проф я |
"Реальное проф. и" |
'Приватное я" |
|||
|
М |
SD |
W |
SD |
м |
SD |
Принимающий |
2 4S0S |
0 6611 |
2 3377 |
0 7714 |
2 3247 |
0.6375 |
Авторитарный |
0 571<1 |
0 6575 |
0 7403 |
0 7327 |
1 1818 |
0.9137 |
Ьросающий вызов |
'0 6Ф94 |
0 3701 |
0S974 |
0 7460 |
0 8442 |
0 7791 |
Холодный |
0 1813 |
С 4208 |
0 3636 |
0 5698 |
0 4156 |
0.6145 |
Вовлеченный |
1.4286 |
0 9238 |
1 7662 |
0 8413 |
- |
|
Запутавшийся |
0.1 №9 |
0 3234 |
0 4416 |
0 5734 |
- |
|
Критичный |
0.ЭВЭ1 |
сэога |
0 7S2S |
0.6755 |
1 4675 |
0S673 |
Требовательный |
0.9351 |
0 3166 |
1 0260 |
0 7775 |
1 4416 |
0.8350 |
Листании ровэнный |
GSS10 |
0 7864 |
1 1299 |
0 7136 |
- |
- |
Решим ельный |
1 49Э5 |
0 9545 |
1 42В6 |
C7SS3 |
1 6753 |
ового |
Директ«ный |
0,4675 |
0 6606 |
0 S844 |
0 6949 |
1 0390 |
а 8651 |
Эффективней |
2.5Т8* |
0.7541 |
1 6052 |
0.6078 |
- |
- |
Дружелюбный |
2 2463 |
0 7373 |
2 3506 |
0.6019 |
2 4936 |
0.5531 |
Осторожный |
1 4805 |
0 8368 |
1 7273 |
0 8314 |
1 4805 |
0.8368 |
Интуитивный |
2 5714 |
С 6772 |
21818 |
0 8067 |
2 3377 |
0.6998 |
Активный участник |
1 5974 |
0 9D7O |
1 6753 |
0 8342 |
- |
|
Нейтральный |
1 5066 |
0 8977 |
1 3906 |
0В701 |
• |
- |
Заботливый |
1 4936 |
0 9122 |
1 5065 |
0 8679 |
2 1169 |
0.7429 |
'Методичный |
14935 |
0 9122 |
1 3377 |
0 8209 |
1 0909 |
ОВ301 |
ПОЗИОЛЯЮ!1,.ИЙ |
1 6104 |
0 9341 |
1 6SS4 |
0.7832 |
1 9091 |
0 6526 |
Прагматичней |
1 0909 |
0 8763 |
1 0779 |
0S548 |
1 1169 |
0.826S |
Защищающий |
1 3247 |
0 8960 |
1 4026 |
0,8470 |
1 7922 |
0.8482 |
Восприимчивый |
2 1818 |
0.92ВО |
21686 |
0 7678 |
2.2507 |
0.5639 |
'Сдержанный |
1.6234 |
0.7616 |
16494 |
0.8073 |
1,5325 |
0.8043 |
Умелый |
г еегз |
0.6998 |
1 6364 |
0.7238 |
|
- |
Тонкий, 'искусный |
2 7662 |
0.4550 |
1 63ВЗ |
0.7324 |
1 4675 |
0.7360 |
Терпимый |
2.S06S |
о.71 аб |
2 2338 |
06666 |
2 0S19 |
0.7052 |
Не помогаю ни и |
0 5455 |
0.6037 |
0 6-62 |
0.5642 |
|
- |
Теплый |
2.1948 |
0.7766 |
2.1299 |
0.6949 |
2,2987 |
0 7267 |
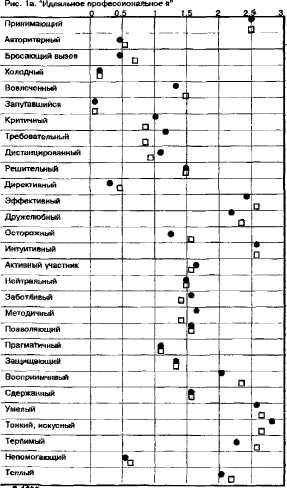
оценки психотералебгов-"медикйв" □-средние оценки психотерапевтов-"психологов"
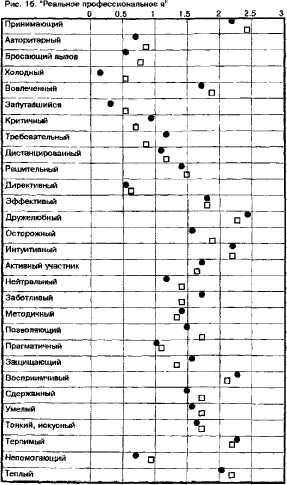
р ки психотерапевтов-'медиков"
□средние оценки психотерапевтов-'психологов"
128
2.5
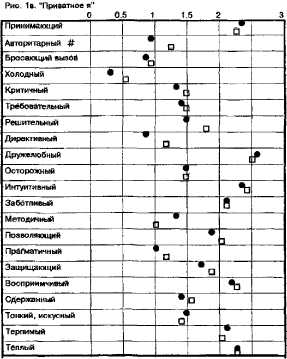
# средние оценки психотерапевтов-ямедиков" D-средние оценки психотера1гевтов-"психологоа"
Данная таблица содержит лишь те прилагательные иэ списка 3, которые совпадают с прилагательными 1-го и 2-го списков, т.е. общие для описания "профессионального" и "приватного образов я".
129
- директивный - психотерапевты-'псзшмюги" оценивают свой "приватный образ я" как более "авторитарный" по сравнению с "реальным профессиональным образом я !
- эффективный - обе подгруппы оценивают свой "реальный профессиональный образ я" как менее "эффективный" по сравнению с "идеальным профессиональным я";
- заботливый- психотерапевты-" психологи" оценивают свой "приватный образ я" как более "заботливый" по сравнению с "реальным профессиональным образом я";
- защищающий - психотерапевты-"психологи" оценивают свой "приватный образ я" как более "защищающий" по сравнению с "реальным профессиональным образом я"; -умелый - обе подгруппы оценивают свой "реальный профессиональный образ я" как менее "умелый" по сравнению с "идеальным профессиональным я";
- тонкий, искусный - обе подгруппы оценивают свой "реальный профессиональный образ я" как менее "тонкий, искусный" по сравнению с "идеальным профессиональным я";
терпимый - психотерапевты-ппсихологи" оценивают свой "реальный профессиональный образ я" как менее "терпимый" по сравнению с "идеальным профессиональным я";
Эти результаты представлены графически на рис. 2.
Следующим шагом нашей работы стал анализ структуры "образа я" - н приватного, и профессионального ("реального" и "идеального"). При этом мы исходили из того, что структура "образа я" как тиковая задается не в процессе получения профессионального образования, а значительно раньше и, более того, оказывает определенное опосредованное влияние на выбор профессии. Поэтому при изучении ее методом факторного анализа (методом максимального сходства) стало возможным объединение двух подгрупп респондентов в одну группу (N=77).
Результаты факторного анализа приведены в табл. 3.
Табл. 3
"ИДЕАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ Я" |
|
|
|
ФАКТОР 1 |
47 умелый |
829 |
|
|
48 тонкий, искусный |
.662 |
|
|
41 методичный |
516 |
ОПЫТНЫЙ |
|
37 интуитивный |
438 |
|
|
34 эффективный |
406 |
|
ФАКТОР 2 |
26 холодный |
707 |
|
|
50 не помогающий |
681 |
|
|
28 запутавшийся |
475 |
ДЕЗОРГАНИЗОВАННЫЙ |
|
42 позволяющий |
.459 |
|
|
25 бросающие вызов |
440 |
|
ФАКТОР 3 |
40 заботливый |
.936 |
ЗАБОТЛИВЫЙ |
|
44 защищающий |
758 |
|
ФАКТОР 4 |
31 дистанцированный .678 |
|
|
|
46 сдержанный |
.565 |
СДЕРЖАННЫЙ |
|
39 нейтральный |
.565 |
|
|
32 решительный |
362 |
|
130
ФАКТОР 5 |
29 критичный 30 требовательный 24 авторитарный |
.717 589 .433 |
ДОМИНИРУЮЩИЙ |
ФАКТОР 6 |
35 дружелюбный 27 вовлеченный 38 активный участник |
.557 .545 516 |
СОТРУ ДНИЧАЮЩИ1 |
"РЕАЛЬНОЕ ФАКТОР 1 |
; профессиональное я" 48 тонкий, искусный 47 умелый 51 теплый 37 интуитивный |
.974 .806 409 .358 |
ОПЫТНЫЙ |
ФАКТОР 2 |
40 заботливый 44 защищающий |
1085 688 |
ЗАБОТЛИВЫЙ |
ФАКТОР 3 |
39 вентральный 46 сдержанный 50 не помогающий 43 прагматичный |
675 575 .517 .440 |
СДЕРЖАННЫЙ |
ФАКТОР 4 |
32 решительный 34 эффективный 36 осторожный 41 методичный 35 дружелюбный 38 активный участник |
.682 .538 .426 .362 .350 267 |
ГИБКИЙ |
ФАКТОР 5 |
23 принимающий 49 терпимый 42 позволяющий 45 восприимчивый |
.523 468 .433 .354 |
ПРИНИМАЮЩИЙ |
ФАКТОР 6 |
28 запутавшийся 26 солидный 33 директивный 25 бросающий вызов 24 авторитарный 27 вовлеченный |
637 .609 .464 .441 .391 .332 |
ХАОТИЧНО ДЕЯТЕЛЬНЫЙ |
"ПРИВАТНОЕ Я" ФАКТОР 1 29 критичный 43 прагматичный 30 требовательный 26 холодный |
.576 .487 463 .313 |
ОТВЕРГАЮЩИЙ |
|
ФАКТОР 2 |
33 директивный 24 авторитарный 25 бросающий вызов |
.961 .550 291 |
ДОМИНИРУЮЩИЙ |
131
фактор з |
44 защищающий |
763 |
|
|
40 заботливый |
551 |
|
|
51 теплый |
.407 |
ЗАБОТЛИВЫЙ |
|
35 дружелюбный |
376 |
|
|
45 восприимчивый |
315 |
|
ФАКТОР 4 |
49 терпимый |
1000 |
|
|
23 принимающий |
349 |
ПРИНИМАЮЩИЙ |
42 позволяющий Обсуждение результатов |
.324 |
|
|
1. Попарное сравнение списков прилагательных показало, что для психотерапевтов "психологической" ориентации характерен ряд расхождений между "реальным профессиональным образом я" и "приватным образом я", тогда как для психотерапевтов "медицинской" ориентации таких расхождений не обнаружено. Эти результаты можно интерпретировать как недостаточную конгруэнтность респондентов "психологической" подгруппы, поскольку их "приватное я" не совпадает полностью с "профессиональным". Однако положение о конгруэнтности психотерапевта, выдвинутое К.Роджерсом как одно из необходимых условий действенности психотерапии, отнюдь не следует понимать буквально, как требование абсолютного совпадения профессиональной и приватной идентичности. Конгруэнтность означает, скорее, "искренность™, "не-фальшивость" психотерапевта или консультанта в ходе взаимодействия с пациентом, но для этого вовсе необязательно, чтобы все личностные особенности психотерапевта в полной мере проявлялись в его диалоге с пациентом.
Поэтому мы полагаем, что более близким к истине является другая интерпретация подученного факта расхождения "профессионального" и "приватного образов я": данное расхождение отражает наличие дифференцированных представлений о профессиональной идентичности, с одной стороны, и о приватной, "повседневной" идентичности психотерапевта - с другой. Как указано выше, расхождения между профессиональным и приватным "образами я" имеются по таким прилагательным, как "критичный", "требовательный" (фактор 1 "отвергающий"), "директивный", "авторитарный" (фактор 2 "доминирующий"), "заботливый", "защищающий" (фактор 3 "заботливый"), причем характер расхождений во всех случаях одинаков: "приватное я" оценивается как обладающее более выраженными проявлениями всех перечисленных черт (более критичное, авторитарное и т.п.). Из этого следует, что, по-видимому, именно эти личностные черты психотерапевты "психологической" ориентации стремятся контролировать в своей работе с пациентами.
Что же касается психотерапевтов "медицинской" ориентации, го у них аналогичных расхождений не обнаружено: "приватный образ я" ни в чем значимо не отличается от "реального профессионального образа я". Фактически это свидетельствует о нерасчлененном представлении о себе, т.е. об отсутствии отдельных "образов я" - как частного лица и как представителя определенной профессии. В соответствии с изложенными выше взглядами, эта недифференцированность дает о себе знать как недостаточный контроль психотерапевта над проявлениями его личностных черт в ходе профессиональной
132
деятельности и, следовательно, затрудняет анализ собственного вклада психотерапевта в развитие отношение с пациентом.
2. Результаты факторного анализа были сопоставлены с результатами аналогичного исследования, проведенного B.Parks и D.Oriinsky 2] на обширной выборке американских и немецких психотерапевтов. В их работе было получено 5 факторов профессионального "образа я": "теплый и вовлеченный", "бросающий вызов", "сдержанный", "целеустремденый", "заботливый". На кашей выборке также выделены факторы "«держанный" и "заботливый"; вместо "целеустремленного" и "бросающего вызов" обнаружены факторы "опытный", "дезорганизованный", а вместо "теплый и вовлеченный" выявлены два фактора -"сотрудничающий" (для "идеального профессионального я") и "принимающий" (щм "реального профессионального я"). Есть основания полагать, что наличие факторов "опытный" и "дезорганизованный" в структуре профессионального "образа я" отражает то значение, которое российские психотерапевты приписывают опытности, умелости, профессиональному мастерству. На наш взгляд, это обусловлено своеобразием профессиональной подготовки наших психотерапевтов: большинство из них овладеваю необходимыми познаниями и умениями несистематически, в меру своей активности и заинтересованяосги, поэтому уровень подготовленности достаточно неодинаков. Отсутствие же какой бы то ни было единой системы лицензирования психотерапевтов в нашей стране не позволяет объективно подойти к установлению единого, необходимого и достаточного уровня подготовки практикующего психотерапевта, вследствие чего вопрос профессионализма фактически "лежит на совести" у каждого из них.
Фактор "заботливый" присутствует во всех трех структурах - "идеальном" и "реальном профессиональном образах я" и в "приватном я"; можно предположить, что данный фактор выступает в качестве центральной личностной переменной российских психотерапевтов, являясь одновременно предпосылкой выбора именно данной профессии. Однако данное предположение, безусловно, следует рассматривать лишь как гипотезу, нуждающуюся в эмпирической проверке.
Выводы
Проведенное исследование показало, что какие-либо значимые различия между "образом я" у психотерапевтов "медицинской" и "психологической" ориентации отсутствуют. В то же время оказалось, что психотерапевты второй подгруппы обладают более дифференцированным "образом я", что означает большую возможность контролировать проявления своих личностных черт в ходе профессиональной деятельности.
Факторная струтура "образа я" российских психотерапевтов отличается от таковой их западных коллег; в ней отражена роль профессионального опыта или отсутствия такового, что можно связать с недостатками системы профессиональной подготовки психотерапевтов.
Библиография
1. Опросник "профессиональное и личностное развитие психотерапевтов". // Московский психотерапевтический журнал, 1993, №4, 129-172.
2. Parks В., Oriinsky D. Therapists working self, work satisfaction, and level of development. // 5-th European Conference of the SPR, 1993, Budapest.
Отпечатано в типографии ИП РАН. ПЛД N 53-254 от 5 июля 1996 г. 129346 Москва, ул. Ярославская, 13. Тирах 200 экз. Заказ N 51,
28 Субъект жнтальност и летальность субъекта
А.В.Брушлинский
На мой взгляд, основное противоречие нынешнего переходного периода состоит в следующем: с одной стороны, сейчас в России особенно важно восстановить и укрепить государственность, а, с другой, ряд государственных структур явно или скрыто сопротивляется реформам и прежде всего переходу к рыночной экономике, не совместимой со многими из таких структур (безудержная централизация власти, попрание региональных интересов, борьба против частной собственности и т.д.).
Более точно и обобщенно указанное противоречие выглядит так: нынешние управленцы в российском государственном аппарате - это в основном те же люди, которые управляли страной до и во время перестройки. Насколько они могут и хотят осуществлять теперь радикальные реформы?! Насколько сильны у них для этого мотивация, профессионализм, вся их психология?! Ведь краеугольный камень качественного обновления российского общества составляет социально-экономический, морально-психологический переход к рыночной экономике и демократии - не как самоцель, а как одно из средств решения наиболее жгучих, всенародно выстраданных проблем. Но не слишком ли часто он становится камнем преткновения на пути к обновлению и возрождению?! Не потому ли возникает впечатление, что нынешние власти в России не имеют четкой и последовательной программы реформ?
В этом отношении одна из самых больших проблем состоит в том, что сейчас очень мало людей и "наверху" и "внизу", но особенно - "вверху", которые своими делами и переживаниями сложившейся ситуации олицетворяют общероссийские интересы. Большинство выражает, представляет и осуществляет интересы региональные, корпоративные и т.д. Вот почему в отличие от многих прежних трудных эпох в истории России сейчас совсем худо. Субъект как общероссийское общество теперь представлен в гораздо меньшей степени, чем хотелось бы. А потому жизненно необходимы согласие и взаимпо-нимание между разными общественными силами.
Категория субъекта в настоящее время обретает не только теоретическое, но и большое практическое значение. Она также выступает соотношение с другим важным понятием - обратной связи. В 30-40-ые годы физиологи П.К.Анохин и Н. А.Бернштейн и кибернетик Н.Винер сделали большое открытие, обобщив способ саморегулирова-
ния, присущий и людям, и животным, и машинам. Все эти очень разные системы регулируются одним и тем же механизмом обратной связи, который наглядно, очевидно, непосредственно и однозначно счг-нализирует о том, правильно или неправильно осуществляется то или иное функционирование, та или иная система действий.
Но тем самым все же недостаточно учитывалась специфика человека как субъекта, который в отличие от животных и созданной им техники имеет помимо обратной связи бесконечно более сложные способы саморегуляции на высших уровнях своего бытия: теоретическое мышление, вообще творчество, совесть, свобода и т.д. Оценка и самооценка этих наиболее творческих видов деятельности людей (например, экономической реформы) осуществляется не столько на основе непосредственных и однозначных сигналов от обратных связей, сколько путем предельно сложного анализа и дальнейшего комплексного прогнозирования всех получаемых результатов - основных и промежуточных, ожидаемых и неожидаемых, очевидных и непонятных, рациональных и иррациональных и т.д. Обратная связь здесь необходима, но недостаточна - вопреки традиционной точке зрения (подробнее см. 2]).
В качестве примера можно провести частичную аналогию со знаменитой системой монетаризма, которая для многих тоже основана на полном доверии к механизму обратной связи, якобы достаточному для саморегуляции общественно-экономического прогресса, поскольку последняя совершается как бы автоматически. И тогда не требуется вмешательства какого-либо субъекта, который бы осуществлял его с помощью своего сознания, мышления, действия и т.д. Критики монетаризма отчасти справедливо отмечают необходимость иных экономических подходов, дополняющих монетаристскую систему саморегуляции. Когда этого не делают, то получается, с точки зрения психологии, просто страшная вещь: люди - отдельный человек и большие группы индивидов - в принципе не могут разобраться в том, что происходит сейчас в России.
Если бы обратная связь была здесь достаточной, то она сигнализировала бы, что правильна и что неправильно делается в экономической и общественной жизни. Поскольку это не так, то получается, что одно и то же событие оценивается разными экспертами, разными средствами массовой информации, разными общественными движениями часто прямо противоположным образом. Теперь даже специалис-ТУ иной раз не хватает времени и сил. чтобы прочитать основную массу газет и книг, прослушать главные передачи радио и телевидения и провести скрупулезную работу по сопоставлению полученной
30
информации. Поэтому общая ситуация неопределенности достигает высшей стадии и становится почти невыносимой - особенно в условиях растущей "мафизации", коррупции и т.д. Плохо видна перспектива, и потому психологическая ситуация очень осложняется.
Психологически самое важное для людей - это приемлемый уровень самоуважения, самооценки, сохранения своей идентичности (своего стиля жизни, принадлежности к своей профессиональной, общественной, этнической, культурной и т.д. группе), что поддерживается многообразными "механизмами" психологической защиты личности, социально-психологическими стереотипами и т.д. Если в пос-лесталинском прошлом психологическим выигрышем для части населения была определенность, стабильность, некоторая уверенность а завтрашнем дне, то теперь она для многих, если не для всех утрачена. Временно почти все стало временным, но тем большая надежда На возвращаемые в Россию вечные духовные ценности (свобода, творчество, труд, стремление к независимости, семья и т.д.).
В нынешней ситуации необходимо, чтобы в такой переходный, во многом неопределенный период президент, премьер-министр и другие авторитетные люди один раз в неделю выступали бы в средствах массовой информации и рассказывали бы: за прошедшие семь дней сделано то-то и то-то, что-то не получилось, что-то получилось, то, что удалось, было сделано для того, чтобы на следующей неделе осуществить такой-то и такой-то шаг. Таким образом, требуется все более конкретное объяснение ситуации в стране.
с этих позиций нужно реально посмотреть на то, что переживалось на протяжении последних лет. Все-таки большинство в России прекрасно понимает, что в прошлом было очень плоха, и страна, действительно, зашла в тупик. Вот почему люди готовы были идти теперь на большие жертвы, чтобы как-то искать выход из тупика. Когда с начала января 1992 г. взвились цены, многие высказывали мнение, что буквально через два-три месяца все правительство будет сметено, народ возмутится и начнется, если не бунт, то очень сильные акты протеста. Но ради реформы люди продолжали работать и терпеть , продолжали идти на жертвы. Они понимали, что что-то надо делать и с чем-то нужно временно смириться, но ради того, чтобы эти жертвы лотом что-то дали. И последующий референдум в 1993 г. в значительной степени подтвердил желание многих на продолжение реформ
Но когда все это не привело к мало-мальски понятным результатам, хотя бы в смысле перспективы, люди почувствовали, что происходит нечто непонятное и вообще неизвестно, к чему оно приве-
дет. Продолжается безответственность. Деятели, которые конкретно и персонально должны отвечать за тот или иной провал, за ту или иную ошибку, не несут никакой персональной ответственности. И это очень сильно влияет на ситуацию в стране. Психологически это абсолютно ненормально, потому что любой человек как субъект несет ответственность за свои поступки. А то, что происходит, просто развращает людей.
К. А. Абульханова-Славская со своими сотрудниками изучает формирование разных типов личности, характеризующихся соответствующими различиями в сознании, способах мышления и жизни в условиях вышеуказанных изменений, выявлено несколько типов личностей по способу осознания своего соотношения с обществом П.
Несколько в ином плане эти характеристики анализируют также А.Л.Журавлев и его сотрудники, в частности, на совсем конкретном материале предпринимательской деятельности. Эмпирически выявлены некоторые типы российских предпринимателей, их мотивации, отношение к риску, конкуренции, неудачам и партнерству (подробнее см. 3, 41).
Во многих социально-психологических работах изучение типов и групп, обобщающее существенные особенности большого количества людей, осуществляется путем исследования каждого из них как бы по одиночке (с помощью опросника и т.д.). Такой способ анализа сочетается с изучением испытуемых непосредственно в ходе их совместной деятельности, общения "лицом к лицу" и т.д. Так в исследовательской практике взаимодействуют психология личности и социальная психология, изучающие разных субъектов (индивидов и группы людей).
Например, п.К.Шихирев и его сотрудники 7] анализируют межнациональные отношения и. в частности, конфликты в процессе реального посредничества между конфликтующими сторонами. Другие аспекты столь сложной проблемы (этнические стереотипы, социальная перцепция межэтнических отношений и т. д.) они изучают с помощью опросника и других подобных методик И, наконец, сделан качественно новый шаг в исследовании. Опираясь на некоторые обобщенные по всей стране данные социологии, социальной психологии и психологии личности, П.Н.Шихирев 8] проанализировал динамику социально-психологического состояния российского общества и попытался прогнозировать те или иные тенденции в ее развитии.
В ходе разработки таких прогнозов особенно остро встает воп-Р°с о различии и сходстве между разными субъектами-индивидами, группами людей, этносами, конкретными странами и их союзами, всем
32
человечеством в целом.1 Обычно подчеркиваемые существенные психологические различия между ними не исключают, а, наоборот, предполагают значительную общность их психологических качеств, изучаемых психологией личности и другими разделами психологии (исторической, социальной, этнической, политической и т.д.).
Например, когда один человек или большинство людей в данной стране чувствуют себя (незаслуженно) униженными, ущемленными, испытывают комплекс неполноценности и т. д., то в обоих этих весьма разных случаях может одинаково резко возрасти активность в целях устранения остро переживаемой ситуации.
Понятие субъекта (в отличие от понятия личности, груши и т. д.) создает, на мой взгляд, новые возможности для концептуализации не только различных, но и существенно общих психических качеств у столь разных субъектов. Тем самым появляется важное условие для единства психологической науки, компенсирующее тенденции к многообразию и - главное - к разобщенности между ее разноуровневыми отраслями (см., например, 9]).
Эта общность (несмотря на различия) между субъектами выступает очень отчетливо в ходе изучения современных особенностей духовного развития людей именно в нашей стране.
Например, к.А.Абульханова и ее сотрудники показали, что в российской ментальности сейчас на первое место выходят нравственные ценности (это соответствует и социологическим данным, полученным в результате коллективного исследования под руководством Н.И.Лапина). В частности, моральные представления компенсируют правовые 1]. В.В.знаков 5] в своих экспериментах выяснил, что для определенной части российского населения не столько важна сама по себе истина, сколько правда и справедливость.
Но направленность российского менталитета плохо учитывалась и учитывается руководством страны. О причинах этого можно сказать многое, но здесь мы опять-таки возвращаемся к главному противоречию - люди в руководстве в большинстве те лее самые, И вполне возможно, что у части из них сохраняются партократические. номенклатурные навыки, когда мнением людей просто не привыкли интересоваться. Считалось, что все можно сделать директивными методами, и
1 Данная проблема - тем важнее, что одни специалисты считают возможным применять термин "субъект" лишь к отдельным индивидам, а другие, напротив, только к человечеству или, в крайнем случае, к очень большим общностям людей (нациям, странам и т.д.), но не к индивиду.
33
народ все выдержит. Однако раньше, когда царили сталинщина, КГБ и т д., люди вынуждены были так поступать. Но теперь в России начинается свобода и проходят относительно свободные выборы в парламент и другие органы власти.
Многое в нашей стране объективно обусловлено многовековой историей Мы - страна евроазиатская, как бы к этому ни относиться Одно это уже показывает, насколько сложна наш ментальность, наша духовность, мы представляем собой достаточно противоречивое единство разных сторон человеческого духа
Литература"
1. АСульханова-Славская К А Социальное мышление личности, проблемы и стратегии исследования // Психологич. журнал. 1994, N 4, с. 39-55
2. Брушлинский А. В Субъект: мышление, учение, воображение М. 1996
3 Журавлев А.Л., Позняков В.П. Динамика межгрупповых отно-шэний в условиях изменения форм собственности // Психологич. журнал 1992. К 4. С 24-32.
4 Журавлев А Л . Позняков В П Социально-психологические трудности становления малого бизнеса в России // Психологич журнал 1993. К 6. с. 23-34.
5. Знаков В.В Правда и ложь в сознании русского народа и современной психологии понимания М 1993.
6. Психология личности в условиях социальных изменений. М. 1993.
7 Социально-психологические исследования межнациональных отношений. М 1993.
8 Шихирев П Н Динамика социально-психологического состояния российского общества // Психологич. журнал. 1993 N 3. с 141-151.
9. Unity of Diversity of Psychology // International Journal °f Psychology & Special issue (No 5), 1992, Vol. 27.
34
Проблема счастья в русском «еншалишете1
И. /..ДжиЭарьян
О счастье писали всегда, писали все поколения людей, во всех странах и культурах. Это один из тех вечных вопросов человечества, в отношении которых свои мысли высказывали не только философы и ученые, но и писатели и художники, деятели культуры и религии, известные политики и публицисты; вопросы счастья как вопросы о самом сокровенном и желаемом находили широкое отражение и в народном творчестве - в сказках и легендах, в многочисленных поговорках и пословицах, афоризмах и изречениях.
Несмотря на обширную и разножанровую литературу о счастье, созданную за долгую историю человеческих искании истины и стремления к счастью, на многие из поставленных в ней вопросов и сегодня нет удовлетворительных ответов. И Л.Н. Толстой бил во многом прав, когда писал о тщетности наших усилий давать ответы на вопросы, данные человеку "только для того, чтобы они вечно оставались вопросами". И хотя многие вопросы, считал он, будут "вечно" стоять перед человечеством, человечество вряд ли когда-нибудь откажется от попыток искать и находить на них ответы (17, с.96),
При научном анализе проблемы счастья сразу же обращает на себя внимание не столько то, как много сказано и написано на эту тему, скольто то, что сказано и написано так много противоречивого и даже прямо противоположного. Чрезмерный субъективизм в оценках и суждениях о счастье нередко порождали скептицизм в отношении возможностей его объективного, строго научного исследования (3,с,62). Многие из этих возражений и замечаний действительно имеют под собой реальные основания, поскольку сама природа счастья и его достижения весьма относительны. Тем не менее проблема счастья никогда не переставала быть предметом научных изысканий и специальных исследований, попыток дать четкие, точно сформулированные положения, отвечающие требованиям и критериям научности.
Особенно заметно возрос научный стутус этой проблемы со второй половины 60-х годов нашего столетия, когда в западной и прежде всего американской науке стали активно проводиться социально-психологические, в том числе и эксериментальные исследования различных аспектов счастья и удовлетворенности жизнью. В отличие от большинства работ предшествующих лет, содержащих преимущественно теоретическе рассуждения о том. что есть счастье и как его достигнуть, в этих эмпирических исследованиях акцент был сделан
выполнена при финансовой поддераве Российского Гуманитарного научного фонда (код проекта 95-06 - 1Т747),
35
лан на разработку и обоснование научного инструментария его исследования, предусматривающего специальные методические приемы, способные существенно снизить субъективизм индивидуальных суждений и достичь большей объективности исходных эмпирических данных.
В результате этих исследований, многие из которых проводились по Международным научным проектам , удалось получить достаточно большой массив конкретно-научных данных, позволивший увидеть не только общие тенденции и закономерности, но и некоторые особенности их проявления в разных странах к у разных народов.
К сожалению, наша страна не только не принимала участия во многих таких проектах, связанных с проблематикой счастья и жизненного благополучия людей, но не было практически и своих собственных исследований по этой тематике, в то время как во многих западных странах они уже давно и успешно проводились. Основная причина традиционных замалчиваний или "невнимания4 советской науки к определенным проблемам или даже целым направлениям исследований хорошо известна - они не укладывались в четко выстроенную в те годы систему идеологических и пропагандистских установок. И действительно, уже сама постановка вопроса о том, в какой мере счастливы или несчастливы люди в обществе победившего социализма, должна была показаться неправомерной с позиций этих установок, не говоря уже о перспективе получить негативные результаты на основе конкретных, социально-психологических исследований.
Ограниченность эмпирической базы для прямого сопоставительного анализа современных менталитетов наших народов по данному фактору сделало необходимым расширить рамки данного исследования и рассмотреть проблему счастья в аспекте русской культуры в целом, в связи с духовными традициями и национально-психологическими особенностями русского народа, самобытности его судьбы и исторического существования в мире. Б соответствии с этим и общая стратегия такого исследования ориентирова уже не на поиски того, что отличает русский народ от других народов и как бы демонстрирует его "инаковость" (это лишь вторая, как бы ""побочная , но не определяющая задача), а на выявление того, что является для него особенно характерным, наиболее типичным и глубоко укоренненным, а следовательно, и национально-индвидуальным в вопросах счастья. Это позволяет увидеть общечеловеческое не столько через призму отдельных различий, сколько через богатство его конкретных национальных форм, возвышающихся до общечеловеческих значений.
Такая постановка вопроса отвечает традициям русской философской мысли, для которой тема "русскости" (Н.Бердяев) - это не исключительности, особого предназначения или избранности
тема
русского народа, а тема его самобытности, исторических корней и Духовных оснований развития. И в этом отношении все народы равны. в более общем философском плане - это проблема соотношения кате-
36
горий всеобщего и особенного, то есть национального во всечеловеческом и всечеловеческого в индивидуальных формах национального. Как справедливо подчеркивал в своих работах Н.Бердяев, развитие и обогащение всечеловеческого достигается через глубину и богатство национальных индивидуальностей и культур и, наоборот. И другого исторического пути их развития нет и быть не может (4. 94).
Как известно, в российской истории тема национального самосознания и исторической судьбы народа возникала не раз, обостряясь в переломные эпохи социальных преобразований и общественных потрясений, глубоких реформирований и водоворотов. Одна из опасностей таких периодов, не без оснований считал Н.О.Лосский, сото-ит в том, что тяжелые года внешних и внутренних потрясений истощают силы народа и как бы ни был могуч его национальный характер и у него "в такие периоды может развиться недоверие к себе и опасная подражательность" (13, с.324).
Сегодня российское общество вновь переживает тяжелый период своего развития: страна поражена глубоким экономическим и нравственным кризисом; она на распутье, она растеряна. Никто не знает ни точных рецептов, ни четких ориентиров, ни своего будущего, но уже, к сожалению снова перечеркивается и игнорируется многое из того, что было нашим недавним прошлым и стало достоянием духовного опыта народа.
В условиях новых реформ с их четко выраженным поворотом в сторону ценностей западного образа жизни и торгово-рыночных отношений в общественной жизни, когда в стране развернлась "жвач-но-сник.ерская" реклама и с угрожающими темпами идет "вестерниза-ция" отечественной культуры, закономерным представляется интерес многих наших ученых к проблеме российско.-русского менталитета, к традиционным национальным ценностям, многовековому духовно-нравственному опыту народа. 06 этом свидетельствует, в частности, настоящая книга и наша скромная попытка рассмотреть проблему счастья в контексте российского менталитета.
В своем анализе мы опирались на самые различные источники, используя не только специальные научные работы и результаты конкретных эмпирических исследований, но и русскую художественную литературу и поэзию, включая и народное творчество, высказывания наших известных мыслителей, деятелей искусства и литературы.
* * *
Традиционная для русского сознания моральность с ее многосторонними и многотрудными поисками абсолютного добра и духовного смысла во всем, что затрагивает основы бытия и человеческого существования в мире, в полной мере обнаруживает себя и в отношении к счастью-несчастью. Однако, проблема для нас не просто в наличии этой моральной доминанты, в преобладании точки зрения духовно-нравственной над всеми другими в представлениях и рассуждениях о счастье, а в содержательных характеристиках самой нравственное-
37
ти, в раскрытии ее российской ментальное™.
Известно, что нравственная проблематика счастья в различных своих аспектах возникла и активно разрабатывалась в древнегреческой философии ( Платон, Сенека, стоики и др.).Однако, ее дальнейшее развитие, а также возможность огромного влияния на культуру и сознание европейских народов оказались непосредственно связанными с христианским вероучением. "Благословенны плачущие" - один из лейтмотивов Евангелия от Матвея, согласно которому счастье является сверхъестественным даром, заслугой за нравственные добродетели и прежде всего за терпение и кротость в борьбе с трудностями, за честность и справедливость, за лишения и страдания в земной жизни. Вместе с религиозным сознанием в этической проблематике счастья усиливалась тема аскезы, страдания, отказа от искушений и чувственных удовольствий.
Особенно сильньш оказалось влияние православного христианства - и для этого были свои причины, о которых мы скажем дальше -на формирование национального самосознания и характера русского народа, на его культуру, на весь нравственно-духовный облик. На протяжении тысячелетней российской истории православная идеология настолько органично переплелась с традициями, верованиями, умонастроением и мировосприятием народа, что дает основание многим авторам говорить не просто о русском, а о русско-православном менталитете. По крайней мере не вызывает сомнений огромная роль православия в формировании той системы представлений и чувствований русского народа, которые определили его жизненную философию счастья.
В рамках этой системы представлений о счастье - как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд - важнейшее значение принадлежит мотиву страдания, как той структуры сознания, которая несет в себе основной духовно-нравственный смысл. Счастье воспринимается не само по себе, не как отдельный и самодостаточный факт или сторона жизни, а в соотношении и через призму своих противоположностей - страдания и несчастья. Более того, все возможные радостно-счастливые состояния земной человеческой жизни даже как бы отодвигаются на вторые позиции, уступая первые места в этой цепочке понятий несчастью и связанным с ним переживаниям. Именно такие причинно-следственные отношения между счастьем и несчастьем просматриваются в большинстве русских народных пословиц и поговорок. Например: "Бояться несчастья - и счастья не видеть4, "Не бывать бы счастью, да несчастье помогло", "Кто нужды не ведал, и счастья не знает" и другие.
Все народы мира и во все исторические времена свои чувства и мысли, свои мироощущения и надежды выражали, как известно, через многие и самые разные вилы художественного творчества. Для русского народа наиболее традиционной формой такого самовыражения стала песня. Именно русская народная песня, в основе своей пе-
38
чальная и жалобливая. пронизанная "тоскою-кручиною, великой печа-лию" (5, с. 188), была мощным источником чувств, важнейшим энергетическим зарядом для творчества практически всех крупных фигур отечественной литературы и поэзии. А.С.Пушкин, изучая народные песни и отмечая их огромное влияние на всю свою поэзию, писал-"Вообще несчастие жизни семейственной есть отличительная черта во нравах русского народа. Шлюсь на русские песни: обыкновенное их содержание - или жалоба красавицы, выданной замуж насильно, или упреки молодого мужа постылой жене" (5, с. 185-186).
Позже о том же самом, но в более широком контексте, прекрасно скажет А.Н.Апухтин, специально посвятив русской народной песне одно из своих стихотворений:
Не могучий дар природы
Не монахи-мудрецы, -
Создавали вас невзгоды
Да безвестные певцы...
И как много в эгих звуках Непонятного слилось1 Что за удаль в самих муках. Сколько в смехе тайных слез!...
Годы идут чередою .. .
Песни нашей старины
Тем же рабством и тоскою
Той же жалобой полны ... {9 ,с.309-310). Поэтому совершенно логично, что в аналогичной эмоциональной тональности воссоздавали образ родины и многие поколения русских поэтов он несет на себе печать вековой бедности и страданий народа, его тяжелой исторической доли и больших жизненных испытаний. Для большинства из них - это не только и, возможно, даже не столько "разливы рек ее - подобные морям"."лесов безбрежных колыханье", "степей холодное молчание", "чета белеющих берез"и т.д., но и "дрожащие огни печальных деревень" (М.Ю.Лермонтов),"строения без крыш, разрушенные стены, и та же грязь и вонь, и бедность и тоска " (И С Тургенев), "вид угрюмых людей, вид печальной земли" (А. М.Жемчужников), где "беда из веки в века ... и обижен человек" (К.Бальмонт) и "несчастье шлялось под окнами как нищий на заре" (И.Бабель) и т.д.
В соответствии с этим поэтическим образом родного края, который предстает со страниц отечественной лирики, и в русской прозе, особенно в реалистической литературе XIX века, активно развивается и даже становится преобладающей тема несчастной человеческой судьбы, духовных и физических страданий, тоски и надежды на лучшую жизнь И она встречает живейший отклик у самых разных слоев российского общества, оказываясь созвучной общему мироощущению и настроению народа.
Так, В Г Белинский писал о "Бедной Лизе" Н М.Карамзина, что
39
она "сводила с ума всю публику" (10, с.33). Написанная еще в конце XVIII века, она повествовала о несчастной судьбе своих героев Ир несмотря на незамысловатость сюжета и простоту изложения, на протяжении двух столетий вызывала неизменный интерес у всех поколений российских читателей.
В контексте нашего исследования следует однако подчеркнуть, что "печально-страдательная" доминанта в судьбе многих героев русской прозы - это не трагизм шекспировских героев, поднятый до уровня мировых судеб и "кипения" земных страстей, и даже не драма человеческого существования в произведениях многих европейских авторов. Это несколько другая, со своими "русскими* изломами и перегибами, несчастливость и неустроенность личного бытия, неблагополучие "души томящейся и ищущей", одновременно открытой и глубоко ранимой, охваченной мучительными переживаниями "своего бессилия перед необходимостью" (Достоевский), со своей "вековой тоской" (Блок) и "великой печалию", занятой поисками истины и правды, вечно сомневающейся и в то же время доверчивой и ошибающейся.
Другими словами, это не столько трагизм поступков, действия, прямого героического дела, сколько "скрытый трагизм бытия" (Н.Бердяев), "неудовлетворенность всем вообще существующим" (Е.Трубецкой) как временным, относительным и условным, трагизм невписанности в мировую гармонию, в универсальные духовно-нравственные законы жизни; и это скорее не трагизм на уровне рассудка, логики жизни и здравого смысла, а на уровне интуиции, внутренних ощущений и разладов.
Конечно, вековая нищета и бедность "земли русской", о которых так много сказано и написано в отечественной литературе и поэзии, где, по выражению поэта, "жизнь стонет раньше, чем родиться, и стоном пролагает путь" (9, с.300), не является каким-то "божьим наказанием" или проявлением национальных особенностей народа. Это не вина, а скорее его беда, в исторической судьбе которого проявилась такая "злая волюшка" как неблагоприятный расклад и совпадение прежде всего целого ряда объективных факторов и обстоятельств жизни. Главные из этих факторов и обстоятельств хорошо известны - многие из них были выделены и проанализированы еще в работах дореволюционны руских историков и философов (3,4,13,18). Однако традиция такого широкого "многофакторного" исследования была, к сожалению, прервана в советские годы как идеалистическая и ненаучная, а объяснительные возможности общественных наук, пытавшихся во всем увидеть проявление лишь законов классовой борьбы, производительных сил и производственных отношений, были по существу весьма ограничены. Но это уже другая, выходящая за рамки нашего исследования, проблема.
В контексте нашей темы важным представляется сам факт того, что объективно складывавшиеся для русского народа на протяжении столетий условия существования - исторические, территориально-ге-
40
ографические. природные, хозяйственно-экономические и др. - не давали ему никаких оснований для довольства и безбедной жизни, способствовали формированию таких особенностей характера, системы ценностей и мироощущения, которые определяли и его понимание и восприятие счастья-несчастья.
В частности, в свете этого факта многое объясняется в отношении того, почему "земля русская" оказалась столь благодатной для восприятия и укоренения на ней христианской идеологии, для которой центр тяжести в земном существовании человека представляется смещенным в сторону несчастья и, по образному выражению В.Татаркевича, является скорее "долиной плача", чем "садом ралос-
ТИ" (16, С.238).
В свою очередь, в русском Православии усиливается внимание к духовно-нравственным основаниям этого сдвига, развивается и обогащается христианская идея связи души и страдания: страдание наполняется глубоким духовным смыслом, начинает олицетворять подлинность человеческого бытия, истинность человеческой личности. И на протяжении веков разными путями и в разных формах развивается и укрепляется одна из самых основополагающих для русского сознания формула, которую гениально просто выразили по отношению к себе наши самые великие поэты:А. С.Пушкин - "Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать'45, с. 240); М.Ю.Лермонтов - "Я жить хочу! хочу печали любви и счастию назло"(12, с.141).
Своего высшего художественного воплощения тема "страдающей души" и связанные с ней идея и убежденность в том, что страдание есть проявление души, а следовательно, и самой жизни, что оно есть "светитель" и ее истинная основа получили, как известно, в творчестве Ф. Достоевского, одного из самых глубоких исследователей "тайн"человеческой личности вообще, "русской души", в частности.
В системе жизненных ценностей русского народа страданию придается благостный, нравственно-очищающий и духовно-возвышающий смысл: им определяются общая душевная отзывчивость человека, его способность воспринимать не только собственное, но и чужое горе, проявлять сочувствие и сострадание к другим людям, готовность оказать им помощь в трудные минуты жизни. О том, что значит для русского человека чувства сострадания и сочувствия прекрасно сказал И.С.Тургенев. Обращаясь к московским студентам, выразившим ему глубокое признание и поклонение в связи с его чествованием в 1879 году, уже стареющий и умудренный большим жизненным опытом писатель сказал: "я ... горжусь и осчастливей этим сочувствием,... это сочувствие есть высочайшая, единственная награда, после которой уже ничего не остается желать" 19,с.335).
Обостренное и повышенное внимание к печальным сторонам жизни в сознании и мировосприятии русского народа определили, в свою очередь, весьма скромные позиции в них счастья и его составляю-
41
Счастье чаще всего воспринимается как мечта, как идеал -"счастия искали, счастья не нашли" (К.Бальмонт) - или, в лучшем случае, как отдельные мгновения и быстротечные эпизоды жизни -"радость короткая" (С.Есенин), которые трудно и невозможно удержать. Сознание как бы противится иллюзорности и мимолетности состояний мирского благополучия и переживаний радости: "счастью не верь - а беды не пугайся" - по житейски мудро и по-доброму наставляет русская народная пословица. Оно как бы опасается возможных противоречий и "столкновений" с собственным нравственным чувством, которому эмоционально ближе и интуитивно понятнее как общая "мировая скорбь", так и печаль конкретной человеческой жизни.
В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что в рамках русского менталитета очень значимой и актуальной оказалась такая сложная и неоднозначная проблема как проблема счастья и вины, проблема морального права быть счастливым.
И действительно, почему в жизни нередко случается так, что присутствуют, казалось бы, все внешние атрибуты счастья, достигаются все поставленные цели, реализуются все возможные и невозможные желания, но счастливым человек, увы, не становится? И здесь многое объясняется внутренним моральным чувством.
Уже Н.М. Карамзин в своей исторической повести "Марфа-посадница, или Покорение Новгорода" в заостренной форме и на конкретном российском материале поставил эту проблему, соединив между собой счастье и вину, которая им порождается. "Благоденствие Новгорода", когда "Россия бедствует - ее земля обогряется кровию, зеои и грады опустели, люди, как звери, в лесах укрываются, отец ищет детей и не находит, вдовы и сироты просят милостыни на рас-путиях" - такой упрек городу делается со стороны россиян и он "в сей вине не может оправдаться". "Так, мы счастливы - и виновны, ибо дерзнули повиноваться законам своего блага", - обвиняют сами себя смелые и вольнолюбивые граждане Новгорода, понимая моральную неправомерность своего счастья и процветания (10,с.181).
Подлинных высот своего национального осмысления проблема моральной правомерности счастья достигает у А.С.Пушкина, в его "Борисе Годунове". И снова рефреном звучит такое привычное для русского сознания "счастья нет11, но уже в устах самого могущественного на Руси человека - царя.
Достиг я высшей власти; Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счатья нет моей душе...
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет ...
Ах! чувствуй: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
42
Ничто, ничто .. едина разве совесть
(14 .с 207-208)
В рамках нравственного типа отношения к счастью, который веками формировался в недрах русского сознания и составляет привлекательную и ценную национальную черту нашего народа, ясно просматривается механизм своеобразного "дистанцирования11 или даже "боязни" счастья. Он связан прежде всего с чувством внутренней неловкости и психологического дискомфорта из-за того что многие другие люди несчастны и страдают, в то время как тебе хорошо и ты счастлив. Человек как бы стесняется своего счастья, если кому-то рядом плохо и тяжело Нередко такая рефлексия нравственного сознания осуществляется бессознательно и возникает парадоксальное и трудно объяснимое состояние, когда ты как бы несчастлив своим счастьем.
На эти проявления нравственного сознания во всей их противоречивости и сложности обратил внимание К.Бердяев, занимаясь "самопознанием" Говоря о русских чертах своего мировосприятия, он, с присущим ему мастерством тонкого психолога и глубокого аналитика, не раз возвращался к мысли о том, что "всегда боялся счастливых, радостных минут", что именно в эти минуты с "с особенной остротой вспоминал о мучительности жизни" ( 3, ,с.46). "Более того, - продолжал он свои наблюдения и размышления над этими особенностями своего жизнечувствия. - мне часто думалось, что я не хочу счастья и даже боюсь счастья Всякое наслаждение сопровождалось у меня чувством вины и чего-то дурного" (3, с 62).
* * *
Возникает естественный вопрос: имеются ли в современном российском обществе, точнее, проявляются ли у наших граждан в их отношении к счастью-несчастью в качестве некоторого общего свойства национально выраженные черты и особенности, на которые мы обратили внимание в своем анализе? Или все уравнялось и стерлось под влиянием новых процессов общественной жизни?
Мы полагаем, что для положительного ответа на первый из поставленных выше вопросов у нас все же есть достаточные основания.И это не только отдельные наблюдения, свидетельства, высказывания и Т.д., но и конкретные, хотя и ограниченные научные и эмпирические данные, подтверждающие этот общий вывод Сошлемся на некоторые из них.
Так, при внимательном анализе содержания многочисленных интервью с нашими известными и менее известными соотечественниками, нельзя не обратить внимания на такой, например, факт, что в отличие от своих зарубежных коллег, особенно американских, многие из них при ответе на традштяонный для интервью вопрос "Счастливы ли Вы?1 стараются смягчить категоричность своего утвердительного ответа и говорят об этом без торжественных интонаций, более приглушенно и даже уклончиво. Как выразился один наш известный публи-
43
цист, быть счастливым у него "совести не хватает". Поэтому более естественно для него сказать, что он "не несчастный человек" (11,
с А).
В этой связи вспоминаются очень искренние и яркие по своей
созвучности высоким духовно-нравственным традициям русской классики признания нашей замечательной народной актрисы Ф.Раневской: "Мне было бы стыдно иметь деньги, бриллианты, сберкнижки, -как-то сказала она. Стыдно, я не могла бы ... Знаете, в чем мое богатство? - В том, что оно мне не нужно" (15, с. 9).
Важными для нас в этом вопросе стали и собственные наблюдения в процессе проведения экспериментального исследования, когда на вопрос "Счастливы ли Вы?" многие наши испытуемые, рядовые граждане страны, вместо прямого отаета "Да. я счастлив(а)", предпочитали для себя более смягченный вариант ответа, например, "Я скорее не несчастный человек" (15).
Наконец, имеются и более достоверные в научном отношении данные, которые наряду с уже приведенными, дают основание говорить о национальных особенностях восприятия счастья-несчастья в современном русском менталитете.
Как отмечают многие зарубежные исследователи, существует тенденция к преувеличению "счастливых ответов" (1 ,с.ЗО). С точки зрения западного образа жизни и его менталитета, особенно американского, такая тенденция вполне закономерна и понятна: здесь надо быть счастливым, надо постоянно "чувствовать себя на высоте" и всегда улыбаться. И неважно, как на самом деле обстоят дела и что в это время происходит у тебя внутри. В противном случае можно быстро потерять необходимый кредит доверия и уважения со стороны сослуживцев и знакомых, потерять шансы на успешную карьеру и высокое положение в обществе. "Несчастливцы" вряд ли могут рассчитывать на снисхождение или хотя бы на равное к себе отношение по сравнению с теми, кто более благополучен и у кого все "о'кей". Известно, например, что у работодателя часто не оказывается мест для несчастливцев (1). Учитывая эти обстоятельства, некоторые исследователи, особенно американские, нередко даже в ущерб научности, предпочитают не включать в свои опросники пункты, в которых респондентов просили бы оценить степень их несчастливое™.
В отношении российского общества и его граждан подобные опасения не представляются актуальными, а соответствующие вопросы не имеют травмирующего контекста Такой вывод обоснован следующими
соображениями, основанными на результатах эмпирических исследований.
Прежде всего обращает на себя внимание высокий процент неудовлетворенных жизнью людей, который фиксируется социологическими опросами последних лет. По данным ряда таких опросов в среднем до 5* _наших соотечественников в той или иной мере не удовлетворены своей нынешней лшзньв и материальным благополучием, живут без на-
44
дежды, не имеют идеалов, не уверены в завтрашнем дне. испытывают напряжение, раздражение, тоску, страх и другие отрицательные чувства (7) .
Эти показатели значительно выше тех, которые выявляются в зарубежных опросах и исследованиях. Сошлемся на очень выразитель ные в этом отношении результаты одного такого исследоваш. которые привела недавно социолог О.Здравоныслова в своем выступлении по Российскому радио в передаче "Боритесь за свои права" от 6 марта 1996 г. Так, наша страна по количеству несчастливых в личной жизни людей оказалась непревзойденным лидером, оставив далеко позади себя Англию, Францию и США В то время как 42% опрошенных россиян считают себя несчастливыми, среда англичан таких оказалось всего IX а несчастливых американцев вообще не оказалось.В этой связи интересно отметить, что по объективным показателям чувствовать себя несчастливыми в личной жизни у россиян отнюдь не больше оснований, чем у тех же англичан, американцев или французов Известно, например, что не только у нас, но и в этих западных странах почти половина супружеских пар разводятся, причем во .многих семьях конфликты сопровождаются рукоприкладством (1,с 222). Поэтому вряд ли большинство из этих людей действительно счастливы.И хотя по объективным показателям между нашими странами нет принципиальной разницы, разница в количестве положительных и отрицательных ответов огромная. Причина, конечно,в чем-то другом и мы к этому вопросу вернемся позже.
По данным нашего собственного исследования средние значения по показателям общей удовлетворенности и счастья также являются недостаточно высокими, значительно уступая тем, которые были получены в аналогичных исследованиях зарубежных авторов (7).
Конечно, высокий процент несчастливых и неудовлетворенных жизнью людей в нашей стране, по сравнению с западными, было бы проще всего объяснить объективными факторами - низкий уровень жизни, моральный и духовный кризисы общества и т.т Влияние объективных факторов на удовлетворенность жизнью действительно является существенным, но далеко не самым главным. Более того, для западных стран с высоким материальным достатком за последние 20-30 лет отмечается ослабление этого влияния. В среднем на долю этих факторов, по данным ряда американских исследований, приходится не более 15% всех различий в субъективном благополучии (20,
р 558).
В свою очередь, некоторые кросс-культурные исследования, а также проводимые институтом Гэллапа международные обзоры по разным странам и регионам (как уже отмечалось, наша страна ни в одном из них не представлена) не показывают значимых положительных корреляций между уровнем экономического благосостояния народов этих стран и ощущением счастья (1, с.152) Так, уже в 1976 году неожиданно для самих исследователей было обнаружено, что латиноа-
45
мериканцы, живущие на грани нищеты, более счастливы, чем европейцы, в то же время среди европейских стран, входящих в Европейское экономическое сообщество и по экономическим показателям благополучия своих граждан находящихся примерна на одном уровне, имеются существенные различия в субъективных показателях счастья. Выяснилось, например, что более всего удовлетворены своей жизнью бельгийцы, датчане и голландцы, в то время как у французов, итальянцев и немцев этот уровень самый низкий.
Поэтому логично предположить, что на показатели субъективного ощущения счастья и удовлетворенности жизнью людей, живущих в разных странах, существенное влияние оказывают культура и традиции этих народов, у которых в процессе совместного исторического существования и других факторов сформировались некоторые общие представления о счастье-несчастье, определенный уровень жизненных запросов, свои различия в точках отсчета, оценивания и сравнений.
В отношении российских традиций и российского менталитета наиболее важной представляется нам присущая им доброжелательная тональность при восприятии несчастья и тех, кто несчастен. В этом восприятии нет никакого осуждающего или унижающего контекста, каких-либо намеков на неполноценность или ущербность личности.
"Бояться несчастья - счастья не видеть", "Беда вымучит, беда и выучит", "Тебя н накажут, тебя и пожалеют" - в этих нравственно-практических предписаниях руских пословиц обобщен жизненный опыт народа, много пережившего и перестрадавшего за свою тысячелетнюю историю, познавшего вековую нужду и другие тяжелые испытания судьбы и научившегося достойно и как бы по-доброму относиться даже к несчастью.
Благожелательный тон русского человека к несчастью обуславливал и, в свою очередь, обуславливался тем главным смыслом, который всегда был преобладающим в представлениях нашего народа о очастье-неочастье и остается по существу таким и сегодня. Этот смысл связывается прежде всего и главным образом с пониманием несчастья как удара судьбы, как проявление беды, от которой никто не застрахован. Как известно, само слово "счастье" в русском языке происходит от корня "часть", т.е. удел, судьба. Соответственно, несчастье - это не удел, не судьба. Однако одновременно просматриваются и некоторые различия. Так, если достижение счастья еШе может связываться с какими-то усилиями и заслугами самого человека, то в несчастье эта личностная компонента практически всегда отсутствует.
Понятно, что доброжелательно-сочувственная тональность русского сознания к несчастью определила и свойственную русским людям откровенность в отношении к своим бедам и страданиям.которые обычно не скрываются от других. Русским людям свойственна привычка, "поведать" о своих несчастьях, рассказать о своем горе, не сомневаясь при этом, что их поймут и поддержат. Мотив сочувствия
46
глубоко укоренен в русском менталитете и в качестве некоторой общей тенденции остается в нем, бесспорно, и сейчас.
По нашим наблюдениям и некоторым другим свидетельствам (в том числе и по тому большому числу отрицательных утверждений, которые фиксируют соответствующие опросы) и в современном российском обществе люди не испытывают сколько-нибудь глубоких комплексов, не встречают серьезных вн.утренних барьеров при ответах на вопросы о своей несчастливое™ и неудовлетворенности жизнью, в большинстве случаев они отвечают на эти вопросы достаточно открыто и прямо, не прибегая даже к смягчающим формулировкам отрицательных утверждений. И в отношении российской ментальное™, в том числе и современной, нет никаких оснований говорить о какой-либо тенденции занижать свою несчастливость. Скорее даже наоборот.
* ж *
Выделенная в нашем анализе ассиметрия з соотношении счастья-несчастья, которая объективно сложилась в исторической судьбе русского народа, закономерно ставит вопрос о том, в какой форме и как отразилась она на его характере и особенностях мировосприятия? Не сделала ли эта" многострадальность и жертенность земли русской", о которой говорил Н.Бердяев (4, с.34), наш народ менее жизнелюбимым? Не снизила ли общую восприимчивость и способность в полной мере радоваться и наслаждаться жизнью?
Возможность такого влияния на протяжении тысячелетней российской истории, конечно, была, исключать ее у нас нет оснований, но определить и обосновать чрезвычайно сложно. Впрочем, это не столь важно и в данном случае не имеет принципиального значения. Поэтому ограничимся в зтом вопросе ссылкой на одно авторитетное замечание Н.Бердяева, сделанное им, правда, по другому поводу, что "русские почти не умеют радоваться", что они "совсем почти не знают радости формы" (4 ,c.65).
Более интересной и важной представляется нам другая версия возможного влияния "дефицита" счастья на некоторые особенности русского менталитета, хотя сама она может показаться не совсем традиционной и в чем-то даже неожиданной.
Правомерность и реальность этой версии мы связываем с проявлением общепсихологических механизмов компенсации и возмещения, благодаря которым обеспечивается, как известно, жизнеспособность живых систем, достигается необходимый баланс сил, происходит взаимозаменяемость функций и свойств, возникает возможность уравновешивать недостатки и ограничения в одном преимуществами и достоинствами в другом. Поэтому логично предположить, что веками продолжающийся "недобор" счастья в жизни народа при наличии естественной потребности радоваться "здесь и сейчас" не могли не отразиться на развитии у него таких качеств и структур психики, которые были бы способны компенсировать эту недостаточность, были бы
4?
источником положительных змоций в реальной зкизни, необходимой "подпиткой" для жизненных сил и стойкости духа
Такими свойствами и структурами психики могли быть прежде всего оптимизм1 с его устремленностью в завтрашний день, надежда-да и мечтой о более счастливом будущем, а также стремление к смыслу жизни, без которого для русского сознания нет счастья
Страной "пророческих предчувствий и ожиданий" называл Россию Н Бердяев (4, с.30). народ которой должен был, как писали русские поэты, сохранять "в сердце радостную веру средь кручины злой" (4, с 189), должен был "силами мечты воссоздавать и дорисовывать" че го он не имеет (с.301). Н В.Гоголю в русской народной песне слышалось " стремление? унестись куда-то вместе со звуками, а не привязанность к жизни и ее предметам" (6, с 321) И не случайно образ России как целого явился ему в образе бешено скачущей тройки, которая "мчится, вся вдохновенная Богом"
Е.Н Трубецкой, размышляя над духовным смыслом древней русской иконописи, особом и единственным в мире искусстве, справедливо увидел в ней не только выражение "бесеггредельной" и "бездонной глубины скорой существования", но и ту "великую радость", в которую претворяется скорбь: то и другое в ней нераздельны (18, с 277). "Но есть в этой иконописи и что-то другое, - заключает он свои размышления, - что преисполняет душу бесконечной радостью. -это образ России обновленной, воскресшей и прославленной Все в ней говорит о нашей народной надежде, о том высоком духовном подвиге, который вернул русскому человеку родину" (18, с.290).
Таким образом, есть убедительные основания говорить о том, что оптимизм, как и потребность смысла жизни являются одними из тех наиболее ярких и глубоко укорененных черт русского народа, составляющие во многом стержень и своеобразие его культуры, в развитии которых значительную роль сыграл фактор счастья-несчастья, как он объективно складывался в жизни и исторической
!Распространенное в литературе и в обыденном сознании мнение, что счастливые люди всегда оптнинсты или по крайнее мере более оптимистичны и наоборот (22 ) не может слу-■киц з данном случае контраргументом, поскольку не подтверк-Даетея современными эмпирическими: исследованиями Например, сравнивая уровни оптимизма людей живущих в разных странах (21), с данными по счастью и общей удовлетворенвостк жизнью, полученными в других кросс-культурных исследованиях (на которые уц-: сылн ссылки еыие) мы получили весьма пеструю и неоднозначную картину В частности оказалось что по числу каииенее опгиинстичесжи настроенные граждан в числе первых оказались Бельгия Дания а также Голландия, т е как раз те страны, которые лидируют и. по числу самых сч&стяивих в Европе люден
судьбе народа.
Подведем некоторые наиболее общие итога
Исследование показало, что представления и отношение русского народа к счастью-несчастью имеют свои особенности, которые формировались в сложной и трудной исторической судьбе Российского государства и жизни народа. Они составляют неотъемлемую часть его менталитета, в значительной степени определяя своеобразие духовной культуры и национально-психологических черт русских людей
Литература.
I Аргайл М. Психология счастья. М , 1990. 2. Бальмонт К. Избранное. М.. 1980.
3 Бердяев Н. Самопознание. М.. 1990.
4. Бердяев Н Судьба России М., 1990.
5. Берестов В.Лестница чувств. Солнце нашей поэзии.М.. 1989.
6. Гоголь Н. В. Собр соч. в 7-и томах. Т.6. М., 1986.
7 Джидарьян И. А..Антонова Е. В. Проблема общей удовлетворенности жизнью- теоретическое и эмпирическое исследование. Сознание личности в кризисном обществе. М., 1995, с7б-Э4.
8. Достоевский Ф Преступление и наказание, и ,1974.
9 И будет вечен вольный труд . Стихи русских поэтов о родине М., 1988
10. Карамзин Н М. Записки старого московского жителя. М., 1988.
II Кучер С. да.15 09 1990
Лермонтов
12. Т 1.М. .1970.
13 Лосский Н.О
14 Пушкин А С Т. 5. Л. ,1978.
Раневская Ф Татаркевич
Бовин не любит стрелять Комсомольская прав-Избранные сочинения в двух томах.
И Ю
м.
л.
15
16
1981
17 18 19 20
Условия абсолютного добра М., 1991. Полное собрание сочинений в десяти томах.
Мне нужен XIX век Куранты 11.06 93. В 0 счастье и совершенстве человека.
i960.
Толстой Л н Собр соч в 20-и томах.Т 19. М Трубецкой Е.Н Смысл жизни. М., 1994. Тургенев И.С. Сочинения в 12-ти томах. Т. 12. М., 1986. Diener E Subjective Well-Being. Psychol. Bulletin. 1984, V.95, КЗ, Р. 542-575.
21. Micnalos A C. Optimism in thirthy countries over a decade Social Indicators Research. 1988, v.20, P. 177-180.
22, Wilson, W. Correlates of avowed happiness Paycliol Bullet 1987, V.67, p 294-306.
49
Некоторые особенности генезиса и структуры индивидуального сознания1
А. К.Слаеская
Существующие в отечественной психологии определения сознания опираются на совершенно различные основания, которые в силу этого трудно совместимы, во-первых, и совершенно не привязаны к личностному основанию, во-вторых. С.Л.Рубинштейн в работе "Человек и мир" 3] доказал необходимость преодоления абстрактного, оторванного от человека рассмотрения сознания. Этот важнейший философский тезис распространяется и на соотношение сознания и личности, но в психологической литературе в лучшем случае сама личность определяется как "носитель" сознания, но не сознание определяется по своей роли в жизнедеятельности личности.
Уже в "Основах общей психологии" 4] выстроил некоторую классификацию разных аспектов и определений сознания, в которую включил его антропогенетические, культурно-исторические, онтогенетические и другие характеристики, дифференцировал его качества как процесса и образования, а позднее - 8 "Бытии и сознании" 5] - как идеального и субъективного.
Продолжая это направление исследований, мы предпринимаем попытку рассмотреть комплекс некоторых определений сознания, которые связаны с генезисом личности, т.е. определить его, исходя из личностного основания. Следуя генетическому принципу очевидно, что первичным является уровень бессознательного, который наследуется и проявляется сразу при рождении индивида. Мы предполагаем, что понятие "наследования" должно быть расширено, а его механизмы прослежены по крайней мере по двум направлениям: линия "наследования" - 1) от предыдущего поколения в целом и 2) непосредственно от родителей. Именно в момент рождения ребенок уже обладает не только характеристиками homo sapiens, но и особенностями, которые К--Г. Щг назвал коллективным бессознательным, а на современном языке условно можно назвать социально-психологическим кодом. Это бессознательное обнаруживает себя в повешенной избирательности к социуму. Вторая (индивидуальная) линия наследования имеет два основных "канала". Первый - общеизвестный генетический механизм. обеспечивающий сходство данного индивида по определенным показа-
выполнена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного научного фонда (код проекта 94-06-19751).
50
телям с одним из родителей (или обоими). Второй канал и механизм "наследования" не генетический (как, например, наследование способностей), а функциональный: наследуются благоприобретенные качества родителей (например, характер).
Можно предполагать, что этот первичный "слой" бессознательного, заложенный по индивидуальному и коллективному каналам наследования, составляет основу первичной предрасположенности индивида к определенному способу соотношения с миром.
Далее начинает складываться слой бессознательного, который связан с самым первым этапом функционирования индивида, т.е. началом его соотношения с миром - встречей с ним. Долгое время считалось, что индивид представляет собой некоторую, уже противостоящую миру субстанцию, "сосуд", в который вливается "молоко культуры и цивилизации". Как показал В.И. Слободчиков 61, новорожденный, грудной ребенок это телесно обособленное, но психически нерасторжимое единство с матерью. Мать передает ему свои психические способы взаимодействия с миром. Она выступает для него по крайней мере в трех ипостасях - 1) обращенной на него; 2) вместе с ним и 3) сама по себе отдельно - как его действительность. "Задача" первого этапа его жизни - постепенное ослабление этого единства, а не только задача усвоения первых навыков человеческого поведения и образа жизни.
На наш взгляд, огромным заблуждением является попытка определения индивидуального сознания как миниатюры социума, а его развития - как интериоризации, усвоения и отражения. В основе развития индивидуально-личностных форм бытия и потому сознания лежит не только согласование, но и противоречие с социумом. Фрейд оказался единственным психологом, который подчеркнул не подобие, не приспособление индивида к социуму, не их гармонию, а их противоречие. Причем это противоречие развертывается и по линии соотношения индивида с миром, и по линии его соотношения со своими истоками - родителями. Он считал, что здесь - в детстве - закладывается сексуальное основание бессознательного, связанное с первичной человеческой потребностью продолжения рода, но одновременно как основание личности. Не вступая с ним в дискуссию по этому специальному вопросу, мы считаем, что число противоречий еще более значительно. Вероятно, возникает противоречие между унаследованными от родителей генетическими особенностями, способом функционирования и условиями этого функционирования, или между генетическими и благоприобретенными особенностями. И", наконец, острейшее противоречие может возникнуть между чертами, совмещенными
51
в одном индивиде Именно совокупность этих противоречий приводит к появлению того, что М.И Лисина назвала пра-личностью, связав ее, правда, только с общением.
Итак, кроме слоя унасладованного коллективного, родительского и врожденного индивидуального бессознательного возникает слой функционального бессознательного, противоречия которого приводят к возникновению неосознаваемого основания личности, с началом функционирования индивида связано множество линий его развития - линия становления его человеческой чувственности - человеческого способа чувствования, переживания, которая всегда оставалась в тени, на заднем плане исследователей, интересовавшихся исключительно приобретением культурных "навыков", здесь прослеживается линия его сексуального развития (уже не в смысле Фрейда), а мужско-женской идентичности и маскулинности-фемининности психического склада. Здесь же находятся истоки формирования "Я" концепции, в которой как раз природное, телесное и психическое первоначально не дифференцированы.
соотношение с родителями - прежде всего - закладывают уже не бессознательные, но неосознаваемые способы интерпретации этого соотношения - ребенок повелитель домашнего царства, в силу чего расцветает и ежедневно подкрепляется величие своего "Я". Или ребенок - лишь зритель, бесправный участник сложного семейного спектакля, ему отведена самая маленькая роль. "Я" - концепция первоначально, а иногда и запоздало - неосознаваема. Из аморфной композиции составляющих "Я" возникает структура, когда появляется ожидание, предвосхищение, проекция отношения ко мне со стороны родителей, насыщенное разной силой и разной эмоциональностью к отцу и матери. Постоянная смена то общности - "мы", то одиночества, проходящего в этом ожидании, подтверждает идентичность самого "Я", По-видимому отношение к другим первоначально представленное разными потребностями, слито с "Я". Но отставленность их удовлетворения и противоречия, с ним связанные, обостряют "Я"- переживания и "Я"- ожидания (экспектации).
Родители (особенно мать) не только удовлетворяют потребности Ребенка, не только вместе с ним взаимодействуют с миром, но и Учат этому, ограничивает его, придавая определенные Формы его активности, некоторые потребности не удовлетворяются (вопреки его требованиям), другие удовлетворяются о определенными ограничения-и и при определенных условиях. Это порождает особую потребность Б сад°стоятельности, в деятельности.
Формирование "Я"-концепции предполагает разрешение противоречия между обособлением и включением - в общение, в деятель-
52
ность, в различного рода ситуации. Но это противоречие развертывается и разрешается путем создания некоторого временно-пространственного континиума существования личности, ее "мира", сначала как мира детства, его значимых событий и переживаний. Именно и только по отношению к этому времени и пространству осуществляется первая из процедур осознания и интерпретация своего соотношения с миром. Смена кругов общения приводит, в свои очередь, к резким иногда сменам позиции "Я" в семейном мире, к противоречиям, которые становятся основанием появления и развития личности.
По-видимому, смыслообразование первоначально происходит именно в системе этих отношений (или взаимоотношений). Причем, это два одновременно сходящихся и расходящихся процесса: усвоение объективных значений социального мира первоначально не в форме понятий, а некоторых образов и представлений, как процесс структурирования мира, не зависящего от ребенка, с одной стороны, с другой - интерпретация своего соотношения с миром и создание некоторого субъективного пространства, которое приобретает своеобразные объективированные формы. Ребенок считает, что этот мир таков, каким он его видит. И именно в этом континиуме значимости происходит первое смыслообразовакие.
В концепции субъекта, разработанной С.Л.Рубинштейном, оообо важен тот момент, что кроме познавательного и деятельного отношения к миру, он выделяет еще одно, называя его созерцанием. Именно в созерцании определяется в широком смысле семантика, соотносительность, соотнесенность человека, субъекта с миром. Здесь устанавливается соотношение того, что относится в мире к данному субъекту (в отличии от всего, существовавшего объективно), и что он определяет как значимое для себя. Означая нечто как существующее для себя, субъект определяет конкретную систему жизненных, социальных и др. значений, создает свой собственный жизненный мир. Речь идет именно об идеальном конструировании такого мира, о создании определенной композиции значений как определенной функции осознания.
В свою очередь появление сознания - первоначально в форме внезапно и мгновенно и кратко наступающего осознания связано не только с механизмом объективации (Д.Н.Узнадзе) - т.е. с невозможностью осуществить действие на основе установки и его задержкой. На наш взгляд, первоначально осознание это особая степень концентрации психики, связанная с механизмом произвольности и воли. Осознание происходит не только в случае несоответствия, несовпадения способа действия субъекта с новыми условиями, но и в случае его собственной спонтанной активности, степень которой должна
53
превзойти нормальное течение неосознаваемой психики. (Следующая -классическая, общеизвестная стадия осознания связана с целепола-ганием, т.е. осуществлением деятельности).
у ребенка, таким образом, создается как бы две системы - образно отдаленная система значений и конкретный, относящийся именно к нему мир значшостей. Создание этого мира осуществляется неосознанно. И постольку, поскольку ребенку предстоит действовать в этом мире, конкретные смыслы могут оказываться связанными именно о мотивами как побудителями поведения и деятельности. Однако наиболее существенлщ то, что смыслообразование есть функция связанности личности с этим миром, неразрывности мира и субъекта, понятности всего происходящего Для маленького ребенка имеет смысл не только то, что он хочет сделать, но и то, что делает взрослый даже совершенно безотносительно к удовлетворению каких бы то ни было витальных потребностей. (Например, когда взрослый его шутливо щекочет, тормошит, подбрасывает в воздух).
Однако, чрезвычайно важно подчеркнуть, что сыыслообразующая функция сознания - в отличии от многих других - связана не только с разрешением противоречий, о чем выше шла речь, а именно с гармонией, соответствием, условно говоря, взаимопроникновением личности и ее мира.
Целеполагающая функция сознания, как известно, служит осуществлению деятельности, хотя многие психологи подчеркивали скорее предметную, чем личностную особенности целеполагания и самой деятельности t Личностная особенность целеполагания проявляется прежде всего в настойчивости личности, которую обычно замечают у взрослого человека. По-видимому, ее первичные формы возникают уже У ребенка и заключаются в способности удержания цели во времени, усилиях по ее достижению и т.д.
Целеобразование, цель как способность сознания представляет концентрированную до степени осознаваемое*™ точку перехода психики в сознание и действие. Первоначально осознание - это фокусировка психики, связаннная с механизмом произвольности и воли. А Цель - фокусировка, связанная с деятельностью. Но будучи осозна-На- цель начинает формировать, компановать весь контур деятельности, выполняя свою важнейшую регуляторную функцию.
По-видимому, цель составляет важнейшую ось, вектор, точку сознания, но и структурирует время и пространство деятельности.
