
- •План работы:
- •Триодология
- •Триодология
- •О Троице в век апостолов
- •Боговоплощение.
- •Если Иисус Христос не Бог, пришедший во плоти.
- •Анитринитарные ереси в послеапостольский период.
- •Учение апологетов о св. Троице и христология.
- •Система Павла самосатского
- •Выводы к 1-й главе.
- •Вопрос о происхождении арианства.
- •Александрийская версия
- •Арианство – продукт оригенизма
- •Антиохийское происхождение арианства.
- •Прот. Д. А. Лебедев об лукианизме, как источнике арианства.
- •Оригенизм как причина арианства.
- •Триадология Оригена
- •[Править] Заключение
- •Примечания Концевые сноски Список литературы
Александрийская версия
Самая древняя версия происхождения восходит к V веку129. Так, например, уже историк Сократ отмечает, что арианство зародилось именно «в Церкви александрийской», после чего оно и получило широкое распространение «по всему Египту, Ливии и верхней Фиваиде…»130.
Но здесь Сократ излагает скорее сам факт возникновения пожара131, но не говорит о его причинах. Действительно, как мы знаем, в 320 году, именно в городе Александрии пресвитер Арий обнародовал свои еретические воззрения на Божество 2-й ипостаси, и после непродолжительных дискуссий к нему присоединилось множество последователей, которые и образовали арианскую, а в последствии противоникейскую, партию. Хотя, конечно нужно согласиться с тем, что пожар возникает не на пустом месте, и как замечает проф. Гвоткин, арианство возникло именно в Александрии потому, что сама обстановка и сами «обстоятельства благоприятствовали там его процветанию больше, чем где-либо»132. Ведь к тому времени Александрия, стала, можно сказать, христианским научным богословским центром133, она была средоточием и выдающихся философов и ораторов своего времени, «Ярким блеском горела слава Александрийской церкви, богатой, знаменитой своею христианской наукой, ознаменовавшей себя замечательными победами над языческой ученостью, обессмертившей себя именами глубоких христианских философов»134. Поэтому в арианстве справедливо видеть, «прямой результат раннейших» богословских «движений и неизбежную реакцию языческих форм мышления против окончательной установки христианского понятия о Боге»135, ведь «Прямо или косвенно, путем непосредственного изучения философских сочинений или чрез посредство той суммы философских представлений, которая усвоена образованным обществом, христианские писатели становились в то или другое отношение к современной им философии и обыкновенно поддавались ее влиянию. Если учение церкви давало содержание их воззрениям, то философия была тою призмою, чрез которую оно проходило. Влияние философии не было только формальным: оно отражалось не только на языке, не только на форме изложения, но привносило нечто и в самое содержание учения церковных писателей. При этом нет необходимости предполагать, что эти привносные элементы заимствованы непосредственно из философии: ознакомившись с кругом вопросов, которые решала философия, церковные писатели с подобными же вопросами обращались и к церковному учению и в нем самом находили те пункты, в которых их воззрение соприкасается с философскими представлениями той эпохи, но находили эти пункты благодаря лишь тому, что усвоили от философии определенную форму воззрения»136. И с одной стороны, это благоприятно отразилось на развитии богословской мысли, с другой – мы видим огромную вереницу сект, которые, увлекаясь той же философией, впадали в крайности и порождали все новые и новые ереси, одной из которых было арианство.
Арианство – продукт оригенизма
Александрийская школа блистала своими выдающимися учителями и мыслителями, такими как, например, Климент и Ориген, а потому имела очень большую популярность. Благодаря им, она под своими сводами собирала множество «людей даровитых, с оригинальным образом мыслей, всегда готовых принять живое участие в общей богословской работе»137. Ориген, в свою очередь, был одним из первых, кто попытался систематизировать богословскую науку, в своих главных направлениях. Дидим называл его вторым после Павла. «Он есть отец церковной науки в широком смысле и вместе с тем основатель того богословия, которое развилось в IV-V в., а в VI в. Совершенно отвернулось от своего источника, не изменяя в сущности того направления, какое он дал ему. Ориген создал церковную догматику и он же заложил основание научному знанию иудейской и христианской религии. Он освободил христианское богословие от посторонних задач апологетических и полемических, сообщив ему самостоятельный интерес, положительное значение. Он провозгласил примирение науки с христианскою верой, высшей культуры с Евангелием»138. Созданная им богословская система, была первая в своем роде, и его имя пользовалось на Востоке высоким уважением до самого конца IV века. Этот логический и оригинальный ум воспитал многих мыслителей-богословов, среди которых мы можем встретить и великих святых, таких как свтт. Дионисий, Петр, Александр, Афанасий и др. алексадрийцы, свт. Григорий Чудотворец и многие каппадокийцы; так и ересиархов, как например, Евсевий кесарийский. Ведь не секрет, что кроме самих александрийцев, учившихся в александрийской дидаскалии, и которые в своем большинстве были, как и защитниками православия139, так и горячими почитателями творчества Оригена, и среди самих ариан были епископы, которые к богословию Оригена относились также с большим уважением. Свящ. Д. А. Лебедев называет, по меньшей мере, девять епископов, среди которых выделяются, кроме Евсевия кесарийского, имена таких епископов, как Павлин тирский, Патрофил скифопольский, Феодот лаодикийский, Наркис нерониадский, Македоний мопсуетийский, Таркондимант эгейский, Аетий лиддский и преемник Евсевия никомидийского на виритской кафедре Григорий140. Такое количество епископов-оригенистов показывает собой, что «едва ли какой богослов на востоке 2-й половины 3-го или начала 4-го века мог стоять вне всякой хотя бы косвенной или посредственной зависимости от Оригена. И тот бесспорный факт, что Арий был учеником Лукиана, не исключает никоим образом возможности прямого влияния на Ария со стороны Оригена»141. Об этом даже прямо говорит свт. Александр Александрийский в похвальном слове своему предшественнику по кафедре, александрийскому святителю Петру, что Арий, виновник этих богословских споров, учил «увлекшись заблуждением Оригена»142. Так же и свт. Епифаний Кипрский именно в Оригене видел источник арианского подчинения Сына Отцу143. Будучи субординационистом, в своих творениях он очень полемично относился к термину «единосущный»144. Исходя из бестелесности Божественного существа, - говорил Ориген, - Отец не может родить из Своей сущности Сына, так как последнее предполагало бы некую эманацию, что для Бестелесного противоестественно. Поэтому Сын если и рождается от Отца, то только как «хотение от воли» и не может быть с Ним одного и того же достоинства. Он даже прямо говорит, что молиться можно, в истинном смысле, только Отцу145. При этом он не отрицает Божественности прочих двух ипостасей, однако низводит их в подчиненное отношение к Отцу не только по ипостаси, но даже и по самой сущности, подпадая под сильное влияние субординационизма: «мы веруем Ему и говорим, что Спаситель и Св. Дух не сравнительно, а безмерно выше всех происшедших, но Отец настолько же или даже более превосходит Сына, чем и насколько Он и Св. Дух превосходит всех прочих, а не каких-нибудь… Он ни в чем не сравним с Отцом»146. И, несмотря на то, что он первый применяет в христианском богословии этот небиблейский термин «единосущие», однако он в его трудах не принял того богословского содержания, каким наполнили его свт. Афанасий и отцы каппадокийцы147. Избегая всякого эманатизма и антропоморфизма, он говорил о рождении Сына, как воли или хотения от мысли Отца. А так как Бог, по Оригену, и творит всегда, то возникал вопрос, не смешивает ли Ориген акт рождения Сына с актом творения мира. Ведь если Сын рождается от Отца всегда, как сияние от света, о котором нельзя сказать, что оно рождено один раз, то и творит Бог тоже всегда, и не было времени, когда бы Бог не был творцом. А отсюда, если Бог творил всегда, то в таком смысле можно сказать о любой твари, включая, по мысли Оригена, и Сына и Духа, а Ориген имел случай, пусть и однажды, назвать Сына творением, что, конечно же, дало повод тем, которые отчасти знакомы с его богословскими взглядами148, или развить это учение до ереси, или обвинить в ней самого Оригена, и, как пишет проф. Болотов, «едва ли не все древние писатели, относившиеся неблагоприятно к Оригену, утверждают, что он признает Сына Божия сотворенным»149.
Ввиду сказанного, можно действительно прейти к выводу, что богословие Оригена и было той основой, на которой было построено арианское учение о Логосе, и все приведенные высказывания, казалось бы, это подтверждают: вот здесь Ориген отрицает единосущие, там называет Логос творением. Но, такой вывод проф. Болотов называет поспешным. Он пишет, что «Если в полемике и высказывали, что учение Оригена есть источник арианства, то мы не в праве смотреть на подобные выражения как на приговор с исторической точки зрения: это была условная форма, под которой скрывалось чисто догматическое суждение»150. «Действительно, он называл Сына "созданием" () "происшедшим" () и, по-видимому, ставил Его в порядок тварей (). Однако несомненно, что, когда Ориген называет Сына , то всегда имеет в виду известное выражение Премудрости: "Господь создал Меня ( (вм. ) началом путей Своих". Смысл этого текста Ориген разъясняет таким образом: "Так как в этой ипостаси Премудрости (уже) заключалась вся возможность и изображение будущей твари и силою предведения было предначертано и распределено все, — и то, что существует в собственном смысле, и то, что относится к первому как принадлежность: то ради этих тварей, которые были как бы начертаны и предызображены в Самой Премудрости, Она чрез Соломона называет Себя созданною в начало путей Божиих, потому что Она содержит и предобразует в Себе Самой начала, формы или виды всей твари". Таким образом, план мироздания, предначертанный в целом и подробностях в Премудрости, мир, потенциально и идеально существующий в Ней, — вот та сторона, по которой Сын называется тварью. Очевидно, такого основания, как наименование Сына , недостаточно, чтобы сказать, что Ориген признает Сына тварью в том смысле, какой это слово получило после арианских споров»151.
Что касается слова ""152 и других однородных выражениях, которые также употребляет Ориген, говоря о Сыне, то, по всей видимости, он не отличал их от слова ""153, на что так же указывает и употребление им корня "", вмещающего оба значения, как рождения, так и происхождения. При этом, не смотря на замечания древних, что Ориген не различал "" от "" и, основываясь на том, что они имели все же не полную картину о представлениях Оригена, можно утверждать, что для него это были разные слова. Он пишет следующее: «Сотворен изменяемый мир, рожден неизменяемый Сын; тварь может удостоиться высокого имени "сына Божия", но это будет сын усыновленный, от вне прившедший; напротив, Сын Божий есть Сын по природе, а не по усыновлению. Субстрат всего в собственном смысле сотворенного есть небытие, ничто. Не смотря на то, что мир создан от вечности, он вызван к бытию из небытия, из ничтожества, и самым фактом своей изменяемости тварь доказывает, что она в самый первый момент своего существования прошла чрез эти глубочайшие противоположности бытия и небытия. Неизменяемый по Своей природе Сын, напротив, получил Свое бытие не из ничего; момент небытия не имеет места в Его существовании»154.
Наконец, говоря о единосущии, Ориген всего лишь делал попытку опровергнуть всякие антропоморфические и эманатические представления о Боге155. Проф. Болотов даже делает предположение, что возможно при православном освещении слова «¦moovsio~» Ориген стал бы на сторону его защитников. «Основанием для этого предположения служит то, что в данном случае взгляд Оригена на учение о рождении из существа страдает весьма заметною односторонностью: он видит в этом учении только попытку объяснить образ рождения Сына от Отца, но опускает из виду, что истинное значение этого учения состоит в том, что оно понятным для человеческой мысли образом представляет следствие рождения Сына, именно Его теснейшее отношение к Отцу, высочайшее единство с Ним. В первом смысле это учение представляется Оригену лишенным положительного содержания, но во втором, это воззрение имеет в себе такую многосодержательную сторону, что ее не может затмить даже самое грубое антропоморфическое толкование; между тем именно эта сторона и осталась вне круга представлений Оригена, именно с этой точки зрения он и не попытался осветить и оценить богословское значение формулы: Сын рожден из существа Отца»156.
Чаще всего он противопоставляет этой формуле выражение «Сын рожден по воле Отца». Но и здесь возникает вопрос, что именно он понимает под этим выражением? Ведь Арий с легкостью так же соглашался с этим выражением, так как и все сотворенное создано по воле Отца. Однако для Оригена воля есть нечто сущее, §n, а для Ария она не сущее - o8k §n; для первого она – реальность, для последнего – просто состояние. Рождение Сына для Ария есть факт совершенно новый, не имеющий никаких основ, никаких корней в предыдущем; ввиду аристотелевской философии, согласно Арию, абсолютно трансцендентный и недоступный для любой твари Отец, творит Сына, как промежуточное звено Между Ним (Отцом) и тем творением, которое Он замыслил сотворить. Таким образом, для Ария, Сын имеет случайный характер, и если бы не было мира, то не было бы необходимости и творить Сына. Для Оригена же Рождение Сына есть необходимое свойство Отца, так как если бы не было Сына, то Отец не мог бы называться и самим этим словом, а перемена из не рождающего в рождающего, из не-Отца в Отца недопустима для Неизменяемого и постоянного вечного Существа:
«Кто допускает, что Бог во времени стал Отцом Своего Сына, тот должен на чем-нибудь обосновать свое мнение. Возможны два предположения: если Бог не был Отцом от вечности, то или потому, что не мог, или потому, что не хотел родить Сына. Но для всякого очевидно, что и то и другое нелепо и нечестиво. В Боге, как вечно совершенном, нельзя предположить той физической невозможности, которая людям препятствует быть отцами с самого начала их существования; переход от невозможности к возможности был бы прогрессом в Боге, изменением. — "Но Он мог, но не хотел быть Отцом". Но это и сказать непозволительно: иметь Сына достойно высочайших совершенств божественной природы; для Бога благо — быть Отцом такого Сына; притом же и переход от нежелания к хотению был бы тоже изменением в Боге. Следовательно, Бог от вечности и может и хочет, как блага, быть Отцом, и для Него нет ни внешней, ни внутренней, ни физической, ни нравственной причины лишать Себя этого блага и отсрочивать рождение Сына. Сказать, что рождение Сына имеет начало, но довременное, значит не решать вопрос, а делать совершенно бесполезную попытку уклониться от него; потому что после такого ответа мы опять спросим: почему же Бог не был Отцом до этого довременного начала? Единственно верный выход из этих затруднений состоит в признании, что Бог всегда есть Отец Своего единородного Сына, что если и может быть речь о начале Сына, то лишь в смысле причинном, а отнюдь не в хронологическом. Сын рождается в вечном и безначальном "сегодня" жизни Божией, и найти (хронологическое) начало бытия Сына столь же невозможно, как и указать начало этого вечного дня жизни Божией»157. «Бог есть свет. Сын — сияние вечного света. Следовательно, как свет никогда не мог быть без сияния, так и Отец немыслим без Сына, который есть образ ипостаси Его, Слово и Премудрость. Возможно ли поэтому сказать, что некогда не было Сына? Ведь это значит не что иное, как сказать, что некогда не было истины, не было премудрости, не было жизни, между тем как во всем этом совершенно мыслится существо Бога Отца; это — неотъемлемые определения существа Его, и в них выражается полнота божества» 158, «а это отношение требует, чтобы мы рождение Сына представляли не как акт, предвечно, но однократно совершившийся и прекратившийся, но как акт вечно продолжающийся. "Не родил Отец Сына и перестал рождать, но всегда рождает Его. Посмотрим, что есть наш Спаситель. Он — сияние славы, а о сиянии славы нельзя сказать, что оно рождено один раз и уже более не рождается; но как свет постоянно производит сияние, так рождается сияние славы Божией. Спаситель наш есть Премудрость Божия, а Премудрость есть сияние вечного света. Итак, Спаситель вечно рождается от Отца, и потому говорит: 'прежде всех холмов Он рождает Меня', а не 'родил Меня'". Следовательно, рождение Сына есть акт не только предвечный, но и всегда настоящий, — generatio не только aeterna, но и sempiterna»159. «Если допустим, что Бог родил к бытию Премудрость, прежде не существовавшую, то в данном случае выйдет, что Он или не мог родить Ее прежде, нежели родил, или мог, но не хотел родить. Но этого нельзя сказать о Боге: всем ясно, что то, и другое предположение и нелепо, и нечестиво, в том и другом случае обнаруживается, что Бог или возвысился из состояния неспособности в состояние способности, или же – при предположении Его способности – Он медлил и откладывал родить Премудрость. Вот почему мы всегда признаем Бога Отцем единородного Сына Своего, от Него рожденного и от Него получающего бытие, однако без всякого начала, не только такого, которое может быть разделено на какие-либо временные протяжения, но и такого, какое обыкновенно созерцает один только ум (mens) сам в себе и которое усматривается, так сказать, чистою мыслью и духом (animo). Итак, должно веровать, что Премудрость рождена вне всякого начала, о каком только можно говорить или мыслить»160. Отец всегда «рождал Сына, и имел Премудрость во все предшествующие времена или века…»161.
Позже эту аргументацию возьмут себе на вооружение и святые александрийцы, и другие защитники Никейской веры.
Говоря конкретно о творческой силе Отца, то, по Оригену, «если бы не было мира, то Бог не имел бы только объекта для проявления Своего могущества и благости, но, несмотря на это, самое всемогущество Божие существовало бы уже актуально, как объективировавшееся в Сыне; но если бы не было Сына, то премудрость и истина не только не проявлялись бы, но и не существовали бы актуально»162. Напротив, понятие Ария о Боге было более просто, рассудочно ясно и содержательно: «Бог всесовершен даже мыслимый вне всякого отношения к Сыну, как mon9tato~; уже в Нем Самом актуально содержатся и премудрость и слово и все другие определения существа Его. Бытие Сына никаким образом не предрешается существом Отца, не предначертано в Нем, по крайней мере, с большею ясностью, чем существование самого мира; в таком понятии о Боге нет мотива для внутреннего самооткровения Его в Троице. «Сын не есть в Отце по природе: у Него есть другое, собственное слово существа Его и другая собственная премудрость, которою Он сотворил мир и это Слово», т.е. Сына»163, и те свойства, которыми обладает Сын, Он имеет только вследствие причастности Божества Отца, - Отец, как бы наполняет Сына этими качествами до тех пор, пока изменяемая воля тварного Сына сопричастна Отцу, и при возможности изменения свободной воли Сына, такое единство Его с Отцом может разрушиться, хотя по Оригену Сын неизменяем так же, как и Отец.
Однако, не смотря на существенные различия в богословии Оригена и Ария, у них все же есть и общие богословские положения, которые на первый взгляд могут показаться даже развитием оригенизма в арианстве. Так, ариане со всею решительностью отрицают истинное божество Сына: Он – Бог только по имени, обожествленный причастием благодати. Ориген был далек от такого резкого отрицания, но и он допускал, что Сын есть Бог обожествленный причастием божества Отца, что только Отец есть истинный Бог. Если Арий утверждает, что Сын во всех отношениях неподобен Отцу, то и Ориген говорит, что Сын ни в каком отношении несравним с Отцом; разумеется, этот взгляд Ария проводился в его системе последовательнее, чем у Оригена. Если, по Арию, Отец невидим для Сына, то этого мнения держался и Ориген. Первый думал, что Сын познает Отца по мере возможностей Своей природы, настолько, впрочем, ограниченных, что в совершенстве Он не знает даже Своего собственного существа, и Его познание о Боге никогда не возвышается до адекватных понятий; у Оригена нет и речи о подобном ограничении самопознания Сына; Он и Отца знает адекватно, и, тем не менее Отец сознает Себя выше, совершеннее, яснее, чем познает Его Сын, и даже план мироправления познается Сыном не во всех его подробностях с тою высотою, какою характеризуется абсолютное ведение Отца. Единства славы между Отцом и Сыном не может быть, по учению Ария; нет ее в строгом смысле и в учении Оригена: славить Сына совершенно так же, как Отца, значило бы сильно преувеличить славу первого; приносить Ему молитву в том же высоком смысле этого слова, как и Отцу, значило бы впадать в грех по невежеству. Единение Отца и Сына как Арий, так и Ориген, полагают в Их единомыслии и тождестве Их воли, хотя эти слова у последнего имеют смысл, бесспорно, более глубокий, чем у первого.
Эти на первый взгляд общие мысли, видимо, и послужили тому, что во время арианских споров на Оригена ссылались, как и защитники православия, так и еретики164. Именно они послужили образованию в самом арианстве партий омиусиан и евномиан165. См. сноску №141
По мысли проф. А. В. Карташева, арианство «родилось из смешения двух тонких религиозно-философских ядов, совершенно противоположных природе христианства: яда иудаистического (семитического) и эллинистического (арийского)»166. Для иудейского сознания этот яд заключался в крайнем монотеизме, исключающем Вторую и Третью Ипостаси из единосущных Лиц Святой Троицы. Первыми, кто стал на этот путь, были еще в I веке Керинф и евиониты, а во II веке – Феодот и Артемон. Скопир.на2 стр. «Для того чтобы удержать истину единства Божества, или, как тогда говорили, «единоначалия (monarcja)», которую тогда приходилось особенно отстаивать против языческого политеизма, и не признавать двух богов, эти так называемые монархиане находили нужным или отвергнуть истинное Божество сына Давидова, признать Его простым человеком, отличающимся от Господа, или, признавая Его истинным Богом, не отличать Его от Сына Божия и Бога от Бога Отца. Так получилось, с одной стороны, монархианство динамическое, видевшее во Христе усыновленного лишь Богом человека, в котором обитала сила Божия (dvnami~), как может она обитать и в других людях; с другой – монархианство модалистическое, по которому во Христе воплотилось и спострадало плоти единое и не заключающее в себе никаких различий Божество, получающее лишь различные наименования по различию способов Своего проявления»167. Многие ученые склонны утверждать, что именно динамическое монархианство и подвело Ария к тем крайностям, которые он защищал, даже будучи из-за этого сослан. Подтверждение этому они находят в словах свт. Александра Александрийского, который в письме Александру византийскому писал, что «вновь восставшее против церковного благочестия учение принадлежало сначала Евиону и Артеме и есть подражание Павлу самосатскому, епископу Антиохии»168, который был самым ярким выразителем этой ереси. Скопир на 2 стр.
Он хотя и представляет собой натуру широкую и весьма даровитую169, однако в своем стремлении примирить эллинскую философию и богословие, а также защитить единобожие от языческого политеизма не смог избежать крайностей, из-за которых еще при жизни был осужден как еретик. Так из его учения следовало, что Сын и Святой Дух всего лишь Божественные силы Монады, которые не имеют личностного самосознания, а существуют как Его свойства: ум и мудрость. Благодаря воздействию этих сил на человека Иисуса, последний смог достичь самой высшей и возможной для человека святости, и сделаться Сыном Божиим, но в таком же несобственном смысле, в каком и другие люди называются сынами Божиими170. Павел, в защиту своего учения, так же как и впоследствии и Арий, ссылался на авторитет апостолов, и «громогласно утверждал, что он следует исключительно апостольским догматам»171. Как пишет проф. А. Спасский, «Нельзя думать чтобы Павел намеренно прибегал ко лжи пред отцами собора». Вероятнее всего причиной заблуждения Павла Самосатского и оправдания на первых двух соборах против него стали не только его изворотливость ума, но скорее, тот факт, что никогда в истории Церкви так остро вопрос о Троице не ставился, и все руководствовались только переданной издревле верой и общими выражениями, которые были закреплены в крещальных символах, не имеющих точных определений, что в свою очередь, открывало дверь субъективизму в данном вопросе,172 когда философская мысль стала требовать обоснования кафолической веры.
При том, что Павел самосатский отрицательно относился к богословской системе и вообще к богословию Оригена, тем не менее, он часто прибегал к оригеновской терминологии. В его словах можно встретить даже такие термины как «¦moovsio~», «pρώσοπον» и «», которые у него имели свою смысловую окраску. Так, например, Павел соглашался с термином «¦moovsio~», при этом мысля Логос не как ипостась, а как неотъемлемое свойство Творца – ум, который, конечно же, Ему единосущен. Такое понимание этого термина естественно было отвергнуто Церковью и наложило свою печать слова нарицательного. И когда на Первом Вселенском Соборе по сговору еп. Осия Кордубского, свт. Александра Александрийского и свт. Афанасия Александрийского этот термин был предложен как определяющий судьбу собора, арианские партии, указывая на то, что этот термин не библейского происхождения и скомпроментирован употреблением его в гностических сектах, сослались на решение и Антиохийского собора 268 года, на котором он был отвергнут как еретический173. Так же в отношении и двух других терминов, которые он понимал в свете модалистского учения. Так, например слово «pρώσοπον» в применении к учению о Троице он понимал как выражение абсолютного единства – Бог, по его учению «единое лицо или единая ипостась»174 которая «имеет смысл в высшей степени точный и конкретный. Это такое единство, которое никак не могло развиться во множество»175. Не совсем ясно, что именно он понимал под абсолютным единством: единство существа или количественное единство личности в Боге. Может быть, он вообще говорил в категориях Филона Александрийского, который учил о Едином, как сверхпростом и непознаваемом существе? Ведь не исключено, что Павел Самосатский был знаком и с филоновским учением, вероятно благодаря изучению септуагинты и составленных к ней филоновским комментариям, которых было бесчисленное множество. Привлечь его внимание могло две вещи: 1) – метод его экзегетики – толкование Священного Писания с позиции или в рамках современной ему философии или философских взглядов или школ176, который во времена Павла Самосатского был как никогда актуален и 2) – иудаистский монотеизм, который исключал бытие трех ипостасей, и который очень импонировал монархианским взглядам177.
Приемником в учении Павла свт. Александр Александрийский считает пресвитера Лукиана, который был в свою очередь учителем Ария и многих его единомышленников: «вновь возставшее против церковнаго благочестия учение (…) есть подражение Павлу самосатскому, епископу Антиохии, преемник котораго (?) Лукиан…»178. Таким образом, Александр считает Ария и весь «собор» его прямыми преемниками Павла самосатскаго и Лукиана в главном пункте их учения ο происхождении Сына Божия из несущаго и, не считая нужным чемъ-либо доказывать свое мнение, выставляетъ его, какъ факт, не подлежащий сомнению и общеизвестный в его время. Насколько же соответствуетъ исторической истине обвинения Александра, направленныя на Ария и его сторонниковъ?
Ибо и александрийцы и антиохийцы опирались на Оригена
(см. ниже)
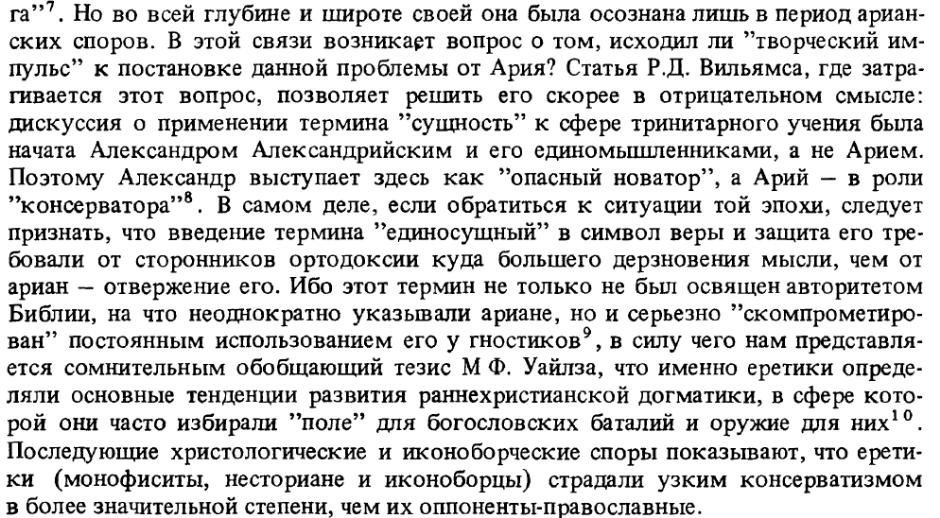
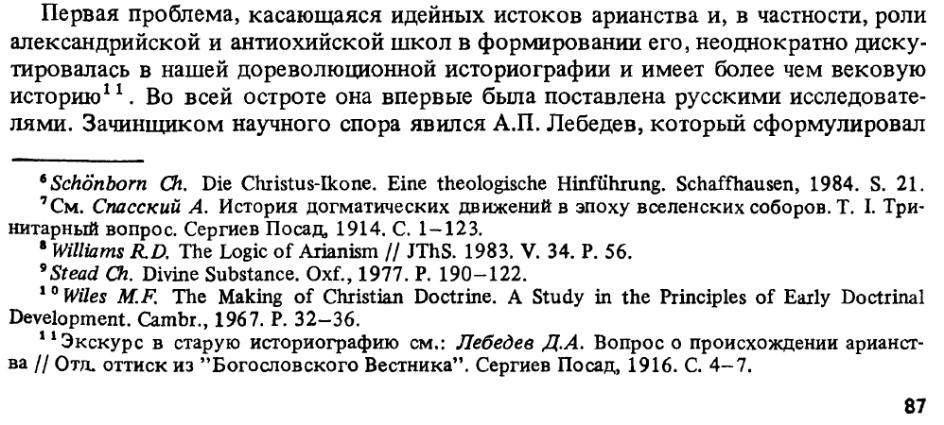
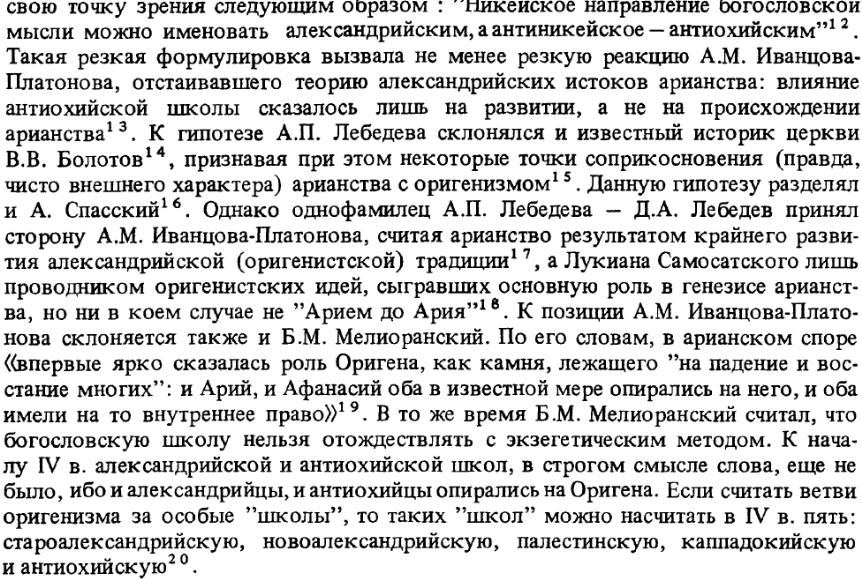
Вопрос о Христе и до Ария неоднократно беспокоил богословские умы. Он был тем, над чем преткнулись и первые христианские еретики — евиониты и гностики. Для евионитов Он был простой человек, для гностиков один из эонов, принявший призрачное тело, так как оно было от (из) противоположного Богу злого, нечистого начала, из материи. Вступившие с ними в борьбу мужи апостольские смогли победить докетизм, но однако они, почти буквально повторяя изречения Писания о Лицах Святой Троицы, не входили в подробное рассмотрение Их свойств и взаимных отношений179. Апологеты, пусть и первыми начали богословствовать о Божественных Ипостасях, однако, защищая против эллинов единобожие и не имея для этого прочной основы180, впадали в крайности, умаляя Божественное достоинство Второй Ипостаси - впадали в субординационизм. Учение о Христе и принесенном Им спасении раскрыли антигностики — св. Ириней, Тертуллиан и другие, однако если и у Иринея можно увидеть субординационные тенденции, то из не Итак, Церковь твердо установила против докетов истинное человечество Иисуса Христа, против евионитов и феодосиан Его Божество, против савеллиан Его ипостасное отличие от Отца, вместе с тем против язычников принцип единства Божества и признала известную последовательность трех лиц Отца, Сына и Святого Духа. Отсюда под влиянием платонизма и при попытке обнять тайну Божества, легко могла развиться теория субординации, которая ставила Божество во Христе на низшую ступень и Его Самого помещала в разряд тварей. Под влиянием Оригена, на Востоке, в широких кругах были распространены субординастические взгляды об отношении Сына (Логоса) к Отцу и, таким образом, была подготовлена почва для той смуты, какую вызвало выступление Ария. Именно, грубая противоположность против модалистического учения Савеллия привела к противоположной крайности в арианстве; там господствовало слияние (συναιρεσις), здесь разделение; там отрицание ипостасного различия, здесь усиленное подчеркиванье его до уничтожения равенства по существу. В полемике с Савеллием много было допущено неудачных выражений и представлений, имевших в виду сделать очевидным различие Сына от Отца и поставить Сына в ближайшую связь с миром, это под влиянием особенно филоновской философии и Оригена.
Если вопрос о Божестве Отца никогда не подвергался никакому сомнению, то касательно Божества Сына уже с первых веков было множество споров. Тема будущих рассуждений о Лице Христа была как бы намечена в вопросе Самого Христа иудеям: если Христос есть сын Давидов, то каким образом Он в то же время является и Господом Давида (Мф. 22,42-46). Простое верующее сознание в первые времена христианства не затруднялось при решении этого вопроса; исходя из фактов и ясных данных Откровения, оно отвергало и евионитство иудействующих, и докетизм гностиков и признавало во Христе явившегося во плоти Бога. Но когда к непосредственной вере присоединялись запросы знания и потребовалось усилить содержание веры для ума, неминуемо обнаружились трудности. Затруднения представила прежде всего не проблема соединения Божества и человечества во Христе, хотя и эта проблема потом должна была выступить, а вопрос о Божестве Христа. Указанные выше слова Христа, давая тему для христологии, прямо вводят в то же время мысль и в область триадологии. Говорится о Господе, Который есть сын Давида, и этот Господь, однако, отличается здесь от Господа: «рече Господь Господеви». И в Евангелии от Иоанна Слово, Которое было Богом (1, 1) и Которое сделалось плотью (1, 14), отличается в то же время от Бога: «и Слово бе к Богу» — было у Бога (лрос; tov 0s6v). Таким образом, Христос, сын Давидов, Слово, — принявшее плоть, с одной стороны, называется Господом и Богом, с другой — одновременно с этим отличается от Господа и Бога. Некоторые слишком прямолинейные умы в конце II и III вв. взглянули на эту трудность как на дилемму. Для того чтобы удержать истину единства Божества, или, как тогда говорили, «единоначалия (povapxia)», которую тогда приходилось особенно отстаивать против языческого политеизма, и не признать двух богов, эти так называемые монархиане находили нужным или отвергнуть истинное Божество сына Давидова, признать Его простым человеком, отличающимся от Господа, или, признавая Его истинным Богом, не отличать Его от Сына Божия и Бога от Бога Отца. Так получилось, с одной стороны, монархианство динамическое, видевшее во Христе усыновленного лишь Богом человека, в котором обитала сила Божия (Suvapu;), как может она обитать и в других людях; с другой — монархианство модалистическое, по которому во Христе воплотилось и спострадало плоти единое и не заключающее в себе никаких различий Божество, получающее лишь различные наименования по различию способов Своего проявления; называемый Отцом как Творец и Законодатель, единый Бог (по Савеллию) называется Сыном как Искупитель, в воплощении, и после этого действует как Дух Св. Те и другие монархиане разными путями шли к одной цели. Ясные свидетельства Писания, противоречившие их пониманию, им приходилось, конечно, или игнорировать, или перетолковывать. Монархианство модалистическое более могло удовлетворить потребностям религиозной веры и чувства, и потому борьба с ним представлялась на первых порах более трудной, нежели борьба с динамизмом.
Обе формы монархианства получили начало, по-видимому, в Малой Азии, но главным местом распространения их был Рим. Представителями динамизма в Малой Азии были, вероятно, «алоги», противники учения о Логосе, во II в., но о них сохранились слишком неопределенные сведения. В Рим динамизм принес около L85 г. Федот Кожевник (о gkuteix;) из Византии; учеником его был Феодот Банкир (6 трал£^1тг)<;) в начале III в. Около 230-240 гг. там же действовал Артемон (t ок. 270 г.). На Востоке с динамистическим учением в несколько видоизмененном виде выступил уже во второй половине III в. Павел Самосатский, стоявший под влиянием Артемона. Первым представителем модализма называется Ноэт из Смирны. В Риме распространял его учение его ученик Эпигон (ок. 200 г.); последователями его уже были Клеомен и Савеллий, сменивший Клеомена в качестве главы римских модалистов-монархиан ок. 215 г. Но еще раньше Эпигона явился в Рим с тем же учением также из Малой Азии Праксей (ок. 190 г.), удалившийся потом в Карфаген. Сами папы склонялись в Риме к модалистическому образу мысли. Виктор (189-198) отлучил Феодота Старшего от Церкви, но сочувствовал Праксею. Эпигон и Клеомен нашли благосклонный прием у Зефирина (199-217) и Каллиста (217-222), хотя последний в конце концов и был вынужден подвергнуть отлучению Савеллия, вместе, впрочем, с противниками монархианства.
С монархианской ересью пришлось, таким образом, встретиться и вести на первых порах борьбу Западной церкви. Полемика римского пресвитера Ипполита, ученика Иринея, восстававшего не только против монархиан (Ноэта, Эпигона и Клеомена), но и против пап и бывшего даже антипапой (| после 235 г.), популярностью на Западе не пользовалась. Нормативное, можно сказать, значение зато для западного церковного сознания получили в последующее время богословские формулы Тертуллиана, написавшего против Праксея особое сочинение (Ас^егеив Ргахеат). Материальную сторону, содержание своего богословствования Тертуллиан заимствовал, по своем обращении в христианство (ок. 195 г.), частью у греческих апологетов, частью у представителей так называемого малоазийского направления (Ме- литона и Иринея). Предшествовавшие обращению в христианство занятия юриспруденцией и знакомство со стоической философией определили характер усвоения им этого содержания и выражения в соответствующих формулах. Богословом-систематиком и даже вообще ученым он не был и был лишь, так сказать, церковным публицистом. Но, усвоив и переработав заимствованное с Востока, согласно со своей индивидуальностью, он, не вдаваясь в научные изыскания, дал замечательно ясное для своего времени выражение основных истин христианства на латинском языке, создал богословскую терминологию для Запада и даже вообще латинский церковный язык и определил богословские взгляды Запада на будущее время. Это нужно сказать прежде всего об учении его о Св. Троице.
Исходя из данных малоазийского богословия, он с совершенно ясным сознанием одинаково решительно утверждает и единство Божест- ва, монархию, и троичность Лиц, которая не должна нарушить монархию. Бог есть Троица, но в Троице существует единство (unitas in trinitate, ср.: trinitas connexa in unitate simplici), именно единство нераздельной субстанции в трех формах и единство одинаковой власти (potestas) трех Лиц. Возможность такого представления облегчалась для Тертуллиана, с одной стороны, стоическим понятием о единстве и неразделимости первовещества при его проявлении в отдельных силах, с другой—юридическим пониманием термина «substantia» в понятии «имущество» (ср. и греч. oùoia): возможно совместное обладание одним имуществом для нескольких лиц. Термин «trinitas» Тертуллиан первый вводит в латинский язык (греч. xptôç у св. Феофила Антио- хийского). Единство обозначается словом «субстанция» (substantia, deitas, virtus, potestas, status, но не natura), различие — словом «persona», отчасти и «substantia» (nomen, species, forma, gradus, res, res substantiva).
было во всем совершенно безупречно. Кроме малоазийского богословия, он зависит еще от восточных апологетов. От них он усвояет учение о Логосе и, несмотря на свой протест против философии, усвояет и со свойственной ему отчетливостью, даже резкостью, выражает и проводит далее те именно неудовлетворительные стороны в их учении, которые определились у них их философскими воззрениями. Это, во-первых, мысль о различии в Боге Слова внутреннего и Слова проявленного, высказанного (Àôyoç èvbmQexoç и hbyoc, rcpocpopiKÔç), причем лишь последнему усвояется личное бытие и наименование Сына. По Тертуллиану: fuit autem tempus, cum [...] et Filius non fuit (Adv. Herrn., 3); tunc igitur etiam ipse sermo (Xôyoç) speciem et ornatum suum sumit, [...] cum dicit Deus: fiat lux. Haec est nativitas perfecta sermonis, dum ex Deo procedit (Xôyoç npcxpopvKÔç, Filius): conditus ab eo primum ad cogitatum in nomine Sophiae (Àôyoç svSiàôsxoç) (Adv. Ргах., 7). Во- вторых, субординационизм, т. е. признание Сына низшим в сравнении с Отцом в силу происхождения Его от Отца. В наглядном воззрении Тертуллиана субординационизм получает даже явно количественный характер: Pater enim tota substantia est: Filius vero derivatio totius et portio (9). Pater invisibilis pro plenitudine majestatis, visibilis Filius pro
низшим в сравнении Отца. В наглядном воззрении етдаже явно количественный t: Filius vero derivatio totius et e majestatis, visibilis Filius pro modulo derivationis (ср.: 14). Вполне последовательным в этом случае Тертуллиан, впрочем, не был, и вообще, указанные недостатки его воззрения почти не влияют на светлую сторону его богословия.
Тертуллиан — типический представитель и в известном смысле «отец» западного христианства с его специфическими особенностями, между прочим, с практическим направлением его жизни, сам не был ученым и не оставил науки для Запада. После него у западных не доставало ни знаний, ни метода, ни склонности, чтобы научно разработать далее высказанное им. Они повторяют лишь в своем богословии его мысли. Новациан в сочинении «De Trinitate» лишь систематизирует учение Тертуллиана, желая дать в нем толкование «правила веры» (régula fidei) Западной церкви. В формулах Тертуллиана выражают свои догматические взгляды и римские папы, например папа Дионисий (259-269) в своих разъяснениях против крайнего субординационизма Дионисия Александрийского (у Афанасия Великого. De decret. Nie. syn. 26: rai n Beîa Tpiàç rai то ayiov кфиура xfjç povap- Xlaç — отвергается и савеллианство, и тритеизм — pEpspiopsvm Ô7to- axâaeiç rai BsÔTrjxsç xpsîç). В таком положении находилось учение о Св. Троице ко времени Никейского собора на Западе. Без глубоких спекулятивных соображений и без особых научных изысканий утверждается одинаково и единство, и троичность Божества. С этим воззрением Запад выступал и в период арианских споров. Насколько трудно было в это время западному богословию войти в круг восточных идей и ориентироваться в них, это можно было потом видеть на примерах Илария и Люцифера.
* * *
Иную в сравнении с Западом картину представляет умственная жизнь греческого Востока в до-никейский период. Уже в течение II в., до появления монархианства и до выступления на Западе Тертуллиана, создается здесь обширная богословская литература в В Александрийской школе, далее, в III в. возникает христианская богословская наука в собственном смысле и сразу же расцветает самым блестящим образом в лице Оригена. В конце III в., в дополнение к александрийскому направлению, получает начало еще новое направление в богословии — антиохийское.
Апологеты, выступая против язычества, языческой философии противопоставляли христианское Откровение как единственно истинную философию, хотели быть христианскими философами. Задачу создания цельной религиозно-философской системы они на себя не брали, и фактически дело у них сводилось лишь к выражению известных христианских истин в понятиях и терминах современной им философии. Было уже замечено, что объединение с христианским учением о Логосе философских концепций сопровождается у них, с одной стороны, введением в богословие не выдерживающего критики с догматической точки зрения различия двух периодов бытия Логоса: до сотворения и после сотворения, причем рождение Его ставилось в зависимость от проявления в творении мира (Хбуск; еубйбехос и Аоусх; лрскроршх;) (стоические термины, впервые у св. Феофила); с другой — введением представления о Сыне, как имеющем низшее достоинство в сравнении с Отцом, хотя истинный смысл этого субординационизма у апологетов не совсем ясен. Во всяком случае, богословствование апологетов нельзя отождествлять с верой Церкви. И по отношению к их собственным воззрениям должно иметь в виду, что в их апологетических трудах, обращенных ко вне и преследовавших особые специальные задачи, эти воззрения не могли найти полного выражения. Другая задача была у полемистов-антигностиков, и труды их имеют поэтому другой характер и значение. Опыты религиозной философии, которую апологеты усматривают непосредственно в Откровении, даны были, под влиянием христианства, и в гностических системах, но с таким перевесом чисто языческих элементов, что с истинным христианством эти истины не имели никогда почти ничего общего, кроме терминов. Представителям Церкви против соблазна этого языческого знания как языческой философии в христианских формах приходилось излагать подлинное учение Церкви, как оно передано от апостолов. Понятно отсюда высокое значение в из вестном отношении этого рода письменности. Наиболее живым центром церковной жизни во II в. были мизийские общества; мизийское богословие и взяло на себя указанную задачу. Из произведений этого рода до нас, однако, сохранилось лишь сочинение писателя, жившего собственно на Западе: "Е'/хухсх; Kai avaxpomf] xf)<; vj/euSmvüpou yvco- aeax; [«Обличение и опровержение лжеименного знания»] — св. Ири- нея Лионского, притом лишь в латинском переводе. От многочисленных произведений Мелитона Сардийского, принадлежавшего к тому же малоазиатскому направлению, но бывшего вместе и апологетом, и философом, остались только одни отрывки.
Полемизируя с гностиками, учившими о раскрытии внутренней жизни Божества во множестве неодинаково совершенных существ, эонов, св. Ириней обращает внимание преимущественно на единство Отца, Сына и Св. Духа. Их различие как трех самостоятельных и неделимых у него не выдвигается. Теория апологетов о двух состояниях Логоса решительно устраняется, как основывающаяся на противоположных, видимо-чувственных, неприложимых к Богу представлениях о человеческом слове, и утверждается вечность Сына (2,30,9: semper coexistens Filius Patri. Verbum id est Filius, semper cum Patre erat). Суб- ординационизм также не находит у него, по-видимому, почти совсем места. Правда, высказывают, с другой стороны, опасение за действительность у св. Иринея вообще ипостасного бытия Слова (и Св. Духа). Но отсутствие ясных мест еще не дает права к отрицательному выводу и до некоторой степени восполняется общим смыслом его воззрений. Единосущие, например, эонов, с его точки зрения, не исключает еще различия их по происхождению и степени (unius substantiae esse =
önoowioq и distare generatione et magnitudine).
* * *
Литературная деятельность апологетов и полемистов II в. не имела еще характера ученой деятельности, хотя они и пользовались в ней средствами современной им образованности. В III в. получает начало в Греческой церкви и чисто ученая разработка данных хрис тианской религии, возникает научное богословие. Научной постановки требовали и продолжившаяся и теперь борьба с язычеством на литературном поприще, и борьба с гнозисом. Но теперь появилось еще монархианство со своими особыми воззрениями, возникшее уже на христианской почве и потому особенно возбуждающим образом действовавшее на богословскую мысль. Наука должна была явиться, рано или поздно, как следствие теоретического стремления к знанию. Теперь, под влиянием указанных причин, потребность в научной разработке и уяснении содержания христианства, в установлении внутренней связи между отдельными положениями церковного учения как единого целого и их обоснованию должна была выступить с особой силой. Только представив христианское учение как научно объясненное и обоснованное целое, как систему, можно было с успехом противопоставить его и языческой философии, и лжеименному гнозису; через теоретическое положительное раскрытие его сами собой достигались и практические отрицательные цели апологетики и полемики. Вполне естественно, что христианская наука появляется впервые именно в Александрии, центре тогдашнего философского и научного образования. Построение Климентом Александрийским его известной трилогии: 1. Увещание к грекам об оставлении языческого культа; 2. Педагог — руководство к христианской жизни, и 3. Строматы — введение к пониманию христианского учения, — отражает на себе еще практически церковные, воспитательные интересы и представляет лишь переход к чисто теоретической точке зрения. Но уже в лице Оригена (t 254) богословие как наука, в теоретической ее постановке, находит с формальной стороны то самое выражение своей задачи и принципов, с какими оно существует доныне. Ориген ставил своей задачей, в качестве богослова, разработку данных христианского Откровения с помощью тех средств, какие могла дать ему современная культура вообще, и возведение из этих данных деятельностью разума стройной системы (seriem quamdam et corpus ex horum omnium ratione perficere). Источником Откровения и предметом научной разработки является Писание, но богослов не должен в своей деятельности игнорировать и те нормы, которыми руководится живое сознание Церкви; правило веры — régula fidei — обязательно и для ума, иначе говоря, он должен иметь в виду и предание Церкви. Средствами культуры, которыми он может пользоваться, являются, с одной стороны, результаты работы философствующего ума, с другой — данные и мотивы положительной науки. С одной стороны, таким образом, Ориген хочет стоять всецело на почве Писания и Предания, является традиционалистом, с другой — допускает свободу спекуляции и ученых изысканий на этой почве, является философом, ученым и критиком.
При таком понимании задачи научного богословия Ориген как бы объединяет разные стороны деятельности и разные стремления, выразителями которых выступили различные направления богословской мысли на Востоке. Как представитель Александрийской школы, он преимущественное внимание обращает на спекулятивную разработку христианского учения. Но настаивая на необходимости держаться преданного учения, он совпадает в этом требовании с принципом Малоазийской школы. В то же время он свою ученую деятельность посвящает не одной лишь спекуляции, но и трудам положительного характера, а именно — критике текста Писания. В этом он предупреждает тенденции Антиохийской школы. При такой разносторонности понятно то величайшее значение, какое Ориген имел для последующего времени. Все последующие направления греческого богословия могли находить в нем свой исходный пункт, хотя бы представители их и стояли в неприязненных отношениях к нему.
Свою систему Ориген изложил в сочинении «О началах» Фе рпп- арпв), сохранившемся в неточном латинском переводе, или точнее, переделке Руфина. Вполне естественно, что этот его опыт, равно и вообще его богословские воззрения, как выразились они и в других его произведениях, не представляли окончательного совершенства. От человека, пролагавшего лишь начало научному богословию, сколь бы он ни был гениален, нельзя было бы и требовать этого. И потомство оказалось, может быть, мало благодарным к этому гению, осудив не только его уклонение от выясненной научно лишь после истины, но и его самого лично.
Оказалось несовершенным в системе Оригена и предложенное им решение поднятого монархианами и стоявшего на очереди вопроса,
И поскольку «спекуляция на греческом Востоке была по преимуществу достоянием т.н. александрийского направления в богословии»181, то и главными деятелями при раскрытии догмы были представители именно этого направления.
Впервые богословствовать о Божественных Ипостасях начали апологеты. «В своем учении они нередко слишком тесно связывали рождение Сына с началом творения мира и так или иначе, вольно или невольно вводили неравенство между Первой и Второй Ипостасями»182. Субординационные тенденции были весьма сильны в христианском мышлении этого времени, в частности, у Оригена183. Видимо эти тенденции и стали основой для развития этой страшной ереси, под названием «арианство», которая и поныне не оставляет в покое умы многих верующих.
Свящ. Д. А. Лебедев даже прямо пишет, что «Лукиан стоял в зависимости от Оригена»184, он «принял и по своему модицировал богословскую систему Оригена. Система эта, однако, приняла у него не ту решительно арианскую форму, какую приписывает ей Гарнак, а форму более близкую к учению самого Оригена»185, и хотя «как экзегет, Лукиан был решительным противником Оригена, и стремился александрийскому аллегоризму противопоставить метод прямого и буквального «историко-грамматического» толкования»186, «в своих богословских воззрениях Лукиан вряд ли был очень далек от Оригена. Очень показательно, что и многие из его учеников были в тоже время так же оригенистами. Это кстати можно сказать и о самом Арии. Не случайно ариане так часто ссылаются на Оригена и на Дионисия Александрийского; и пусть они так же, как и их учитель, Лукиан, чуждались александрийской экзегетики, однако при этом все равно оставались оригенистами в богословии. Во всяком случае, как пишет прот. Г. Флоровский, «проблематика арианского богословия понятна только из Оригеновских предпосылок. У арианствующих богословов чувствуется тот же испуг пред соблазнами модализма, что и у Оригена»187, и поэтому арианское движение с большей вероятностью могло возникнуть именно на оригенистической почве. В этом смысле борьба с арианством становилась в действительности преодолением оригенизма. Имя учителя редко называлось в спорах, так как и противники арианства, так же были оригенистами, — прежде всего, св. Александр. Сам Ориген не был “арианином.” Но арианские выводы легко было сделать из его предпосылок, — не только из его слов или обмолвок. Система Оригена в целом в то время еще не подвергалась обсуждению, — только в самом конце века был поставлен общий вопрос о его правомыслии. Отречение от троического богословия Оригена совершилось как бы молчаливо. Очень характерно, что такой последовательный оригенист, как Дидим, уже вполне свободен от оригеновских мотивов в учении о Троичности. Он дальше от Оригена, чем даже св. Афанасий. Это было не только отречение, но и преодоление оригенизма. И в этом — положительный богословский итог арианских споров»188.
Но почему большинство участников Никейского собора ссылались именно на Оригена, ведь кроме него известны имена и других великих учителей церкви, таких как свт. Ириней Лионский, или Климент Александрийский, Ипполит Римский и Тертуллиан?
Ответ на этот вопрос дает нам проф. Поснов: «Ориген создал церковную догматику и он же заложил основание научному знанию иудейской и христианской религии. Он освободил христианское богословие от посторонних задач апологетических и полемических, сообщив ему самостоятельный интерес, положительное значение. Он провозгласил примирение науки с христианскою верой, высшей культуры с Евангелием»189. Его можно даже назвать «отцом Богословской науки в собственном смысле слова и вместе с тем основателем того Богословия, которое достигло своего развития в IV и V веках»190.
свт. Епифаний Кипрский191, который, хотя и замечает, что именно пресвитер Лукиан ввел арианское учение о Боговоплощении192, поэтому и самих ариан, как последователей Лукиана он называет «лукианистами»; однако именно в Оригене он видел источник арианского подчинения Сына Отцу193, т.е. богословие Оригена, при знакомстве с ним Лукиана194, оставило свой существенный след, который и подвинул Лукиана к выше приведенным выводам195. Но на это Гуоткин замечает, что пусть язык Оригена «столько же примыкал к арианскому, как язык Лукиана, однако их нельзя считать еретиками». Однако, именно знакомство с наследием языческой философии, видимо, и стало причиной того, что в основном защитники православного богословия придерживались философии Платона, в то время, как ариане примыкали более к философии Аристотеля;
Александрийской версии придерживались и многие западные ученые IXX века, такие как: Баур, Гагеман, Гефеле, Неандер, Швартц; и многие русские: прот. А. М. Иванцов-Платонов, Мелиоранский, прот. Г. Флоровский и др. Вопрос осложняется еще тем, что среди ариан были и ученики пресв. Лукиана, представителя антиохийского богословия, но и они при этом были также глубокими почитателями Оригена.
При этом, «Если система Лукиана, как это обыкновенно принимают, по меньшей мере ни в чем существенном не отличалась от системы самого Ария, то указанием на Лукиана, как учителя Ария, вопрос о происхождении арианства не решается, а только отодвигается назад: приходится ставить вопрос уже о происхождении учения самого Лукиана. Если Лукиан не был «Арием до Ария», то необходимо выяснить, каким путем Арий пришел к тем крайним выводам из учения Лукиана, каких не делал сам Лукиан. А с другой стороны, хотя и сам Арий и его вифинские и асийские покровители (Евсевий Никомидийский, Феогний никейский, Марий халкидонский, Минофан эфесский) были несомненными лукианистами, но в пользу Ария не менее решительно действовали и такие безспорные оригенисты, не стоявшие в зависимости от Лукиана, как Евсевий кесарийский. Евсевий кесарийский был не один: с ним за одно действовали Павлин тирский, … Патрофил скифопольский, … Феодот Лаодикийский и Наркис нерониадский, Македоний мопсуетийский, Таркондимант эгейский, Аетий лиддский и, вероятно, даже и преемник Евсевия Никомидийского на виритской кафедре Григорий. О догматических взглядах этих епископов-оригенистов мы имеем возможность судить только по сочинениям Евсевия Кесарийского»196.
Таким образом мы видим, что все версии в основном сводятся к вопросу о степени влияния Оригена и его богословия на всю последующую историю арианского спора. Проф. М. Э. Поснов так об этом пишет: «Под влиянием Оригена, на Востоке, в широких кругах были распространены субординастические взгляды об отношении Сына (Логоса) к Отцу»197, которые и подготовили почву для этой ереси.
Не безызвестно, что Ориген, защищая монотеизм и выступая против монархианства и адопционизма, часто сам подпадал под влияние решительного субодирнационизма - субодирнационизма по существу, как это охарактеризовал Болотов198. Исходя из бестелесности Божественного существа, Отец не может родить из Своей сущности Сына, так как последнее предполагало бы некую эманацию, что для Бестелесного противоестественно. и, возможно, именно это и стало камнем преткновения в богословии Лукиана и его последователей. И может быть, поэтому многие исследователи считают, что именно богословие Оригена стало первоосновой арианской ереси. Тот факт, что Арий был последователем, все же антиохийского богословия и учеником пресвитера Лукиана, однако еще не решает вопроса о влиянии или степени зависимости самого Лукиана от богословия Оригена. И не смотря на враждебное отношение антиохийской школы к его богословским воззрениям, все же свой отпечаток в богословии Лукиана он оставил199.
Противники Оригена в экзегетике, они оставались оригенистами в богословии. Во всяком случае, проблематика арианского богословия понятна только из Оригеновских предпосылок. У арианствующих богословов чувствуется тот же испуг перед соблазнами модализма, что и у Оригена. Арианское движение было возможно только на оригенистической почве. И потому борьба с арианством была в действительности преодолением оригенизма. Имя учителя редко называлось в спорах. Ибо и противники арианства были оригенистами, - прежде всего, св. Александр. Сам Ориген не был «арианином». Но арианские выводы легко было сделать из его предпосылок, - не только из его слов или обмолвок. И преодоление арианства исторически оказалось сразу и преодолением оригенизма, - в троическом богословии. Система Оригена в целом в то время еще не подвергалась обсуждению, - только в самом конце века был поставлен общий вопрос о его правомыслии. (Цепух Н. Богословская мысль и арианская полемика в свете решений I-го Вселенского Собора. КДА, - 2000. С. 104).
Одни считают, что оно есть продукт антиохийской школы или богословия пресвитера Лукиана, откуда выходцем был и сам Арий, и многие его единомышленники. К этому мнению были более склонны Ньюман, Гарнак, Зееберг, проф. А. П. Лебедев, В. В. Болотов, А. А. Спасский, Р. Селлерс, Т. Поллард, Б. Лонерган.
Другие, такие как Баур, Гагеман, Гефеле, Неандер, Швартц, Иванцов-Платонов, Мелиоранский, Флоровский, Ф. Грин, М. Уайлз, Л. Барнард, А. М. Риттер200 утверждают, что арианство – продукт александрийской школы, а именно богословия Оригена которое оставило глубокий отпечаток на многих христианских мыслителей, вплоть до V века.
Некоторые же, такие как Лебедев Д. А.201, Мейендорф, В. М. Лурье202 склоняются к мысли, что учение самого Ария, представляло собою своеобразную комбинацию учения Павла самосатского с учением Оригена.
Еще с V века бытует мнение, что арианство есть прямой продукт оригенизма, или александрийской школы. Так, например, в древности считали историк Сократ, который говорил о месте возникновения ереси203 и
…такие как Евсевий кесарийский, (т.ж. см. ссылку № 71 - цитаты)
Какие из арианских положений принадлежат Лукиану, и какие представляют вывод из учения Лукиана, сделанный самим Арием.
Однако большинство современных ученых, склонны утверждать именно антиохийское происхождение арианства. Данный вопрос, на уровне исследования, поднимался еще в IXX веке, однако он, как и сегодня, так и не получил окончательного ответа, но стал причиной появления различных многочисленных теорий.
