
Глава V
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРЕВОДЕ
Ч. Моррис, который ввел в научный узус термин "прагматика", понимал его как учение об отношении знаков к их интерпретаторам, т.е. к тем, кто пользуется знаковыми системами. Характеризуя конкретные задачи и проблемы прагматических исследований естественных языков, Н.Д. Арутюнова и Е.В. Падучева отмечают, что они, постепенно расширяясь, обнаруживают тенденцию к стиранию границ между лингвистикой и смежными дисциплинами (психологией, социологией и этнографией), с одной стороны, и соседствующими разделами лингвистики (семантикой, риторикой, стилистикой) — с другой". Прагматика отвечает синтетическому подходу к языку [Арутюнова, Падучева, 1985, 4].
Совокупность таких факторов, как связь значения с внеязыковой действительностью, речевой контекст, эксплицитный и имплицитный, коммуникативная установка, связывающая высказывание с меняющимися участниками коммуникации — субъектом речи и ее получателями, фондом их знаний и мнений, ситуацией (местом и временем), в которой осуществляется речевой акт, образует мозаику широко понимаемого контекста, который как раз и открывает вход в прагматику смежных дисциплин и обеспечивает ей синтезирующую миссию [там же, 7].
В гл. III, посвященной проблемам эквивалентности, адекватности и переводимости, отмечалось, что требование коммуникативно- прагматической эквивалентности является главнейшим из требований, предъявляемых к переводу, ибо оно предусматривает передачу коммуникативного эффекта исходного текста и поэтому предполагает выделение того его аспекта, который является ведущим в условиях данного коммуникативного акта. Отсюда был сделан вывод об иерархии уровней эквивалентности, согласно которому прагматический уровень, включающий такие важные для перевода элементы, как коммуникативная интенция, коммуникативный эффект и установка на адресата, управляет другими уровнями, является неотъемлемой частью эквивалентности вообще и наслаивается на другие ее уровни.
Прагматических отношений, возникающих в процессе перевода, мы уже касались выше — в разделах "Теория перевода" и социолингвистика" (гл. I), "Языковые и внеязыковые аспекты перевода (гл. II) и в связи с вопросом о прагматической эквивалентности (гл. III). Весь этот материал представляет собой как бы введение в прагматику перевода. В настоящей главе в центре внимания находятся побудительные причины прагматических трансформаций, их типология и методы.
Каковы же прагматические отношения, характеризующие перевод как процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть основные звенья процесса перевода, в которых реализуются различные типы отношений между знаками и коммуникантами. Прежде всего,
10. Зак. 311 145
характерной особенностью этих звеньев коммуникативной цепи является их двухъярусный характер: акты первичной и вторичной коммуникации образуют два яруса: вторичная коммуникация наслаивается на первичную (схема 7).
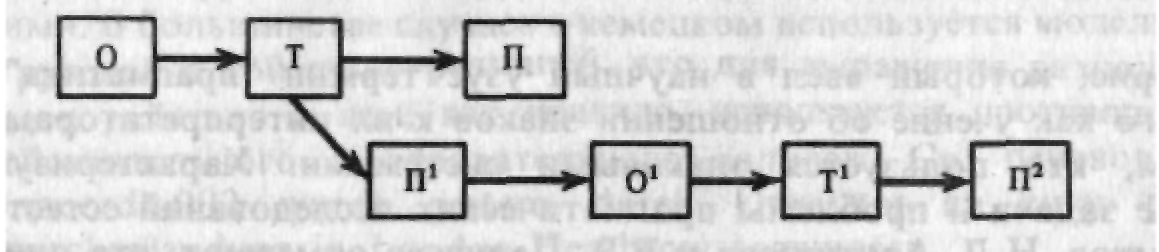
Схема 7
В звеньях этой коммуникативной схемы возникают различные типы прагматических отношений, т.е. отношений между знаковыми совокупностями (текстами) или их элементами, с одной стороны, и коммуникантами — с другой. Особенностью коммуникации является то, что отношения, возникающие в определенных звеньях первичной коммуникации, воспроизводятся (в соответственно модифицированном виде) во вторичной коммуникации. Так, например, звено О—Т (отправитель исходного текста — исходный текст) характеризуется отношением, которое можно назвать коммуникативной интенцией отправителя или прагматической мотивацией текста. Это отношение воссоздается в цепи вторичной коммуникации, где в звене О1—Т1 его воспроизводит переводчик, создающий новый текст — аналог исходного. Однако поскольку коммуникативная ситуация, в которой создается этот текст, не является идентичной исходной коммуникативной ситуации, не может быть и полного тождества между исходным прагматическим отношением О—Т и вторичным прагматическим отношением О1—Т1. Различие между этими отношениями определяется хотя бы тем, что отправители разных текстов (исходного и конечного) не могут, создавая их, не видеть за ними разных получателей.
Выше, в связи с проблемой переводческой эквивалентности, нами был поставлен вопрос о важной роли, которая принадлежит в этой связи функциональной типологии текстов (ср., например, основанную на известной схеме К. Бюлера типологию К. Раис, функциональную типологию Р. Якобсона). Думается, что для анализа коммуникативной интенции, лежащей в основе переводимого текста, может быть использована и восходящая к Дж. Остину [Austin, 1962] и Дж. Сёрлю [Searle, 1969] теория речевых актов, изучающая различные типы речевых высказываний в связи с той конкретной ролью, которую они играют в процессе коммуникации.
Следующим звеном коммуникативной цепочки, играющим важную роль в переводе, является звено Т—П (текст — получатель). О—Т и Т—П представляют собой тесно взаимосвязанные звенья. По сути дела, прагматические отношения, характеризующие их, — это разные стороны одного и того же явления — коммуникативная интенция и коммуникативный эффект, согласование которых составляет основу переводческой эквивалентности. Здесь мы также обнаруживаем функциональное сходство между соответствующими звеньями первичной и вторичной коммуникации (ТП в первичной коммуникативной цепи 146
и Т1П2 — во вторичной). Коммуникативный эффект представляет собой результирующую многочисленных сил воздействия текста, соответствующих его функционально-целевым характеристикам. Однако подобно тому как исходная коммуникативная интенция модифицируется в процессе вторичной коммуникации, коммуникативный эффект варьируется в конечном звене процесса двуязычной коммуникации в соответствии с характеристиками конечного получателя.
Наконец, остаются еще два звена коммуникативной цепи, характеризующиеся особым типом прагматических отношений, — это Т— П (исходный текст — переводчик-получатель) и О1—Т1 (переводчик- отправитель — конечный текст). Выше отмечалось, что полное слияние личности переводчика с личностью автора возможно лишь в идеале. Более того, лишь в идеальной схеме возможен переводчик, не только полностью "вошедший в образ" автора, но и воспринимающий исходный текст с позиций носителя исходного языка и исходной культуры. Таким образом, и здесь приравнивание друг к другу соответствующих звеньев первичной и вторичной коммуникативных цепей носит в известной мере условный характер.
КОММУНИКАТИВНАЯ ИНТЕНЦИЯ ОТПРАВИТЕЛЯ
В разделе, посвященном типологии переводческой эквивалентности, выделялись три взаимосвязанных элемента следующей триады: 1) коммуникативная интенция (цель коммуникации), 2) функциональные параметры текста и 3) коммуникативный эффект. Эти элементы соответствуют трем компонентам речевого акта — отправителю, тексту и получателю. Применительно к переводу соотношение между элементами триады может быть сформулировано следующим образом: переводчик выявляет на основе функциональных доминант исходного текста лежащую в его основе коммуникативную интенцию и, создавая конечный текст, стремится получить соответствующий этой интенции коммуникативный эффект. Отсюда вытекает важность учета функциональных параметров текста для обеспечения основного условия эквивалентности — соответствия между коммуникативной интенцией отправителя и коммуникативным эффектом конечного текста.
Выше отмечалась необходимость разграничения различных типов функциональной эквивалентности: референтной, экспрессивной, конативной, фатической, металингвистической и поэтической (термины Р.О. Якобсона). О референциальной эквивалентности и о применяемых для ее достижения трансформациях речь уже фактически шла в предыдущей главе, посвященной семантическим аспектам перевода.
Экспрессивная эквивалентность обеспечивается адекватной передачей экспрессивно-эмотивной коннотации текста. Переводчик при этом соизмеряет экспрессивность конечного и исходного текстов, учитывая, что внешне однотипные средства языка подлинника и языка перевода иногда резко отличаются друг от друга по степени экспрессивности. Отсюда следует, что механическое копирование стилистических средств подлинника не ведет к достижению требуемого коммуникативного эффекта.
147
Интересный пример подобного буквализма на синтаксическом уровне приводит И. Кашкин в статье "Ложный принцип и неприемлемые результаты", направленной против формалистических установок переводческой школы Е. Ланна: Out came the chaise — in went the horses — on sprang the boys — in got the travellers (Ch. Dickens. Pickwick Papers) — "Карету выкатили, лошадей впрягли, форейторы вскочили на них, путешественники влезли в карету" (перевод Е. Ланна).
<<Английский текст передан технологически точно, — комментирует этот перевод И. Кашкин, — но беда в том, что лошади кажутся деревянными, форейторы манекенами, карета игрушечной... переводчик, путаясь в глагольных формах и повторах, не видит того, что стоит за английской фразой и что ощутил Иринарх Введенский. В одном издании его перевода находим: „...Дружно выкатили карету, мигом впрягли лошадей, бойко вскочили возницы на козлы, и путники поспешно уселись на свои места"... Он взамен искусственных инверсий играет на... четырех введенных им наречиях: дружно, мигом, бойко, поспешно — и, передав самую функцию диккенсовской инверсии, вызывает у читателя нужное ощущение напряженной спешки...>> [Кашкин, 1977, 386].
Как видно из данного примера, экспрессивная эквивалентность потребовала известных сдвигов в референциальном содержании (ср. введенную в текст цепочку обстоятельственных слов). Однако эти сдвиги не нарушают общности смыслового содержания подлинника и перевода. В комментарии И.А. Кашкина обращает на себя внимание тонкое наблюдение, согласно которому И. Введенский передает саму функцию диккенсовской инверсии. Именно в этом и заключается основной принцип функциональной эквивалентности.
В переводе необходимо различать экспрессию, источником которой является сам автор текста, и ту, которая исходит от изображаемых в тексте персонажей. Вот один из примеров стилистических приемов, используемых для передачи авторской экспрессии: How was she to bare that timid little heart for the inspection of those young ladies with their bold black eyes? (Thackeray) — "Как могла Эмилия раскрыть свое робкое сердечко для обозрения перед нашими востроглазыми девицами?"
Здесь ироническая коннотация в английском тексте находит свое выражение в отборе лексических средств — в насмешке, облеченной в форму положительной характеристики (that timid little heart). B русском варианте аналогичным целям служит уменьшительный аффикс (робкое сердечко).
Ср. сходный пример из того же произведения ("Ярмарка тщеславия" Тэккерея): Poor little tender heart! and so it goes on hoping and beating, and longing and trusting — "Бедное нежное сердечко! Оно продолжает надеяться и трепетать, тосковать и верить".
Рассмотрим несколько примеров экспрессии, характеризующей речь персонажей. Как правило, это формы экспрессии, специфичные для разговорной речи. Ср., например, использование такого характерного для русской разговорной речи экспрессивного средства, как i автологический эпитет у Достоевского: ...об заклад бьюсь, что он ездил вчера к нему на чердак и прощения у него на коленях просил, чтобы эта злая злючка удостоила сюда переехать — I`d bet he'd been to see 148
him in bis attic and begged bis pardon on bis bended knees so that this spiteful little horror should deign to move to bis house.' В английском тексте эта отрицательная экспрессия передается с помощью сочетания пейоративных эпитетов spiteful little horror.
Серия пейоративных эпитетов в сценах ссор, перебранок и т.п. часто сопровождается при переводе на английский язык многократным повтором личного местоимения you: И не стыдно, не стыдно тебе, варвар и тиран моего семейства, варвар и изувер! Ограбил меня всего, соки высосал и тем еще недоволен! Доколе переносить я тебя буду, бесстыжий и бесчестный ты человек! (Достоевский) — Aren`t you ashamed, aren`t you ashamed of yourself, you cruel, inhuman wretch, you tyrant of my family, you, inhuman monster, you! You`ve robbed me of everything, sucked me dry, and you're still dissatisfied. How much longer am I to put up with you, you, you shameless and dishonest man!
Замена одного экспрессивного приема другим часто обусловливается уникальностью исходного языкового средства. Так, в приведенном ниже отрывке из "Майора Барбары" Б. Шоу используется конверсия — вербализуется насмешливо цитируемая фраза собеседника:
J e n n у . Oh God forgive you! How could you strike an old woman like that?
B i l l . You Gawd forgive me again and I`ll Gawd forgive you one on jaw that'll stop you praying for a week —
"Д ж е н н и . Прости вас боже! Как вы могли ударить старую женщину?
Б и л л . Сунься-ка еще раз с этим твоим "прости вас боже", так я тебя так прощу по роже, что ты на неделю забудешь молиться".
Здесь в основу перевода положен компенсационный прием: вместо конверсии используется рифма: "прости вас боже" — "прощу по роже".
При передаче конативной (волеизъявительной) функции переводчик приравнивает друг к другу английские модальные вопросительные предложения и русские повелительные предложения: "May I speak to Mr. Brown, please" — Позовите, пожалуйста, господина Брауна (из телефонного разговора): "Won't you sit down" — Садитесь, пожалуйста; "Joan, would you please get the Stapler for me?" — Дай мне, пожалуйста, машинку для скрепок, Джоун.
Иногда формулы волеизъявления переводятся на основе устойчивых лексико-синтаксических соответствий: "I wish I could see him just once" —Хоть бы разок на него посмотреть.
Установка на поддержание контакта, специфичная для "фатической" эквивалентности, также реализуется по-разному в разных языках. Порой наблюдается омонимия фраз, выступающих в фатической и референтной функциях. Ср. следующий пример из Б. Шоу, где обыгрывается буквальный смысл англ, of course,. одного из речевых сигналов, используемых для поддержания контакта между собеседниками:
L a d y B r i t o m a r t . Now are you attending to mе, Stephen?
S t e p h e n . Of course, mother.
L a d y B r i t o m a r t . No, it's not of course. I want something more than your everyday matter-of-course attention —
" Л е д и Б р и т о м а р т . ' Теперь ты меня слушаешь, Стивен?
С т и в е н . Само собой, мама.
149
Леди Б р и т о м а р т . Нет, не само собой, Стивен. Мне не нужно такое внимание, которое само собой разумеется".
Иногда "фатический" речевой сигнал приобретает особую форму, детерминируемую социальной ситуацией. Ср., например, "Yes, Sir" у Б. Шоу, используемое как маркер асимметрии ролевых отношений (при обращении младшего к старшему, например в армии):
Таll bоуs . Private Meek.
Mееk. Yessir —
"Толбойс. Рядовой Миик!
Mиик. Слушаю, сэр".
Противоречие между языковой формой и выполняемой ею функцией разрешается в процессе перевода в пользу функции. Ср., например, перевод вопросительной по форме фразы (How do you do?), используемой в качестве ритуальной формулы установления контакта (из Б. Шоу);
M r s . E y n s f o r d H i l l . My daughter Clara.
Lizа. How do you do?
C l a r a . How do you do? —
"Миссис Эйнсфорд Хилл. Моя дочь Клара.
Э л и з а . Очень приятно.
Клара. Очень приятно".
Особо остро вопрос о соотношении формы и функции стоит в тех случаях, когда в фокусе высказывания оказывается форма, не воспроизводимая в переводе. Это, в частности, относится к передаче металингвистической функции, характеризуемой установкой на сам язык, на его формы: Do you remember when you wrote to him to come on Twelfth Night, Emmy, and spelled twelfth without the f (Thackeray) — «—...Помнишь, Эмми, как ты его пригласила к нам на крещенье и написала „и" вместо „е"?» Орфографическая ошибка, о которой идет речь в письме персонажа "Ярмарки тщеславия" Бекки (twelth вместо twelfth), передается в переводе с помощью компенсационного приема ("крищенье" вместо "крещенье").
Наконец, "поэтическая" эквивалентность (установка на выбор формы) допускает еще большую свободу при установлении соответствий на референтном уровне. Показательный пример стратегии перевода, связанный с передачей этой функции, приводит И. Левый:
Ein Wiesel
Sass auf einen Kiesel
inmitten Bachgeriesel...
Эти строки из стихотворения К Моргенштерна "Эстетическая ласка" М. Найт перевел на английский язык следующим образом:
A weasel
Perched up on an easel Within a patch of teasel...
В комментарии к этому переводу переводчик добавил, что эти строки можно было также перевести:
A ferret
nibbling a carrot in a garret
150
или:
A mink sipping a drink in a kitchen sink...
Оценивая эти переводы, И. Левый приходит к выводу о том, что в данном случае существеннее игра на рифме, чем зоологическая и топографическая точность значения отдельных слов (так, сидящая в журчащем ручье ласка переносится на мольберт, на чердак, в кухонную раковину, превращается в хорька и в норку) [Левый, 1974,144]. По-видимому, в этом стихотворении "поэтическая" функция текста полностью оттесняет на задний план референтную функцию. Из сказанного, казалось бы, можно сделать заключение о том, что в некоторых случаях "формальная" эквивалентность может перевешивать эквивалентность на более высоких уровнях, в том числе прагматическом. Однако на самом деле это не так. По сути дела, выдвижение на первый план формального подобия определяется функциональными доминантами этого текста, задуманного как словесная игра, и, таким образом, соответствует коммуникативной интенции автора, т.е. прагматической мотивации текста. Иными словами, перевод М. Найта эквивалентен оригиналу в прагматическом отношении, но неэквивалентен ему на более низком (семантическом) уровне.
Сходные приемы используются и в других связанных с передачей словесной игры случаях. Например, при переводе каламбуров, на котором мы уже останавливались в связи с проблемой переводимости (гл. III).
Наряду с анализом на уровне функциональных доминант текста целесообразен также учет типологии высказываний, восходящий к Дж. Остину [Austin, 1962] и Дж. Сёрлю [Searle, 1969]. Для перевода представляется существенным учет расхождений в языковом выражении одних и тех же типов высказываний в разных языках. Список речевых актов, исследуемых этими учеными и их последователями, включает сообщения, просьбы и приказы, вопросы, запреты, позволения, требования, возражения, поручения, гарантии, обещания, предостережения, угрозы, советы, наставления, акты "этикетного поведения" (behabitives) [Вежбицка, 1985,251—275].
Следует иметь в виду, что для некоторых из этих высказываний существуют жесткие, ритуальные формулы в разных языках. Так, например, существуют стандартные формулы запретов, обычно фиксируемые в объявлениях: "Курить воспрещается" — "No smoking"; "По газонам не ходить" — "Keep off the grass"; "Вход запрещен" — "No entry"; "Вход с домашними животными запрещен" -=- "No pets allowed."
Одной из самых распространенных трансформаций здесь является антонимический перевод. Характерная особенность этих трансформаций — неупотребление в английских вариантах глагола- перформатива, эксплицитно называющего данное действие (запрет) (например, *smoking is prohibited).
Грамматическая трансформация является в ряде случаев необходимым условием перевода устойчивых ритуальных формул, закреп- 151
ленных за определенными речевыми актами. Ср., например, трансформацию английского вопросительного предложения в русское повелительное предложение при переводе формулы приведения свидетеля к присяге:
'Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?'
I do' —
"— Торжественно поклянитесь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, да поможет вам бог!
— Клянусь".
Иногда перевод ритуальных формул влечет за собой более сложные семантические и синтаксические преобразования: But just then, and before he could say anything more, a resounding whack, whack from somewhere. And then a voice: "Order in the Court! His Honor, the Court! Everybody please rise!" (Dreiser) — <<Ho не успел он вымолвить и слова, как раздался оглушительный стук и чей-то голос произнес: „Суд идет! Прошу встать!">>
Перевод восклицания судебного пристава требует опущений ("Order in the Court!" = 0), смысловых сдвигов (деятель — действие: His Honor, the Court! — Суд идет!) и др.
Не менее сложные трансформации влечет за собой порой перевод устойчивых формул речевого этикета (behabitives): "See you later, Магу" — Пока, Мэри..., "Ве seeing you, John" — Ну будь здоров, Джон; The two cadets exchanged the careless 'See you's' that people say when they know they will see each other again in a few hours (Life) — «Курсанты обменялись небрежным „Пока", которое произносится, когда люди знают, что им предстоит снова увидеться через несколько часов».
Русские эквиваленты этих формул речевого этикета подыскиваются как "готовые блоки", соответствующие данной коммуникативной ситуации (п рощ ани е, н еф ор м альн ы е ро л ев ы е от но ш ени я между собеседниками).
УСТАНОВКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ
Рассмотрим следующее звено в коммуникативной цепи, представленное элементами ТП в первичной коммуникации иТ'П 2во вторичной. Основной прагматической установкой, характеризующей это звено, является учет расхождений в восприятии одного и того же текста со стороны носителей разных культур, участников различных коммуникативных ситуаций. Здесь сказываются различия в исходных знаниях, представлениях, интерпретационных и поведенческих нормах. По сути дела, этот раздел весьма наглядно подтверждает мысль о том, что "область лингвистической прагматики не имеет четких контуров" [Арутюнова, Падучева, 1985, 41]. В самом деле, круг вопросов, входящих в сферу прагматических отношений "текст—получатель", тем более в ситуации, при которой первичные коммуникативные отношения проецируются на вторичные, настолько широк, что едва ли может быть исчерпывающе освещен в рамках настоящего раздела. Поэтому мы ограничимся лишь некоторыми из многочисленных переводчес- 152
ких проблем, имеющих самое непосредственное отношение к установке на иноязычного получателя.
Прежде всего начнем с отражаемой в тексте предметной ситуации. В этой связи особый интерес представляет перевод реалий — изучаемых внешней лингвистикой понятий, относящихся к государственному устройству данной страны, истории, материальной и духовной культуре данного народа. Сама специфика реалий такова, что они часто находятся вне фонда знаний носителей другой культуры и другого языка.
Как отмечают С. Влахов и С. Флорин, «понятие "перевод реалий" дважды условно: реалия, как правило, непереводима (в словарном порядке), и, опять-таки, как правило, она передается (в контексте) не путем перевода... Основных трудностей передачи реалий при переводе две: 1) отсутствие в ПЯ соответствия (эквивалента, аналога) из-за отсутствия у носителей этого языка обозначаемого... объекта (референта) и 2) необходимость наряду с предметным значением (семантикой) реалии передать и колорит (коннотацию) — ее национальную и историческую окраску» [Влахов, Флорин, 1980,79—80].
В тех случаях, когда у реалии есть словарный эквивалент в языке перевода, казалось бы, их перевод не связан с особыми трудностями и едва ли может быть отнесен к числу cruces translatorum ("крестных мук переводческих") [Левый, 1974, 149], например: — Да вот хоть черкесы, — продолжал он, — как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка (Лермонтов) — Take even the Chercassians,' he went on, 'as they drink their fill of bouza at a wedding or a funeral, the fight begins'.
Однако даже тогда, когда такой эквивалент действительно существует и зафиксирован в словарях, переводчик далеко не всегда может быть уверен в том, что эквивалент входит в рецептивный словарь конечного получателя: Подъехав к подошве Кайшаурской горы, мы остановились возле духана...(Лермонтов) — On reaching the foot of the Kashaur mountain, we stopped outside a dukhan... Английский переводчик М. Паркер сопровождает образованный путем транслитерации словарный эквивалент примечанием: "Caucasian tavern." Показательно, что аналогичным образом поступают и составители словарей. Так, составитель "Oxford Russian- English Dictionary" M. Уилер, переводя духан как dukhan, сопровождает его пояснением: "inn in Caucasus".
Весьма часто при передаче реалий используются гиперонимические (генерализирующие) трансформации, в ходе которых снимаются дифференциальные признаки реалий, составляющие их национальную специфику. Такое решение может быть мотивировано тем, что перенасыщение текста элементами национального колорита может, как отмечалось выше, приводить к нарушению адекватности перевода. Ср. следующий пример: За неимением комнаты для проезжающих на станции нам отвели ночлег в дымной сакле (Лермонтов) — As there was no room for travellers at the post house, we were given lodging in a smoky hut. Слово hut определяется в "Oxford's Advanced Learner's Dictionary" как a small, roughly made house or shelter. В "Большом
153
англо-русском словаре" значение этого слова раскрывается с помощью цепочки синонимов — 'хижина', 'лачуга', 'хибарка'. В то же время в "Толковом словаре русского языка" заимствованное из грузинского сакля определяется как 'хижина, жилище кавказских горцев'. Английский эквивалент не содержит сам по себе указания на то, что речь идет о жилище кавказских горцев, но это опущение восполняется контекстом.
Существенным элементом выбора той или иной переводческой трансформации при переводе реалий является функциональная роль, которую они выполняют в данном тексте, например: — Про матушку нечего сказать, женщина старая. Четьи минеи читает, со старухами сидит, и что Сенька-брат порешит, так тому и быть (Достоевский) — Mother is all right. She's an old woman, reads the lives of the saints, sits with her old women, and what my brother says goes. Церковно-историческая реалия "Четьи минеи" означает издание православной церкви — книгу для чтения на каждый день месяца, содержащую преимущественно жития святых. В гиперонимическом переводе снимается ряд дифференциальных сем: книга для чтения, на каждый день месяца. Но эта детализация в данном случае не столь важна. Ведь назначение фразы Четьи минеи читает...заключается в том, чтобы показать набожность матери Рогожина. Гиперонимическая трансформация преследует в данном случае стилистические цели: она передает экспрессивную окраску исходного выражения.
Для восполнения лакун в системе номинации языка перевода широко используется и интергипонимический способ перевода реалий, т.е. замена одного видового понятия другим в рамках единого родового понятия. Здесь, так же как и в случае генерализации (гиперонимической трансформации), действует функциональный принцип: решающим критерием при выборе способа перевода является степень релевантности дифференциальных признаков, отличающих одно видовое понятие от другого: 'I had Earl take down their names and subpoena 'em for the inquest next Monday.'And the coroner proceeded to retail their testimony about the accidental meeting of Clyde (Dreiser) — "— Я велел Эрлу записать их имена, заполнить повестки и вызвать их в понедельник для допроса. — И следователь подробно передал показания этих людей об их случайной встрече с Клайдом".
В переводе американские реалии coroner и inquest приравниваются к русским словам следователь и допрос. В американском словаре "The Random House Dictionary | of the English language" coroner определяется следующим образом: "an officer, as of a county or municipality, whose chief function is to investigate by inquest, or before a Jury, any death, not clearly resulting from natural causes." Таким образом, речь идет о специальном должностном лице, судебном дознавателе ("коронере"), производящем дознание с участием присяжных в случае насильственной смерти. "Коронер" и "следователь", точно так же как "дознание" и "допрос", — это смежные, но не идентичные понятия. "коронер" и "следователь" — два видовых понятия в рамках родового "должностное лицо, производящее предварительное следствие", а "следствие" и "дознание" — в рамках родового понятия "выяснение обстоятельств уголовного дела". Поскольку дифференциация этих понятий
154
в данном контексте несущественна, переводчик заменил их близкими, хотя и не тождественными, понятиями культуры воспринимающей среды. При этом он сознательно пошел на некоторые (пусть незначительные) смысловые потери, которые не позволяют рассматривать приведенный выше вариант как полностью эквивалентный оригиналу, хотя и не нарушают охарактеризованных выше условий адекватности.
В ряде случаев переводчик использует в качестве межкультурного соответствия культурные аналоги, занимающие иное место в соответствующей системе и отличающиеся рядом существенных характеристик, но совпадающие по ряду функциональных признаков, релевантных для данной ситуации. В этих случаях перевод сводится к замене той или иной культурной, исторической или иной реалии ее контекстуальным аналогом: Alas! we shall never hear the horn sing at midnight, or see the pike-gates fly open any more (Thackeray) — "Увы! Никогда уже не услышим мы звонкого рожка в полночи и не увидим взлетающего вверх шлагбаума".
Pike-gate и шлагбаум представляют собой не тождественные реалии (pike-gate — турникет на заставе, где взимается подорожный сбор). Однако наличие у них функционального инварианта (барьер на дороге) обеспечивает их взаимозаменяемость в этом контексте.
Если в приведенном выше примере национальная реалия заменяется нейтральным аналогом (pike-gate — шлагбаум), то в следующем примере национальная русская реалия заменяется английской: А что касается отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали (Достоевский) — As for our fathers and grandfathers, some of them were only peasant freeholders. Рус. однодворец (низший разряд служилых людей, владевших небольшой землей) и англ, peasant freeholder обнаруживают, несмотря на социально-исторические различия, ряд общих, релевантных для данного контекста признаков (личная свобода, владение небольшим земельным участком, промежуточное положение между крестьянами и помещиками).
Проблема перевода реалий тесно соприкасается с пресуппозицией, одной из важнейших категорий прагматики. Самое непосредственное отношение к проблеме реалий имеет тот класс пресуппозиций, который Н.Д. Арутюнова и Е.В. Падучева относят к прагматическим презумпциям, касающимся знаний и убеждений говорящих. "Говорящий, который высказывает суждение S, имеет прагматическую презумпцию Р, если он, высказывая S, считает P само собой разумеющимся — в частности, известным слушателю" [Арутюнова, Падучева, 1985, 39]. Отсюда следует, что понятие прагматической презумпции тесно связано с понятием фоновых знаний (background knowledge), т.е. исходных знаний, имплицитно присутствующих в высказывании.
Перевод вносит существенные коррективы в прагматические презумпции исходного текста. Ведь если отправитель исходного текста считает P само собой разумеющимся и, стало быть, известным читателю исходного текста, то из этого еще не следует, что данная прагматическая презумпция остается в силе и для читателя перевода — носителя другого языка и другой культуры.
Именно поэтому при передаче реалий, неизвестных или малоиз- 155
вестных иностранному получателю, переводчик нередко предпочитает прибегать к поясняющим добавлениям или к поясняющему (интерпретирующему) переводу: A call to stop the Saturn contract from becoming the pattern is among the 25 resolutions adopted by Local 599 of GM's Buick City auto complex in Flint, the largest of the UAW contingents in GM — «Требование не допустить, чтобы контракт на строительство центра автомобильной промышленности „Сатурн" стал эталоном на будущее, является одной из 25 резолюций, принятых местной профсоюзной организацией № 599 в Бюик Сити, центре автомобилестроения компании „Дженерал моторс" во Флинте, где сосредоточен крупнейший контингент членов Объединенного профсоюза рабочих автомобилестроительной, аэрокосмической и сельскохозяйственной промышленности, работающих в этой компании».
Здесь отсутствие у отправителя и получателя одинаковых прагматических презумпций обусловливает ряд поясняющих добавлений: the Saturn contract — контракт на строительство центра автомобильной промышленности "Сатурн", GM — компания "Дженерал моторс", local — местная профсоюзная организация, auto complex — центр автомобильной промышленности.
Поясняющий перевод нередко принимает форму развертывания усеченного или сокращенного обозначения той или иной реалии: ...they had the best pew at the Foundling...(Thackeray) — "...у них была самая лучшая скамья в церкви воспитательного дома". Foundling в английском тексте представляет собой усеченный вариант Foundling Hospital 'воспитательный дом'. Встречающееся в том же предложении слово pew 'скамья со спинкой в церкви служит основанием для пресуппозиции о существовании в воспитательном доме церкви. Отсюда серия развертывающих трансформаций: Foundling 'воспитательный дом' — церковь воспитательного дома.
Наряду с поясняющим дополнением часто используется поясняющий (интерпретирующий) перевод: —...Я тогда, князь, в третьегодняшней отцовской бекеше через Невский перебегал, а она из магазина выходит, в карету садится (Достоевский) — "...You see, Prince, I was just running across Nevsky Avenue in my dad's long three-year-old overcoat when she came out of the shop and got into her carriage." Здесь бекеша 'старинное долгополое пальто' объясняется как long overcoat.
Порой реалия, знание которой входит в прагматическую презумпцию, лежащую в основе исходного текста, одновременно представляет собой аллюзию — стилистическую фигуру, намек посредством упоминания общеизвестного реального факта, исторического события, литературного произведения и т.п. Приведем в качестве примера известный эпизод из "Пигмалиона" Б. Шоу. Профессор Хиггинс удивляет прохожих своей феноменальной способностью определять, откуда они родом, по их выговору. В разговор вмешивается саркастически настроенный прохожий и говорит, что он легко определит, откуда сам Хиггинс: I сап teil you where you come from. You come from Anwell. Go back there - "Я вам скажу, откуда вы сами. Из Бедлама. Вот и сидели бы там". Hanwell (или, как его произносит говорящий на кокни прохожий, Anwell) — название лондонского пригорода, где распо- 156
ложена известная психиатрическая клиника — факт, входящий в фоновые знания английского читателя, но едва ли известный русскому. Переводчик использует интергипонимический сдвиг: Хэнуэл — Бедлам.
Ср. еще один пример из Шоу: At Harrow they called me the Woolwich Infant — «В Хэрроу меня звали „мальчик из арсенала"». Woolwich Infant, кличка, которую дали одноклассники персонажу из "Майора Барбары" Стивену, — намек на его происхождение: Вулидж — район в восточном Лондоне, где расположен знаменитый арсенал (отец Стивена — крупный оружейный фабрикант). Перевод на русский язык потребовал раскрытия импликации: the Woolwich Infant — "мальчик из арсенала".
Среди переводимых аллюзий особое место занимают ссылки на литературные произведения и литературных персонажей, хорошо известных получателю исходного текста, но необязательно знакомых получателю конечного текста. Так, в русском языке источником многочисленных литературных аллюзий является "Горе от ума" Грибоедова, произведение малоизвестное английскому и американскому читателю. Дословная передача такого рода аллюзий, как правило, не достигает своей цели, оставляя нераскрытой лежащую в ее основе импликацию, например: Их злоба, негодование, остроумие — помещичьи (даже дофамусовские)...(Достоевский) — Their malice, Indignation, and wit are all typical of the men of that class (even before Famusov)...
Even before Famusov, не снабженное ни примечанием, ни поясняющим дополнением, никак не может быть признано прагматически эквивалентным рус. даже дофамусовские. Здесь, очевидно, необходимо раскрыть аллюзию либо путем построчного комментария, либо одним из описанных выше способов: early in the Century, at the turn of the Century, etc.
Иногда возникает возможность нахождения сходной литературной аллюзии из другого, хорошо известного иноязычному получателю, источника. Этот прием, нередко используемый переводчиками, требует предельной осторожности. Ср., например, следующие переводы одного и того же отрывка из "Идиота" Достоевского:
...ведь ты мертвый, отрекомендуйся мертвецом: скажи, что "мертвому можно все говорить"... и что княгиня Марья Алексеевна не забранит, ха- ха! —
а) перевод советского переводчика Ю.М. Катцера: —...but you're dead, you know. Introduce yourself to her дs a dead man and say, "The dead are allowed to say anything" — Princess Maria Alekseevna wont scold you ha-ha!
Здесь Princess Maria Alekseevna сопровождается примечанием переводчика: A personage in Wit Works Woe, the celebrated classical comedy in verse by Alexander Griboyedov (1795-1829). Roughly, the Russian equivalent of Mrs. Grundy;
б) перевод английского переводчика Д. Магаршака: ...but you're dead — dead
introduce yourself as a dead man, tell her, "A dead man may say anything"
and that Mrs. Grundy won't be angry, ha-ha!
Госпожа Гранди, которую вводит в свой перевод Д. Магаршак, ограниченная женщина, нетерпимо относящаяся к любым нарушениям
157
светских условностей, — персонаж, упоминаемый в пьесе "Speed the Plough" (1798) английского драматурга Т. Мортона.
Думается, что превращение княгини Марьи Алексеевны в госпожу Гранди привносит в текст "чуждый национальный колорит", приводит к его "англизации". Поэтому более приемлем перевод Ю.М. Катцера.
Рассмотрим вопрос о роли переводческих примечаний в переводе реалий. Сравнение двух переводов романа Достоевского "Идиот" свидетельствует о том, что Ю.М. Катцер широко использует этот прием, тогда как в переводе Д. Магаршака примечания переводчика практически не встречаются.
Без пояснения или примечания смысл аллюзии в переводе Магаршака часто остается неясным: Подколесин в своем типическом виде, может быть, даже и преувеличение, но отнюдь не небывальщина (Достоевский) — As a type, Gogol's character Podkolyosin is perhaps an exaggeration but he is not by any means a myth.
Для адекватного раскрытия аллюзии необходимо было примечание или объяснительное дополнение, раскрывающее релевантные для данного текста черты Подколесина (нерешительный, колеблющийся, неуверенный в себе, например: Gogol's irresolute character Podkolyosin...).
Отсутствие в переводе M. Паркера ссылки на источник аллюзии не дает возможности воспроизвести существенный элемент культурного фона "Героя нашего времени": На западе пятиглавый Бешту синеет, как "последняя туча рассеянной бури" — Five-peaked Beshtau looms blue in the west like "the last cloud of a dispersed storm" (по-видимому, следовало: like Pushkin's "last cloud...").
Точно так же возникают сомнения относительно раскрытия смысла аллюзии в переводе на русский язык следующего отрывка из пьесы Шоу "Майор Барбара":
U n d e r s c h a f t . ..."My ducats and my daughter!" —
«Андершафт. „Мои дукаты и моя дочь!"»
В этом эпизоде Андершафт цитирует слова Шейлока из пьесы Шекспира "Венецианский купец", когда узнает, что его дочь сбежала, унеся с собой его деньги. Широко известная в английском языке цитата, импликация которой предельно ясна читателю оригинала, едва ли будет полностью понятна русскому читателю.
Раскрытие лежащих в основе текста пресуппозиций и импликаций требует порой глубокого проникновения во внеязыковой контекст. Об этом, в частности, свидетельствует следующий отрывок из книги "Don't Fall Off the Mountain", автобиографии американской кинозвезды Шерли Маклейн: I was born into a cliche-loving middle class Virginia family. То be consistent with my background I should have married an upstanding member of the community and had two or three strong-bodied children who ate Wonder Bread eight ways.
Этот пример приводится в цитированной выше книге В. Вильса. Пример сопровождается переводом на немецкий язык Евы Шенфельд: Ich wurde in ein; traditionsbewusste KleinbOrgerfamilie Virginias hineingeboren. Um den klischeevorstellungen meiner Umwelt zu genьgen, hдtte ich ein aufstrebendes Gemeindemitglied ehelichen und ihm zwei bis drei
158
wohlgeratene Kinder gebдren mьssen, die Gesundheitsbrot auf acht verschiedene Arten assen.
Не удовлетворенный этим переводом, Вильс предлагает свой собственный вариант: Ich kam im Virginia als King einer klischeeliebenden Mittelstandsfamilie zur Welt. Hдtte ich ihren gesellschaftlichen Vorstellungen treu bleiben wollen, hдtte ich ein stattliches Mitglied unserer Gemeinde heiraten und zwei oder drei krдftige Kinder bekommen (kriegen) mьssen, die Golden Toast auf achterlei Art assen.
Ср. наш собственный перевод этого отрезка на русский язык: 'Я родилась в Вирджинии в мыслящей прописными истинами мещанской семье. Если бы я осталась верной своей среде, то вышла бы замуж за столпа местного общества и родила бы ему двух или трех крепышей, вроде тех, которых изображают на рекламах детского питания'.
Здесь основной пресуппозицией, лежащей в основе выбора языковых вариантов при переводе является то, что автор порвал со своей средой. Отрицательное, ироническое отношение к этой среде является лейтмотивом всего отрывка. Так, Е. Шенфельд передает middle-class family как Kleinbьrgerfamilie. В. Вильсу такой перевод представляется отступлением от подлинника, переоценкой, привносящий в текст пейоративную коннотацию. С этим едва ли можно согласиться (ведь и в английском языке middle-class не вполне нейтральное понятие).
Известная нейтрализация оценочного признака происходит при передаче англ, cliche'-loving посредством нем. traditionsbewusst, но это компенсируется при передаче background словосочетанием Klischeevorstellungen meiner Umwelt.
Пожалуй, наиболее интересным компонентом этого отрывка является его концовка: ...two or three strong-bodied children who ate Wonder Bread eight ways. Разумеется, американскому читателю хорошо знаком этот широко рекламируемый продукт. Фраза who ate Wonder Bread eight ways воспроизводит в несколько модифицированном виде текст популярной рекламы. Вариант, предлагаемый Е. Шенфельд (die Gesundheitsbrot auf acht verschiedene Arten assen) не раскрывает коннотации оригинала. Единственное преимущество, которым обладает по сравнению с ним вариант В. Вильса, — это введение в текст названия хлебного продукта — Golden Toast, знакомого западногерманскому читателю. Однако и здесь коннотация исходного текста не раскрыта.
Попытаемся обосновать предлагаемый нами перевод. Фраза cliche- loving middle-class family переводится как 'мыслящая прописными истинами мещанская семья'. В русском языке слово клише чаще всего ассоциируется с газетными штампами и означает шаблонное выражение, избитую мысль. Отсюда — 'мыслящая прописными истинами', выражение, более приемлемое в данном контексте и более понятное, чем, скажем, 'любящая клише'. В предлагаемом нами варианте middle-class family переводится как 'мещанская семья', что вполне соответствует общей оценочной коннотации отрывка.
Наконец, в концовке предпринимается попытка раскрыть скрытые ассоциации текста. ...two or three strong-bodied children who ate Wonder
159
Bread eight ways передано как '...двух или трех крепышей, вроде тех, которых изображают на рекламах детского питания'. Такой перевод может показаться несколько вольным. Однако он прагматически мотивирован установкой на русского получателя. В самом деле, если у американского читателя цитата из текста хорошо известной рекламы "чудо-хлеба" (...ate Wonder Bread eight ways) вызывает ассоциации с изображением упитанных малышей, то у русского читателя семантически эквивалентный перевод может вызвать подобные ассоциации лишь при наличии пространных примечаний и разъяснений. Предлагаемый нами вариант построен на отказе от аллюзии, которая содержится в исходном тексте. Вместо нее вводится знакомый читателю образ, основанный на ассоциативной связи рекламы детского питания и пышущих здоровьем малышей. Так раскрывается намек, остающийся нераскрытым при дословном воспроизведении концовки текста.
Еще одним важным аспектом учета установки на получателя является отражение в речи персонажей социально детерминированной вариативности языка — стратификационной, связанной с делением общества на социальные страты — слои, группы и т.п., и ситуативной, связанной с меняющимися параметрами социальной ситуации.
Ниже рассматривается речь, изображаемая в художественном тексте, т.е. в какой-то мере обработанная и стилизованная. Как правило автор не воспроизводит натуралистически спонтанную речь с ее многочисленными отклонениями от языковых и логических правил. Речевые характеристики, в которых выявляется стратификационная и ситуативная вариативность речи персонажей, обычно присутствуют в ней в виде отдельных маркеров (социальных, локальных, ролевых), характеризующих персонажей через особенности их языка. Сложность данной проблемы заключается в том, что эти маркеры приходится воссоздавать средствами другого языка, где сама система стратификационной и ситуативной дифференциации часто носит совершенно иной характер.
Одной из самых сложных задач является передача стратификационной вариативности, находящей свое выражение в локальных особенностях речи.
При передаче диалектной речи и просторечия широко используются различные компенсационные приемы: ...на гробе родительском ночью брат кисти литые, золотые обрезал... Они, дескать, эвона каких денег стоят. Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому оно есть святотатство (Достоевский) — That brother of mine cut off he tassels from my dad's coffin at night; solid gold they was; cost a fortune, they does. Why, damn him, I could send him to Sibena for that, so help me, for it's sacrilege, it is...
В переводе вместо русского диалектизма эвона и просторечного потому оно есть святотатство используются элементы общеанглийского (не маркированого локально) просторечия. При этом они являются в тексте не обязательно в тех же местах, где у Достоевского используются диалектно-просторечные элементы. Например, фраза Они, дескать, эвона каких денег стоят переведена: cost a fortune, they
160
does. Здесь просторечное they does не входит, подобно звона, в структуру адъективно-именной фразы (звона каких денег), а добавляется в конце предложения. В другом случае переводчик использует просторечный оборот solid gold they was там, где у Достоевского употребляется нейтральное кисти литые, золотые.
Такая перестановка элементов стратификационных характеристик вполне возможна и допустима. Дело в том, что их функциональное предназначение заключается в передаче речевой характеристики данного персонажа. Отнесенность стратификационных характеристик к речи персонажа в целом, отсутствие привязанности к тому или иному элементу текста дают возможность переводчику относительно свободно маневрировать этими маркерами в тексте.
Более того, в ряде случаев в качестве экспонентов стратификационной вариативности в переводе избираются единицы совершенно иного уровня языковой структуры. Это происходит, например в тех случаях, когда репрезентация диалектной речи в оригинале целиком и полностью опирается на фонетические характеристики, которые, естественно, не передаются в переводе, например: Now then, Freddy: look wh' у' gowin, deah... Theres menners Pyer! Тэ-оо banches o voylets trod into the mad... Ow, eez ye-ooa son, is e? Wa!, fewd dan y'de-ooty bawmz a mather should, eed now battern to sprawl а роге gel's flahrzn than ran awy athaht pyin. Wil ye-oo py me f'them (Shaw).
В переводе центр тяжести стратификационной характеристики переносится на просторечно окрашенную лексику и фразеологию: "Куда прешь, Фредди? Возьми глаза в руки! А еще образованный. Все фиалочки в грязь затоптал... А, так это ваш сын? Нечего сказать, хорошо вы его воспитали. Разве это дело, раскидал у бедной девушки все цветы и смылся, как миленький. Теперь вот платите, мамаша".
В третьем действии "Пигмалиона", когда Элиза уже прошла коррективный фонетический курс у профессора Хиггинса, ситуация меняется. Из ее речи исчезают фонетические признаки кокни, но сохраняются некоторые грамматические и лексические признаки просторечия. Ср. следующий пример: What become of her new straw hat that should have come to me?Somebody pinched it;and what I say is, them дs pinched it done her in — "А вот где ее шляпа соломенная, новая, которая должна была мне достаться? Сперли. Вот и я говорю, кто шляпу спер, тот и тетку укокошил".
В оригинале на фоне безупречного произношения Элизы рельефно проступают такие просторечные черты, как сленгизмы pinch 'украсть', do in 'убить', просторечные грамматические формы what become (вм. what has become или what became), them дs pinched it done her in (вм. those who pinched it have done her in).
Переводчик использует для передачи этих социально маркированных элементов речи просторечную лексику (спереть, укокошить), разговорные обороты (Вот и я говорю).
Иногда ради передачи важной речевой характеристики допускаются небольшие смысловые сдвиги: She thought you was a copper's nark, sir (Shaw) — "Она думала, сэр, что вы шпик". В английском сленге a copper's nark — это полицейский осведомитель, доносчик, тогда как шпик —
161
11.Зак. 311
это сыщик, полицейский шпион. В данном случае такой несущественный семантический сдвиг вполне оправдан, поскольку он передает важный элемент социальной характеристики персонажа.
К проблеме передачи речевых характеристик относится также передача в переводе речи иностранца. Определенную роль в изображении иностранной речи в переводе играют структурные возможности и традиции языка перевода. Рассмотрим следующий пример из романа Хемингуэя "Иметь и не иметь":
' When did you get married?' Rodger asked him.
'Lasta month. Montha for last. You come the wedding?'
'No,'said Rodger. 'I didn`t come to the wedding.'
'You missa something,'said Hayzooz. 'You missa damn fine wedding, what a matta you no come?'—
" — Когда это вы поженились? — спросил его Роджер.
Прошла месяц. Месяц, который до это. Вы приходил на свадьба?
Нет, — сказал Роджер. — Я не приходил на свадьбу.
Вы много потерял, — сказал Хэйсус. — Вы потерял весела свадьба. Почему так, вы не приходил?"
В оригинале речь кубинца изображается с помощью морфологических и синтаксических маркеров (lasta month, missa, come the wedding). В переводе мы находим типичную для русского языка репрезентацию речи иностранца: нарушение правил морфологической связи между элементами синтаксических конструкций (прошла месяц, вы приходил на свадьба, вы много потерял), упрощение синтаксических конструкций (Почему так, вы не приходил?).
Еще одним аспектом стратификационной вариативности является вариативность, связанная с принадлежностью к различным профессиональным группам. Здесь основной проблемой является передача профессионализмов в речи персонажей, например:
А вы долго были в Чечне?
Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою у Каменного брода, знаете? (Лермонтов) —
"Were you long in Chechna?"
"Quite a while — ten years garrisoning a fort with a company. Out Kamenny Brod way. Do you know the place?"
Глагол стоять в значении 'иметь местопребывание', 'жить' сопровождается в "Толковом словаре русского языка" под ред. Д.Н. Ушакова пометой устар. воен. В прошлом этот лексико-семантический вариант глагола стоять был военным профессионализмом. См., например: Городок Б. очень повеселел, когда начал в нем стоять*** кавалерийский полк (Пушкин).
В переводе также используется военный профессионализм (garri- soning).
Наконец, помимо социальных речевых характеристик существуют и индивидуальные характеристики, передача которых в их неповторимости является одной из важнейших проблем художественного перевода. В качестве примера можно привести тот витиеватый стиль, которым характеризуется речь одного из персонажей "Идиота" Достоевского — генерала Иволгина, использующего помпезные и высоко- 162
парные речевые штампы. Ср., например: Все это было для него совершенным сюрпризом, и бедный генерал был "решительно жертвой своей неумеренной веры в благородство сердца человеческого, говоря вообще".
Для передачи этого пародийного стиля необходимо прежде всего найти столь же избитые штампы. Сохранение именно этой черты (т.е. насыщенности штампами) оказалось в данном случае важнее, чем скрупулезное воспроизведение референциального смысла. Именно так поступил английский переводчик этого произведения Д. Магаршак: АН that came as a great shock to him, and the poor general was 'most decidedly the victim of his unbounded faith in human nature'. Сторонники дословного перевода найдут здесь некоторые отступления от смысла оригинала. В самом деле, ведь у Достоевского генерал верит в "благородство сердца человеческого", а у Магаршака просто в "человеческую натуру". Но достоинством магаршаковского unbounded faith in human nature является то, что это речевой штамп. Таким образом, переданной оказалась важнейшая функциональная характеристика текста.
Перейдем к вопросу о передаче другого важного измерения вариативности речи — ситуативного. Одним из ключевых понятий, лежащих в основе ситуативной дифференциации, является понятие социальной речи. В процессе социального взаимодействия человеку приходится "проигрывать" более или менее обширный репертуар социальных ролей и вступать в различные ролевые отношения (например, начальник — подчиненный, учитель — ученик, отец — сын, муж — жена, приятель — приятель и др.). Смена ролей существенным образом изменяет социальную ситуацию, характеризующую отношения между коммуникантами, отражаясь при этом на выборе языковых средств (социолингвистических переменных) [Швейцер, 1976, 81].
В разделе, посвященном отношению между теорией перевода и социолингвистикой, мы уже касались такого индикатора ролевых отношений, как оппозиция русских личных местоимений ты и вы. Рассмотрим ее подробнее.
Многозначность и многомерность этой оппозиции [Friedrich, 1972] не дает возможности сформулировать жесткие правила их передачи при переводе на язык, где подобная оппозиция отсутствует, например на английский. Так, в приведенном выше примере из "Идиота" Достоевского публичное обращение Настасьи Филипповны к знакомому человеку на "ты" (афиширование интимных отношений) передается путем добавления интимного обращения darling. И далее эта форма обращения настойчиво повторяется: "...Я ведь думала, что ты там... у дяди!" —
' You see, darling, I thought you were at your uncle's.'
Но в других случаях актуализируются другие семантические компоненты этой оппозиции, и переводчику приходится искать иных решений, например прибегать к объяснительному (интерпретирующему) переводу:
« — Парфён, может, я некстати, я ведь и уйду,— проговорил он наконец в смущении.
— Кстати! Кстати! — опомнился наконец Парфён.
163
Они говорили друг другу „ты"» —
Tm sorry, Parfyon', he said, at last, looking embarassed;'perhaps, I haven't come at the right moment. I can go away, if you like'.
'No, no!'Parfyon cried recollecting himself. 'Do come in. I'm glad to see you'.
They spoke to each other like two old friends. Последняя фраза раскрывает коннотацию "дружеского ты", реализуемого в тексте.
Наконец, еще один пример употребления ты в том же романе — это асимметричное ты, используемое по отношению к лицу, занимающему более низкое положение в социальной иерархии. Это не "дружеское ты", предполагающее ответное обращение на "ты" (симметричное ты), а барское или начальственное ты, не допускающее такого же обращения со стороны собеседника:
" — Если лень колокольчик поправить, так по крайней мере в прихожей бы сидел, когда стучатся. Ну вот теперь шубу уронил, олух...
Прогнать тебя надо. Ступай доложи...
Ну вот теперь с шубой идет! Шубу-то зачем несешь? Ха-ха-ха! Да ты сумасшедший, что ли?"
Эти реплики адресованы Настасьей Филипповной князю Мышкину, которого она принимает за лакея. В русском языке мы находим и лексические индикаторы ролевых отношений (олух, сумасшедший), и грамматические индикаторы (обращение в 3-м лице — шубу уронил, теперь с шубой идет...), но главным индикатором здесь является асимметричное ты. Рассмотрим теперь английский перевод этого отрывка:
'If you're too lazy to mend the bell, you might at least wait in the hall when people knock.There, now he's gone and dropped my coat, the oaf!'
They ought to sack you! Go along and announce me'.
'Well, now he's taking my coat with him! What are you carrying my coat for? Ha-ha-ha! Why, you're not mad, are you?'
В переводе отражены должным образом лексические индикаторы (oaf, mad), обращение в 3-м лице (now he's gone and dropped my coat; now he's taking my coat with him). Но главная роль здесь принадлежит приемам, компенсирующим обращение на "ты". Эти приемы носят скорее негативный характер: во всех приведенных выше репликах обращает на себя внимание "значимое отсутствие" вежливых форм (please, would you mind..., вопросов типа will you announce me и т.п.).
Немотивированный сменой ролевых отношений переход на "ты" в русском языке может преследовать те же цели (унизить, оскорбить собеседника). Так, в одном из эпизодов романа Достоевского "Идиот" Ганя, взбешенный попыткой князя Мышкина заступиться перед ним за его сестру, кричит ему: — "Да вечно, что ли, ты мне дорогу переступать будешь?"
В переводе используется добавление — грубое damn it: 'Damn it... you're not always going to stand in my way, are you?'
Иногда внезапный переход на "вы" у людей, для которых нормой является обращение на "ты", также представляет собой умышленное нарушение правил речевого поведения и несет экспрессивную коннотацию. Так, в том же романе Достоевского в сцене ссоры с сестрой
164
Ганя внезапно переходит на "вы" и на обращение по имени и отчеству, демонстрируя свою отчужденность:
" — Из упрямства! — вскричал Ганя. — Из упрямства и замуж не выходишь! Что на меня фыркаешь. Мне ведь наплевать, Варвара Арнольдовна, угодно, хоть сейчас исполняйте ваше намерение. Надоели вы мне очень" — 'Out of obstinacy!' cried Ganya. 'You don`t get married out of obstinacy too! What are you snorting at me for? I don't саге a damn, sister dear! You can carry out your threat. I'm sick and tired of you.'
В английском тексте для изображения перехода на "вы" здесь используется компенсационный прием — помещенное в необычный контекст ласковое обращение sister dear приобретает иронический смысл.
От описанных выше случаев экспрессивного употребления индикаторов ролевых отношений следует отличать подлинную перемену ролевых отношений, происходящую иногда в ходе одного и того же речевого акта по молчаливому согласию собеседников (пересмотр ролевых отношений). Так, в одном из эпизодов "Героя нашего времени" Лермонтова Максим Максимович, делая официальный выговор младшему по чину Печорину, обращается к нему на "вы", но тут же переходит на дружеский тон и в дальнейшем называет его на "ты":
" — Господин прапорщик! — сказал я как можно строже. — Разве вы не видите, что я к вам пришел?
Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал:
— Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо".
Здесь перед нами происходит пересмотр ролевых отношений: господин прапорщик и обращение на "вы" сигнализируют об отношениях "начальник — подчиненный"; Григорий Александрович и обращение на "ты" — индикаторы отношений друзей.
В английском переводе это передано следующим образом:
'Ensign! Sir!' I said as severely as I could.
'Don`t you realize that I`ve come to see you?'
Здесь индикаторами официальных ролевых отношений являются обращения Ensign! и Sir! При переводе с языка, где эта оппозиция не выражена, на язык, где она должна быть обязательно представлена тем или иным членом, необходим всесторонний учет языкового и внеязыкового контекста. Так, в переводе с английского на русский переводчик должен решить, что' скрывается за недифференцированным английским you — вы или ты.
О том, что это решение не всегда бывает достаточно обоснованным, свидетельствует следующий пример из перевода на русский язык "Американской трагедии" Т. Драйзера:
And girls and women... calling to him gaily and loudly as the train moved out from one Station to another:
"Hello, Clyde! Норе to see you again soon. Don`t stay too long there" — «И бывало, что какая-нибудь женщина или девушка... громко и весело кричала вслед отходящему поезду: „Хэлло, Клайд! Мы еще увидимся. Смотрите, не засиживайтесь там"».
В этом эпизоде описывается путь Клайда, которого везут из ок- 165
ружной тюрьмы в тюрьму штата. Собиравшиеся на платформе молодые женщины и девушки кричат ему ободряющие слова. Здесь ролевые отношения, возраст, статус коммуникатов — все подсказывает выбор ты. Анализ контекста в таких случаях обычно сводится к поиску контекстуальных индикаторов, например форм обращения, помогающих выбрать соответствующее личное местоимение при переводе уои на русский язык:
"MISS JEMINA!" exclaimed Miss Pinkerton, in the largest capitals. "Are
you in your senses? Replace the Dixonary in the closet and never venture to
take such a liberty in the future."
"Well, sister, it's only two-and-ninepence, and poor Becky will be
miserable if she dont get one."
"Send Miss Sedley instantly to me,"said Miss Pinkerton (Thackeray) — "Мисс Джемайна! — воскликнула мисс Пинкертон". (Выразительность
этих слов требует их передачи прописными буквами. — А. Ш." — Да вы в
своем ли уме? Поставьте словарь в шкаф и впредь никогда не позволяйте
себе подобных вольностей.
Но, сестрица, ведь всей книге цена два шиллинга девять пенсов, а для бедняжки Бекки это такая обида.
Пришлите мне сейчас же мисс Седли, — сказала мисс Пинкертон".
В этом случае контекстуальные индикаторы противоречивы. С одной стороны, речь идет о сестрах — мисс Пинкертон, содержательнице пансиона, и мисс Джемайне. Все языковые маркеры свидетельствуют о сугубо официальном характере ролевых отношений между ними. Ср., например, обращение мисс Джемайна, официальный регистр реплик мисс Пинкертон:"...never venture to take such a liberty in the future"; "Send Miss Sedley instantly to те"; наконец, в другом месте — "Have you completed all the necessary preparations incidental to Mis$ Sedley's deperture?" Все это не оставляет сомнения в обоснованности решения переводчика в пользу вы.
Разумеется, индикаторами ролевых отношений служат не только личные местоимения. Прежде всего, существуют системы форм обращения, принятые в исходном языке и языке перевода и выполняющие аналогичную оппозициям местоимений функцию индикаторов ролевых отношений, например:
1) D o o l i t t l e . Morning. Governor... I come about a very serioua matter, Governor (Shaw) —
Д у л и т т л . Доброе утро, хозяин... Я к вам по очень важному делу хозяин".
2) L a d y U t t e r w o r d . Nurse, will you please remember that I am Lady Utterword, and not Miss Addy, nor lovey, nor darling, nor doty, Do you hear?
N u r s e . Yes, ducky: all right. I'll teil them to call you my lady (Shaw) —, "Леди Эттеру орд . Няня, потрудитесь запомнить, что я леди
Эттеруорд, а не мисс Эдди, и никакая не деточка, не цыпочка, не
крошечка.
Н я н я . Хорошо, душенька, я скажу всем, чтобы они называли вас
миледи".
166
В первом примере папаша Дулиттл, явившись в дом профессора Хиггинса, обращается к хозяину дома, называя его governor. В британском варианте английского языка governor — иронически- почтительное обращение к отцу, нанимателю, начальнику ("Chambers's Twentieth-century dictionary"). Для мусорщика Дулиттла, по-видимому, обычным является ролевое отношение "рабочий — наниматель". В русском языке при таких ролевых отношениях функциональным аналогом governor служит обращение хозяин.
Второй пример (из пьесы Шоу "Дом, где разбиваются сердца") интересен тем, что в нем старая няня никак не может пересмотреть ролевые отношения, которые когда-то существовали между нею и ее питомцами: несмотря на полученный ею выговор от леди Эттеруорд, она упорно продолжает называть ее ducky.
Разумеется, каждая система обращения привязана к определенной культурно-исторической среде. Попытки механического переноса этих обращений в иную среду далеко не всегда оказывались успешными. Так, в собрание переводческих анекдотов вошли обычные для английских переводчиков XIX в. (в том числе и для известной переводчицы русской классической литературы на английский язык К. Гарнет) переводы старых русских обращений батюшка и матушка как Little Father и Little Mother. Некоторые буквализмы отмечаются и в наше время. Ср. следующий отрывок из романа Хемингуэя "Иметь и не иметь", переведенного опытной переводчицей Е. Калашниковой: 'Get out of here,' I told him. 'You're poison to me.' 'Brother, don't I feel as bad about it as you do!' — " — Убирайся вон, — сказал я ему, — смотреть на тебя противно.
— Братишка, да разве я не огорчен так же, как и ты?" Обращение братишка привносит в текст романа чуждый ему национально- исторический колорит. В сознании современного русского читателя оно ассоциируется с периодом гражданской войны. Этого смещения исторической перспективы можно было бы легко избежать, переведя brotner как приятель, дружище и т.п.
Думается, что наиболее типичным стилистическим коррелятом ролевых отношений является так называемая "тональность" — термин, предложенный М.А.К. Хэллидеем (см. гл. I, раздел "Теория перевода и социолингвистика"). Приведем лишь некоторые примеры:
1) ...a fact which both Belknap and Jephson realized and which caused the latter to appear most frequently at Clyde's door with the greeting: "Well, how's tricks to-day?" (Dreiser) —
"Это понимали оба адвоката, и поэтому Джефсон все чаще появлялся у двери в камеру Клайда со словами: — Ну как сегодня наши делишки?";
2) — Тьфу тебя! — сплюнул черномазый. — Пять недель назад я вот, как и вы, — обратился он к князю, — с одним узелком от родителя в Псков убег, к тетке, да в горячке там и слег, а он без меня и помре. Кондрашка прошиб. Вечная память покойнику (Достоевский)—'Oh, to hell with you!' exclaimed the swarthy man, looking disgusted. 'Fiveweeks ago,' he addresed the prince, 'I ran away from my dad, with a small bundle, like yours, to my aunt in Pskov. I fell ill of a fever and took to my
167
bed, and he died while I was away. Died of a stroke, he did. May his soul rest in peace';
3) Well, I heard him say, 'By Jove, she's a neat little filly'(Thackeray) - «Тут я услышала, как капитан сказал: „Черт возьми, премилая девчурка"».
В этих примерах тональность реализуется в виде какого-либо определенного тона (фамильярного, развязного, грубого и т.п.). Так, в первом примере приветствие адвоката Джефсона (how's tricks today?) характеризуется дружески-фамильярным тоном. В переводе используется одно из традиционных средств передачи различных оттенков тональности — русское суффиксальное образование (ср. как наши дела? и как наши делишки?).
Тон высказывания во втором примере — грубый, резкий (Тьфу тебя! Кондрашка прошиб). Здесь переводчику удалось передать тональность лишь частично: Тьфу тебя! — Oh, to hell with you! Кондрашка прошиб передано как Died of a stroke — перевод, семантически вполне точный, но стилистически неадекватный. Ведь кондрашка — это просторечно- фамильярный эквивалент литературного апоплексический удар. Это не значит, что именно эту лексему необходимо было во что бы то ни стало передать с соответствующей эмоционально-стилистической коннотацией. Однако можно было использовать какой-либо компенсационный прием (например, had a stroke and kicked the bucket).
В третьем примере ролевые отношения собеседников характеризуются развязно-фамильярным тоном (ср.: by Jove!...a neat little filly). В переводе для передачи этого тона используются междометие черт возьми! и аффиксальные экспрессивные средства (премилая, девчурка).
Пересмотр ролевых отношений, как правило, также находит свое выражение в тональности речевого акта. Так, в пьесе Шоу "Майор Барбара" один из персонажей, Прайс, в присутствии Дженни, девушки из Армии спасения, говорит с Питером Шерли, только что прибывшим в убежище Армии спасения, ханжеским тоном, подделываясь под стиль проповеди: Poor old man! Cheer up, brother: you'll find rest and appiness ere...
Как только Дженни выходит из комнаты, он тут же переходит на фамильярно-снисходительный тон завсегдатая ночлежки, наставляющего новичка:
Ere, buck up, daddy! She's fetchin y'a thick slice a breadn treacle, an a mug a sky blue...
No good jawring about it. You're only a jumped-up, jerked-off, orspittle- turned-out inscurable of an ole working man: who cares about you Eh? Make the thievin swine give you a meal: they`ve stole many a one from you. Get a bit o yours bark.
Но лишь Дженни возвращается в ночлежку с едой, он вновь переходит на прежний тон: There you are, brother. Awsk a blessin an tuck that into you.
Языковые рефлексы смены ролевых отношений четко прослеживаются и в переводе: 168
"Несчастный старик! Возвеселись, брат: здесь ты обретешь отдых, мир и счастье...
Ну же, встряхнись, папаша, сейчас она тебе притащит кусок хлеба с патокой да воды с молоком...
Что толку ныть, инвалид ты несчастный! Вышвырнули тебя, вытурили, дали по шее, кому ты теперь нужен? Пусть эти жулики хоть обедом тебя накормят, посчитай-ка, сколько обедов они у тебя украли! Хоть что-нибудь из своего вернешь...
Ну, брат мой, помолись и принимайся за угощение."
Смена тональности мастерски передана в переводе. Можно сказать, что тон проповедника, который в начале и в конце отрывка принимает Прайс, выражен в переводе еще отчетливее, чем в оригинале (ср., например, разговорные англ, cheer up и tuck that into you и рус. возвеселись, принимайся за угощение ). Стилистический контраст между эпизодами, на которые разделяется этот отрывок, четко прослеживается при сопоставлении кореферентных выражений (например, cheer up — возвеселись и buck up — встряхнись, brother — брат и daddy — папаша). Жаргонное skyblue переводится нейтральным вода с молоком, но с точки зрения общей тональности отрывка это частично компенсируется разговорно-просторечным притащит вместо нейтрального принесет (на наш взгляд, здесь можно было бы пойти на известные семантические жертвы и перевести a mug a skyblue как миска баланды ).
Для реализации некоторых ролевых отношений весьма существенна обстановка (setting), в которой происходит речевой акт. Так, для реализации роли судебного пристава необходима соответствующая обстановка — зал суда. Выполнение ролевых обязанностей предусматривает иногда произнесение ритуальных фраз, например:
And then a voice: "...Oyez! Oyez! All persons having business before the honorable Supreme Court of the State of New York, County of Catarqui, draw near and give attention. The court is now in Session" (Dreiser) — "Слушайте, слушайте! Все лица, чье дело назначено к слушанию в Верховном суде штата Нью-Йорк, округ Катарки, приблизьтесь и будьте внимательны! Сессия суда открывается".
Здесь, очевидно, требуется более традиционный функциональный аналог английской фразы the court is now in Session. На наш взгляд, таким аналогом является: Заседание суда объявляется открытым'.
Столь же ритуальными являются фигурирующие в следующем примере формулы, которые использует лакей во время приема гостей: — Ваше сиятельство! Его превосходительство просит вас пожаловать к ее превосходительству, — возвестил лакей (Достоевский) — "His excellency, sir, requests your presence in her excellency's apartments,"announced the fireman.
Из сказанного никак не следует, что ролевые отношения проявляются лишь в диалогической речи персонажей в художественных текстах. Фактически ролевые отношения самым тесным образом связаны с дифференциацией языка в плоскости функциональных стилей и жанров. На это справедливо указывает К.А. Долинин, отмечающий, что, "функциональные стили — это не что иное, как обобщенные речевые жанры, т.е. речевые нормы построения определенных, достаточно
169
широких классов текстов, в которых воплощаются обобщенные социальные роли, такие, как ученый, администратор, поэт, политик, журналист и т.п. Эти нормы — как и всякие нормы ролевого поведения — определяются ролевыми ожиданиями и ролевыми предписаниями, которые общество предъявляет к говорящим (пишущим). Субъект речи (автор) знает, что тексты такого рода, преследующие такую цель, надо строить так, а не иначе, и знает, что другие (читатели, слушатели) ждут от него именно такого речевого поведения" [Долинин,, 1978, 60].
Моделирование повседневного ролевого поведения, в котором важная роль принадлежит установке на адресата, прослеживается, например, в языке средств массовой коммуникации. Для последних характерно сочетание установки на "усредненного" массового получателя с дифференцированной ориентацией на определенные категории получателей. Процессы стандартизации языковых средств, деспециализации и популяризации терминов и др. отражают в той или иной степени апелляцию к массовому читателю. Вместе с тем для языка средств массовой коммуникации характерна определенная вариативность используемых языковых средств в зависимости от установки на те или иные социальные слои. Ср. следующие примеры текстов передовых статей из американских газет "Нью-Йорк тайме" и "Дейли ньюс"[см.: Швейцер, 1976, 111].
The New York Times Daily News
For decades architects in this Our only regret is that some such Step
country and abroad have been designing wasn't taken a long time ago and made to
and building homes that, depending upon stick... Philadelphia has recently slapped a
the climate, could be heated wholly or in similar no-parking order on its business
part by the sun... То hasten wider use of area... Plenty of people at first will try to
solar energy in residential construction and chip holes in the no-parking rules, for their
to get various research under way on its own private benefits. We imagine more
application in industrial and commercial than one motorist will try to slip
use, the House of Representatives is somethmg to the nearest сор for letting
considering today a bill to establish a 50- him park awhile where he shouldn't. million-dollar, five-year demonstration program.
Сопоставление этих двух текстов свидетельствует об известной корреляции между отбором языковых средств и спецификой адресата. Так, текст из "Нью-Йорк таймс" обнаруживает определенную селективность в отборе языковых средств с учетом той "просвещенной и респектабельной" аудитории, к которой апеллирует газета. Это находит свое проявление в строгой ориентации на кодифицированный литературный язык. Порой в качестве социолингвистических переменных здесь выступают единицы книжно-письменной речи, противопоставленные более нейтральным и разговорным (например, residential construction вм. home building; its application in industrial and commercial use вм. its use in industry and trade). Вместе с тем этому тексту присущи и некоторые характерные для средств массовой коммуникации признаки универсальности, ориентации на "усредненного" получателя: здесь отсутствуют, например, специальные термины (не считая деспециализированных типа "solar energy", вошедших
170
в широкий обиход), хотя обсуждаемая тема (использование солнечной энергии) и могла бы в известной мере оправдать их использование.
Совершенно иначе выглядит текст из "Дейли ньюс" — массового издания, рассчитанного на менее взыскательную аудиторию.
Здесь социолингвистическими маркерами являются такие единицы сниженной разговорной лексики и фразеологии, как to make something stick 'закрепить', to clap an order 'спустить указание', to chip holes 'вынюхивать лазейки', to slip something 'сунуть в лапу', сор 'полицейский'. Автор статьи как бы разговаривает "на равных" с малообразованным обывателем, на которого ориентирована газета.
Попытаемся проследить, как отмеченная выше тональность прослеживается в переводе на русский язык:
Нью-Йорк таймс Дейли ньюс
В нашей стране архитекторы уже в Жаль только, что такие меры не были
течение ряда десятилетий проектируют и приняты раньше и притом "без дураков"...
строят дома, которые, в зависимости от Недавно городские власти Филадельфии
климатических условий, могли бы спустили указание о запрете стоянки в
полностью или частично отапливаться за деловом центре города... Конечно,
счет солнечной энергии... В целях найдется немало людей, которые
ускорения широкого применения попытаются вначале вынюхивать лазейки в
солнечной энергии в жилищном правилах, запрещающих стоянку. Наверняка
строительстве и развертывания серьезных найдется немало водителей, которые
исследований для обеспечения ее попытаются "сунуть в лапу" ближайшему
применения в промышленности и торговле "фараону", чтобы тот позволил им
палата представителей приступает сегодня поставить на стоянку машину, где это
к рассмотрению законопроекта о выделении запрещено. 50 миллионов долларов на осуществление опытно-показательной программы, рассчитанной на пять лет.
В переводе из "Нью-Йорк тайме" мы находим ту же ориентацию на литературный язык, специфические признаки книжной речи в синтаксисе (сложные синтаксические конструкции, причастные обороты) и лексике (климатические условия, осуществление, обеспечение, развертывание и др.). Что касается перевода из "Дейли ньюс", то в нем достаточно точно передана разговорно-фамильярная тональность оригинала (ср. разговорно-просторечные без дураков, сунуть в лапу, фараон и др.).
Ср. также следующий пример из русского газетного текста, адресованного подростку: Для непосвященных зрителей, которые, запрокинув головы, с восхищением следят за тобой с земли, полет представляется воздушной прогулкой. Они не знают, сколько долгих часов провел ты за тренажером, с какой методичностью вгонял тебя в пот инструктор... — То the unlnitiated rubbernecks who, with bated breath, watch you from the ground, your flight looks like a pushover. Little do they know how many long hours you have spent at the flight Simulator or how hard the instructor has been sweating you.
В русском тексте основным маркером ролевых отношений является ты. В переводе на английский текст используются компенсирующие стилистические средства (сленг rubberneck 'наблюдатель, зритель', сленг pushover 'легкое дело').
Как следует из сказанного, переводческие проблемы, связанные с
171
учетом установки на получателя (перевод реалий, аллюзий, передача маркеров стратификационной и ситуативной вариативности), охватывают необычайно широкий диапазон переводческих приемов. Здесь наряду с традиционными приемами перевода, применяемыми при передаче смыслового содержания текста (такими, как субституция, гиперонимическая и интергипонимическая трансформации и др.), используются и приемы, характерные для передачи прагматических аспектов текста, например: замена реалии или аллюзии ее аналогом, уточняющее дополнение, поясняющий (интерпретирующий) перевод, раскрывающий неясные для конечного получателя пресуппозиции и импликации, переводческое примечание и различные виды компенсирующего перевода (в том числе межуровневого, например заменяющего фонетические маркеры стратификационной и ситуативной вариативности лексическими, лексические — синтаксическими и лексико- морфологические — стилистическими).
Данные, приведенные в этом разделе, подтверждают сформулированное выше положение о том, что прагматическая установка на иноязычного и инокультурного получателя нередко требует трансформаций, модифицирующих смысловое содержание текста.
КОММУНИКАТИВНАЯ УСТАНОВКА ПЕРЕВОДЧИКА
Выше отмечалось, что переводчик, в особенности переводчик художественного текста, неизбежно привносит в процесс перевода свои собственные характеристики. Это сказывается и на этапе интерпретации исходного текста, и на этапе создания нового текста на языке перевода. К этим характеристикам относится верность переводчика определенной культурной, и в частности литературной, традиции, его собственное творческое и эстетическое кредо, его связь с собственной эпохой и, наконец, та конкретная задача, которую он сознательно или неосознанно ставит перед собой.
Личность переводчика находит свое проявление в его коммуникативных установках. Столкновение этих установок с установками автора представляет собой один из парадоксов перевода, одну из его сложнейших проблем, решение которой не всегда под силу даже величайшим мастерам. Так, И.А. Кашкин приводит поучительный пример — попытку Лермонтова перевести на русский язык байроновское стихотворение "Farewell":
These lips are mute, these eyes are dry, But in my breast and in my brain Awake the pangs that pass not by, The thought that ne'er shall sleep again...
В первоначальном варианте лермонтовского перевода выраженные "простыми словами простые мысли" Байрона заслонила бурно прорвавшаяся сквозь байроновский текст личность переводчика-поэта:
Уста молчат, засох мой взор, Но подавили грудь и ум Непроходимых мук собор С толпой неусыпимых дум.
172
Видимо, почувствовав, что мощная выразительная сила этой строфы чрезмерно выделяет ее, Лермонтов отверг этот вариант и заменил его другим, более простым и приближенным к подлиннику:
Нет слез в очах, уста молчат, От тайных дум томится грудь, И эти думы — вечный яд, — Им не пройти, им не уснуть.
Но и этот вариант не отвечал тем высоким требованиям, которые предъявлял к себе Лермонтов. Оценивая решение поэта не включать это стихотворение в отобранные им для печати как проявление "высокого сознания ответственности перед автором и читателями", И. А. Кашкин пишет: "Сначала он утверждал свою волю — не получилось как перевод, потом подчинил себя автору — не прозвучало для него как поэзия" [Кашкин, 1977, 432—433].
Ярким примером ориентации переводчика на литературную традицию, влияния на его творчество его собственного эстетического кредо и канонов эпохи могут служить поэтические переводы В. А. Жуковского, одной из самых ярких личностей в истории русского художественного перевода. Роль переводов В.А. Жуковского в истории русской культуры широко известна. Например, по словам В. Г. Белинского, "мы через Жуковского приучаемся понимать и любить Шиллера как бы своего национального поэта, говорящего нам русскими звуками, русской речью..." [Белинский, 1985, 514].
Свои взгляды на соотношение двух названных выше аспектов художественного перевода — верность оригиналу и проявление собственного творческого "я" — Жуковский выразил достаточно точно: "...переводчик стихотворца есть в некотором смысле сам творец оригинальный. Конечно, первая мысль, на которой основано здание стихотворное, и план этого здания принадлежат не ему... но, уступив это почетное преимущество оригинальному автору, переводчик остается творцом выражения" [Жуковский, 1985, 487—488].
В этих словах В.А. Жуковского ясно прослеживается его ориентация на традиции и нормы романтического перевода, ставившего перед собой задачу воссоздания не самого произведения, а его идеала. Именно стремлением к этому идеалу и обосновывалось право переводчика- романтика на собственное творчество. Может быть, именно в стремлении к творческой эмпатии заключена разгадка того, что с наибольшей силой талант Жуковского, этого, по словам A.C. Пушкина, "гения перевода", проявился именно в переводах из наиболее созвучных ему авторов — поэтов романтического направления.
Однако и в тех случаях, когда Жуковский переводил поэтов близкого ему романтического направления, его собственные эстетические и этические воззрения, его религиозно-философские позиции и, наконец, его собственный темперамент и другие личностные характеристики явственно проступают сквозь ткань перевода. Так, в переводе баллады Ф. Шиллера "Торжество победителей", который по праву считается одним из шедевров Жуковского, текст оригинала подвергся заметным модификациям, которые В.М. Жирмунский охарактеризовал следующим образом: "...при кажущейся близости он незаметно стилизует
173
стихотворение в свойственных ему элегических тонах, усиливая в нем те элементы, которые родственны его собственному восприятию жизни и художественной идеологии и послужили поводом для выбора данного стихотворения. Таким образом создается новое художественное единство, вполне цельное и жизнеспособное, и оригинал оказывается переключенным в другую систему стиля" [Жирмунский, 1985, 529—530]. Эти модификации шиллеровского текста проявляются, в частности, в усилении античного колорита и музыкальной экспрессии оригинала. Порой эти модификации принимают более серьезный характер, затрагивая мировоззренческую основу переводимого произведения. Ср., например, существенное отступление в переводе концовки баллады от ее философского смысла:
Rauch ist alles ird'sche Wesen, Wie des Dampfes Sдle weht Schwinden alle ErdengrOssen, Nur die Gotter bleiben stet
Um das ROSS des Reiters schweben,
Um das Schiff die Sorgen her;
Morgen kцnnen wir's nicht mehr,
Darum lasst uns heute leben.
Все величие земное Разлетается, как дым, Ныне жребий выпал Трое, Завтра выпадет другим...
Смертной силе, нас гнетущей,
Покоряйся и терпи;
Спящий в гробе, мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий.
Здесь обращают на себя внимание вставленные в шиллеровский текст слова, призывающие к покорности и терпению, выдержанные, по словам И.А. Кашкина, в "духе смиренномудрия", чуждом и Шиллеру и Древней Греции [Кашкин, 1977, 532].
Еще более заметны целенаправленные отклонения от оригинала в переводе "Шильонского узника" Байрона. Рассмотрим некоторые характерные изменения, которым подвергается текст Байрона в переводе Жуковского. В самом начале повести ее герой Франсуа Бонивар, швейцарский гуманист, участник борьбы граждан Женевы против герцога Савойского, говорит о себе:
Му Jimbs are bowed, though not with toil, But rusted with a vile repose, For they have been a dungeon's spoil, And mine has been the fate of those То whom the goodly earth and air Are banned and barred—forbidden fare; And this was for my father's faith I suffered chains and courted death; That father peruhed at the stake For tenets he would not forsake; And for the same his lineal race. In darkness found a dwelling place... We were seven — who now are one, Six in youth, and one in age,
174
Finished as they had begun, Proud of Persecution's rage, One in fire, and two in field, Their belief with blood have sealed.
В переводе Жуковского текст обнаруживает заметные преобразования:
Я сгорблен, лоб наморщен мой, Но не труды, не хлад, не зной — Тюрьма разрушила меня. Лишенный сладостного дня, Дыша без воздуха, в цепях, Я медленно дряхлел и чах, И жизнь казалась без конца Удел несчастного отца: За веру смерть и стыд цепей, Уделом стал и сыновей. Нас было шесть — пяти уж нет, Отец, страдалец с юных лет, Погибший старцем на костре, Два брата, падшие во пре, Отдав на жертву честь и кровь, Спасли души своей любовь.
В отклонениях от оригинала здесь прослеживаются четкие тенденции: с одной стороны, переводчик заметно приглушил свободолюбивые мотивы оригинала, а с другой — придал ему ярко выраженную религиозную окраску. Там, где у Байрона сказано, что отец Бонивара погиб на костре — "For tenets he would not forsake", у переводчика мы находим: "Удел несчастного отца: / За веру, смерть и стыд цепей..." Точно так же строки "One in fire, and two in field/Their belief with blood have sealed" передаются в однозначно религиозной трактовке: "Отдав на жертву честь и кровь, / Спасли души своей любовь".
В тех случаях, когда английское слово допускает разную трактовку, Жуковский явно предпочитает ту, которая соответствует его установке. Так, tenet в принципе может быть переведено как догмат, принцип, убеждение. Переводчик переводит это слово как вера, видимо выводя его из религиозного значения слова догмат. В другом случае в подлиннике сказано, что два брата 'скрепили кровью то, во что они верили'. Жуковский придает этой фразе религиозное звучание: "Спасли души своей любовь".
Показательны и купюры Жуковского. Так, в приведенном выше отрывке опущена фраза: "Proud of Persecution's rage..." 'Гордые тем, что вызвали ярость преследователей', слова о том, что Бонивар разделил судьбу тех, для кого земля и воздух — запретный плод. В концовке "Шильонского узника" опущен метафорический образ монарха, убивающего все живое.
Наиболее серьезным испытанием переводческого мастерства Жуковского были переводы поэтов, во многих далеких от него по своим исходным установкам. Сказанное относится в значительной мере к его переводам из Гете, поэта, перед которым Жуковский благоговел, но которого он воспринимал и переосмысливал по-своему. Анализируя
175
переводы Жуковского из Гете, В.М. Жирмунский обнаруживает "целую систему изменений и дополнений" [Жирмунский, 1985, 525—530]. Так, шаловливое и грациозное стихотворение "Новая любовь — новая жизнь" превращается в мечтательно-элегическое. В стихотворении "К месяцу" опускается целая строфа, не соответствующая элегическому ключу, в котором Жуковский его перевел. Наиболее заметны отступления от оригинала в переводе "Посвящения" к "Фаусту" (ср., например, добавления, внесенные Жуковским в текст этого произведения: "Побудь со мной, продли очарованье, дай сладкого вкусить воспоминанья"; "не им поет задумчивая лира"; "И снова в темном сердце воскресает..." и "Душу хладную разогревает опять тоска по благам прошлых лет".
В переводах Жуковского голос переводчика порой усиливается, а порой заглушает голос автора. Несмотря на их яркость и талантливость, они явно выходят за рамки современного понимания сущности и назначения перевода. Ощущая себя "соперником автора", он часто не останавливается перед исправлением, дополнением и существенной модификацией исходного текста.
Современная норма перевода отличается большей строгостью, более четкой ориентацией на воспроизведение текста, выражающего коммуникативную интенцию автора. И вместе с тем проблема "соперничества" автора и переводчика далеко не утратила своей актуальности. И в наши дни встречаются переводы, в которых личность переводчика оттесняет на задний план личность автора. Вот, например, приводимые И.А. Кашкиным строки из пастернаковского перевода "Фауста" Гете.
На улице толпа и гомон, И площади их не вместить Вот стали в колокол звонить, И вот уж жезл судейский сломан. Мне крутят руки на спине И тащат силою на плаху. Все содрогаются от страха И ждут, со мною наравне, Мне предназначенного взмаха В последней, смертной тишине!
Нельзя не согласиться с И.А. Кашкиным: эти яркие и талантливые стихи не могут не вызвать восхищения. И вместе с тем критик задает вопрос: можно ли с переводческой точки зрения считать эти строки в числе бесспорных побед Пастернака? И отвечает: "Нет, ведь эти строки — не самостоятельное лирическое стихотворение, а хотя и важный, но всего лишь штрих в обрисовке образа". По мнению И.А. Кашкина, даже восхищенный этими стихами читатель вправе спросить: "да подходят ли простодушной, наивной Маргарите те большой силы стремительные ямбы, которые вкладывает в ее уста переводчик Б. Пастернак, вместо прерывистой, захлебывающейся жалобы Маргариты у Гете?" [Кашкин, 1977,430—431].
Нередко личность переводчика находит свое проявление в его переводах вопреки декларируемым им установкам на полное перевоплощение в автора, на полное подчинение авторскому замыслу, на самоотрешение и готовность "стать на горло собственной песне". В этом
176
отношении весьма поучителен опыт такого выдающегося представителя советской школы перевода, как М.Л. Лозинский. Свое кредо он сформулировал следующим образом: "...поэт-переводчик должен стараться как можно более отрешиться от самого себя, от собственных навыков и склонностей, чтобы во всей возможной чистоте воспроизвести оригинал, пользуясь для этого всеми средствами, которыми располагает его родной язык" [цит. по: Федоров, 1983а, 326].
Огромный вклад Лозинского в развитие советской школы художественного перевода не подлежит сомнению. Это признавал и И.А. Кашкин, порой подвергавший переводы Лозинского резкой критике. «Ведь сам Лозинский, — писал он, — соединял смирение с поэтической свободой и по временам давал волю своей творческой индивидуальности... Да, он смирился перед духом отца Гамлета и Фортинбрасом, но он своенравно заковал самого Датского принца в тяжелые языковые доспехи, которые впору скорее мужественному отцу Гамлета. Да, он смирился перед суровой торжественностью „Божественной комедии", но — увы, в угоду велелепию он сам смирил и осерьезнил живой, народный, новый для своего времени итальянский язык Данте, запечатав его для простого смертного семью печатями» [Кашкин, 1977, 535—536].
Совершенно с иных позиций оценивает индивидуальность Лозинского A.B. Федоров. С его точки зрения, эта индивидуальность проявлялась прежде всего в его стремлении преодолевать трудности, "в максимализме выбора", во влечении к объективности перевода. В языке наиболее выраженной тенденцией Лозинского была склонность к архаизмам и "повышению стиля" в переводе [Федоров, 1983а, 326—327].
Вот характерный для его стилистической манеры насыщенный архаизмами перевод начала Песни девятнадцатой "Ада" из "Божественной комедии" Данте:
О Симон волхв, о присных сонм злосчастный, Вы, что святыню божию добра, Невесту чистую, в алчбе ужасной Растлили ради злата и сребра, Теперь о вас, казнимых в третьей щели, Звенеть трубе назначена пора!
По мнению A.B. Федорова, склонность Лозинского к архаизмам соответствует чертам, заложенным в оригинале, и задаче создания исторического фона произведений далекого прошлого. В тех же немалочисленных случаях, когда в подлиннике нет подобных черт (т.е. архаизмов в языке, современном автору), A.B. Федоров видит основание для архаизации текста в полифункциональности архаизма в русском языке, в его способности служить средством контраста по отношению к иностилевым элементам, участвующим вместе с ним в создании художественного эффекта [там же, 327].
Думается, что за спором теоретиков по поводу оправданности архаизмов в языке перевода стоит столкновение нормативных установок двух разных школ, двух разных направлений в художественном переводе, которые олицетворяли соответственно М.Л. Лозинский и И.А. Кашкин.
1 / 2 12.Зак. 311
177
Вопрос о роли личности переводчика в художественном переводе до сих пор не получил однозначной оценки. Показательно в этом смысле расхождение во мнениях между В.С. Виноградовым, считающим что парадокс обусловленных индивидуальностью переводчиков стилевых черт заключается в том, что они нежелательны, но неизбежны [Виноградов B.C., 1978, 66], и A.B. Федоровым, отрицающим наличие здесь парадокса и утверждающим, что "объективность перевода и сильная индивидуальность переводчика не только совместимы, но и предполагают одна другую" [Федоров, 1983а, 326].
Возможности проявления индивидуальности переводчика, его собственной коммуникативной установки зависят от удельного веса творческого начала в переводе. Не случайно они наиболее широки в поэтическом и в целом в художественном переводе. В публицистическом переводе они обнаруживают обратную зависимость от степени стандартизации и обезличенности текста: они ограничены там, где текст монтируется из клише и "готовых блоков", и заметно возрастают в жанрах, где ярче проявляется индивидуальность автора (очерк, фельетон и др.).
Из сказанного следует, что в коммуникативной установке переводчика наряду с его индивидуальными чертами проявляются культурная традиция и переводческая норма в их синхронной и исторической вариативности.
