
- •Введение в конфликтологию
- •Введение
- •Конфликтология
- •3. Конфликтология как наука о социальных конфликтах
- •1 См.: а.В.Дмитриев, ю.Г.Запрудский, в.ПКазимирчук, в.Н.Кудрявцев. Основы конфликтологии: Учеб. Пособие. М., 1997.
- •1 А.К.Зайцев. Рынок и социальный конфликт в России//Социальный конфликт: науч.-практ. Журнал. 1996. № 3 (п)- с. 5.
- •5. Конфликт как предмет социологического анализа, определение социального конфликта
- •1 См., например: е.М.Бабосов. Конфликт социальный//Социологический словарь. Минск, 1991. С. 80.
- •Введение в конфликтологию
Конфликтология
КАК НАУКА О СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ: ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
1. Истоки возникновения и развития научного знания о конфликте
Конфликтология как наука, изучающая социальные конфликты и разрабатывающая методы их предотвращения и разрешения, возникла сравнительно недавно. Но первоначальные истоки осмысления феномена конфликта как столкновения противоборствующих сил, по-видимому, восходят еще к древним мыслителям, которые пытались определить источник развития окружающего мира. Китайские философы уже в XVII-XVI вв. до н.э. видели источник движения всего существующего во взаимоотношениях присущих материи положительных (ян) и отрицательных (инь) начал. В античной Греции важное место в познании мира занимало учение о противоположностях и их роли в возникновении вещей. Анаксимандр утверждал, что вещи возникают в результате беспрестанного движения апейро-на - единого материального первоначала, приводящего к выделению из него противоположностей. Благодаря вечному движению апейрона и образованию противоположностей одни миры и вещи рождаются, другие уничтожаются и во Вселенной происходит бесконечный круговорот миров и вещей, не нуждающихся ни в каком содействии богов.
Гераклит (ок. 500 - ок. 460 гг. до н.э.) пошел дальше и сделал попытку представить само движение и изменение вещей как необходимый, закономерный процесс, порождаемый борьбой противоположностей. Следует знать, утверждал он, что борьба всеобща и что «все происходит через борьбу и по необходимости». Война (борьба), по мысли Гераклита, составляет истинную справедливость, являясь условием существования упорядоченного космоса. «Война - отец всех и царь всех: одних она явила богами, а других - людьми, одних сотворила рабами, других - свободными». Таким образом, у Гераклита находим одну из первых попыток обоснования идеи о позитивной роли конфликта для существования сложноорганизованных систем. Конфликт предстает как атрибут жизни людей, необходимое условие ее внутреннего упорядочивания. Противоборство свободных и рабов составляет гармонию полиса. При этом необязательно, чтобы это противоборство выражалось в формах открытой войны, ибо «тайная гармония лучше явной». Действуя одновременно, противоборствующие силы образуют то напряженное состояние, которым и определяется внутренняя гармония вещей - некое «динамическое согласие». В той или иной форме подобные мысли высказывали Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, Полибий и др.
Подобный подход, раскрывающий динамику социальных процессов в терминах борьбы, антагонизма, соревнования и конкуренции, в новейшее время получил название «конфликтологического». Определенные предпосылки его формирования можно проследить на протяжении всей истории развития социально-философской мысли. Среди идейных родоначальников данного направления иногда называют Томаса Гоббса за его тезис о «войне всех против всех», Г.Гегеля с его учением о противоречиях и борьбе противоположностей и, конечно, К.Маркса. Однако для становления конфликтологии не менее значима и другая линия в истории социально-философской и социологической мысли, отдающая приоритет согласию и солидарности в развитии общества.
Теоретические представления, согласно которым общество должно упорядочивать жизнь своих членов через согласие, также сложились довольно давно. Вспомним «Государство» Платона, где в соответствии с тремя началами человеческой души - разумным, яростным и вожделеющим - в государственном устройстве существуют три сословия: правителей-мудрецов, воинов и производителей (ремесленников и земледельцев), каждое из которых выполняет строго ограниченный ряд функций. Значимостью последних определяется место той или иной личности и группы, их положение в обществе. Построенное на «разумных началах» государство Платона - яркий пример теоретического моделирования общества без конфликтов. Все противоречия в его идеальной модели общества как бы устраняются, но путем фактического отрицания человека как свободного, творческого существа. Человек оказывается отчужденным от того основополагающего рода деятельности, который составляет смысл его бытия, его сущность.
Как справедливо заметил А.Ф.Лосев: идеальный мир Платона сам возник только как отражение все того же земного мира, и потому, после исключения всех земных несовершенств, оказался бездушной и безличностной структурой. Бесконфликтность и согласие обеспечиваются на основе тотального подчинения личности общественной организации. Здесь точно подмечен основной порок последующих социалистических проектов переустройства общества от Томаса Мюнцера, Мора и Кампанеллы до Маркса.
С иных позиций развитие идей о социальном мире и согласии прослеживается у того же Томаса Гоббса, считавшего «войну всех против всех» первоначальным, догосударственным состоянием человека, еще не достигшего гражданского состояния, и у Ж.-Ж.Руссо, напротив считавшего естественным «природным» состоянием человека мир и гармонию с природой. И.Кант выдвинул концепцию «всеобщего мира» в работе «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане».
Сам термин согласие, или консенсус (от лат. consensus - согласие, единодушие) был введен в научный оборот О.Контом, в сочинениях кото-
рого он имел две основные трактовки: как структурная согласованность частей социального целого и как субъективное согласие, т.е. форма социальной солидарности, особым способом связующая человечество в единый коллективный организм - «Великое существо». Без консенсуса, считал Конт, нельзя мыслить элементы социальной системы в качестве развивающихся, так как движение предполагает согласованность. На этом основании он объявил консенсус основополагающим моментом социальной статики и динамики.
Оригинальное развитие идея общественного согласия получила у Э.Дюркгейма, полагавшего доминирующей тенденцией развития общества переход от «механической» (примитивно-принудительной) солидарности в архаических обществах к «органической» (сознательно-добровольной) солидарности в современном обществе, основанной на общественном разделении труда. Разделение труда, согласно Дюркгейму, есть мирный способ решения социальных проблем. В своей программной работе «Об общественном разделении труда» он утверждал, что разделение труда скорее порождает интеграцию и солидарность, чем конфликты. Дюркгейм подметил, что борьба между предприятиями и другими социальными образованиями происходит тогда, когда они имеют «определенную одинаковую специализацию»1. Благодаря разделению труда «связываются друг с другом индивиды»2. «Чем примитивнее общество, - делает он вывод, - тем более меньшая зависимость между ними, тем слабее взаимосвязи, тем аморфнее общество»3. И если классовая борьба и аномия имеют место в современном обществе, то только потому, что последнее все еще находится в переходном состоянии и социальная справедливость не установилась.
Э. Дюркгейм рассмотрел такой источник социальной конфликтности, как аномия, которая приводит к конфликту норм как регуляторов общественной жизни. Особенно заметна роль такого рода конфликтов в обществах, в которых отсутствует органическая солидарность и которые находятся в стадии быстрых социально-экономических и политических преобразований. Последнее ведет к состоянию аномии, т.е. утраты социальными нормами и ценностями их действенного влияния на людей. Конфликт норм связан с неподчинением людей прежней ценностно-нормативной системе и утратой чувства коллективной солидарности. Углубляющееся разделение труда, по мысли Дюркгейма, усиливает ценностную ориентацию на сохранение общественного порядка, ведет к формированию договорного государства и гражданского общества.
Э.Дюркгейм. О разделении общественного трудаУ/Э.Дюркгейм. О разделении общественного труда. Метод социологии. Пер. с фр. М., 1990. С. 215.
1 Там же. С. 47.
3 Там же. С. 105.
Взгляды Дюркгейма широко используются современными теоретиками для обоснования концепций социального партнерства. Однако следует заметить, что у Дюркгейма в действительности речь идет о функциональном (профессиональном) разделении труда, а не об общественном (социально-классовом), как, например, между капиталистами и наемными рабочими, на чем делал акцент К.Маркс.
Принцип консенсуса, согласия всех слоев общества по базисным ценностям лег в основу методологии структурно-функционального анализа, получившей развитие в 50-60-х годах XX в. в западной, особенно американской, социологии. Исходя из идеи «функционального единства общества», функционалисты постулировали в качестве решающего средства его равновесия, стабильности и выживания наличие у всех членов общества единых «социокультурных ценностей» (правовых установлений, нравственных норм, религиозных заповедей и т.п.), образующих основу жизни общества и обуславливающих в конечном счете необходимую для его сохранения функциональную деятельность составляющих его элементов. Социологи, разделяющие эту позицию, склонны рассматривать конфликт как нежелательное явление, нарушающее нормальное функционирование социальной системы. Поскольку конфликт, по их мнению, не присущ системе изначально, он, как правило, быстро устраняется под действием сил самой социальной системы, возвращающих ее в состояние равновесия. Последнее происходит тем успешнее, чем более развиты социальные институты, так называемые «институты согласия», противодействующие конфликтам. Это институты, основанные на принципах разделения власти и компетенции: институт права, устанавливающий общие для всех «правила игры»; парламент, где в ходе дебатов решаются политические споры; рынок, где интересы покупателей и продавцов согласовываются посредством сделок и т.п. По мнению функционалистов, в хорошо отлаженной социальной системе должен господствовать консенсус, конфликт не находит там почвы.
Функциональный анализ по существу базируется на бесконфликтной модели общества. Такая методологическая ориентация, на наш взгляд, лишает способности не только разрабатывать теорию конфликта, но даже понять ее значение. Главное заключается в том, что как бы мы ни понимали социальный порядок, роль конфликта в нем не менее важна, чем роль консенсуса. К осознанию этого в свое время пришли Г.Зиммель, П.Сорокин, а позднее Л.Козер, Д.Рокс, Р.Дарендорф. Они исходили из того, что конфликт существует в любом обществе, на любой стадии его развития. Социальный порядок в известном смысле можно рассматривать как результат перманентного разрешения конфликта. Порядок всегда таит в себе элементы хаоса и дезорганизации, а социальное согласие — новые кон-
 фликты.
За согласием всегда стоит несогласие.
Конечно, «общего согласия»
можно добиться и репрессивными методами.
Но какова социальная и человеческая
цена такого «согласия»? Как точно заметил
Питирим Сорокин:
«Бесконфликтное состояние возможно
лишь тогда, когда социальная жизнь
стояла бы на одном месте и не
эволюционировала».
фликты.
За согласием всегда стоит несогласие.
Конечно, «общего согласия»
можно добиться и репрессивными методами.
Но какова социальная и человеческая
цена такого «согласия»? Как точно заметил
Питирим Сорокин:
«Бесконфликтное состояние возможно
лишь тогда, когда социальная жизнь
стояла бы на одном месте и не
эволюционировала».
Первым, кто предпринял попытку анализа положительных последствий конфликта для сохранения социального целого, был известный немецкий философ и социолог Георг Зиммель (1858-1918). Его работы «Социология конфликта» и «Конфликт» признаны классическими в области конфликтологии и социологии конфликта. Г.Зиммель впервые ввел сам термин «социология конфликта», открыв тем самым целое направление в социологии. Зиммеля иногда называют «Фрейдом социологии», оценивая значимость его фигуры в социологии конфликта так же высоко, как роль З.Фрейда в некоторых разделах психологии. Зиммель определил конфликт как одну из универсальных «чистых форм» социального общения и взаимодействия, рассматривая его как некую внеисторическую и неизменную структуру в отношениях людей. К таким «чистым формам» он относил также конкуренцию, сотрудничество, договор, авторитет, подчинение и ряд других отношений. Зиммель указывает на конфликт как на одну из «форм социализации», содействующей сближению и объединению людей, способствующей интеграции социальных структур и развитию общественных связей. «Действительно, - замечает Зиммель, - причинами конфликта являются диссоциирующие элементы - ненависть и зависть, нужда и желание. Однако если из этих элементов однажды вспыхнул конфликт, то он на деле служит способом удаления дуализма и достижения какой-то формы единства даже посредством уничтожения одной из сторон.
...Сам по себе конфликт есть разрешение напряжения между противоположностями» '.
Высказанные им идеи прослеживаются во многих современных концепциях конфликта. Формальный метод Зиммеля оказал большое влияние на постановку задачи создания так называемой «общей теории конфликта», ориентируя исследователей на выделение и описание наиболее общих, формальных признаков конфликта.
Резюмируя основополагающие идеи, сформированные в предшествующих теориях общественного развития, следует выделить те из них, которые сохраняют свою актуальность для современных теорий социального конфликта.
Во-первых, это убеждение, что существование общества без конфликтов невозможно, что конфликт - это неотъемлемая часть бытия чело-
1 G.Simmel. The sociology of conflict//The American journal of sociology. January, 1904. P. 490.
века и общества, одна из главных движущих сил общественного развития. С этим положением связано и следующее утверждение, что конфликт - это не «дисфункция», не аномалия, а одна из норм отношений между людьми в обществе, необходимый элемент социальной жизни, который дает выход социальному напряжению, порождая социальные изменения. Наряду с другими социальными теориями конфликтология формирует современную парадигму социального мира, основанного на конфликтном, динамичном согласии.
2. Концепции природы конфликта
С точки зрения фундаментальной теории конфликта одна из ее наиболее важных проблем заключается в уяснении природы конфликта. Раскрыть его природу, значит ответить на вопрос: что является главным источником конфликта в обществе?
Становление современных теорий конфликта можно отнести к концу XIX — началу XX вв., когда появились первые концепции конфликта, объясняющие его природу. Возникновение на рубеже веков так называемой «школы конфликта» было связано с кризисом «организмического» направления Конта - Спенсера в социологии. В основе последнего лежали представления об обществе как биологическом организме, все части и элементы которого взаимосвязаны и функционально необходимы, так что классовая борьба и другие социальные конфликты в обществе рассматривались как нарушения деятельности этого организма, аномалия в общественных отношениях.
Первую из таких альтернативных концепций можно назвать социо-биологической, она исходит из того постулата, что конфликт и борьба присущи человеку, как и всем животным. Приверженцы этого подхода опираются на теорию «естественного отбора и борьбы за существование» Чарльза Дарвина, выводя отсюда идею о «естественной агрессивности» человека, которая и проявляется в разного рода конфликтах. «Борьба за существование», по их мнению, обусловлена стихийным стремлением людей к самосохранению и накоплению жизненных ресурсов (богатства). Отсюда делался вывод о «естественном» желании одних рас и народов подчинять себе другие и господствовать над ними, что объявляется «верховным законом общественной эволюции».
В противоположность идеям всеобщего мира и согласия у так называемых «органицистов», теоретики социал-дарвинизма отводили конфликтам и войнам решающую роль в историческом развитии человечества. Они полагали, что конфликтные столкновения людей, особенно войны, укрепляют социальные структуры, способствуют их развитию и являются ис-
точником политической власти. Таким образом, здесь уже намечается формирование идей о «позитивной функциональности» конфликтов и их принципиальной неизбежности в общественной жизни. Таковы взгляды на конфликт австрийских социологов Людвига Гумпловича и Густова Рат-ценхофера, основателей социологии в США Уильяма Самнера и Альбиона Смолла.
Гумплович в работе «Расовая борьба» (1883 г.) ввел понятие «этноцентризм», впоследствии разрабатывавшееся Самнером и вошедшее в понятийный аппарат современной социологии и политологии. При объяснении источников этноцентризма и конфликтности между этногруппами Л.Гумплович исходил из гипотезы полигенизма, предполагающей происхождение человека от множества биологически независимых друг от друга приматов, что обусловило, по его убеждению, первоначальное образование разнородных этнических групп. Родство и различие по крови находит соответствующее выражение в психике — в бессознательных чувствах взаимного тяготения сородичей и привязанности к «своим», непримиримости и ненависти к чужакам. Сфера бессознательного сообщает этногруппам стихийные импульсы к самосохранению и увеличению собственного благосостояния и, как следствие, стремление к подчинению себе других групп и господству над ними. Из их взаимодействия, носящего главным образом характер непримиримой борьбы, и складывается всемирно-исторический процесс развития общества.
В условиях кризиса идеологии, аморфности общенациональной идеи в нашей стране, некоторыми радикальными политическими движениями и группами реанимируются концепции, которые искажают социальную природу человека, оправдывают агрессивное и асоциальное поведение, стремление к безудержному обогащению и культ силы. Важно уметь видеть скрытую основу радикальных доктрин и компетентно оппонировать ошибочным или даже вредным теориям. Преувеличение роли борьбы в обществе как главной движущей силы истории отодвигает на второй план значение таких фундаментальных факторов, как разделение и кооперация труда в обществе, торговля и экономическая интеграция, развитие науки и искусства, способствующих расширению социальных связей и согласованию интересов народов.
Следующая точка зрения на природу конфликта в обществе может быть названа классовой. Для нее также характерно преувеличение роли борьбы в истории, но в отличие от предыдущей концепции источник конфликта усматривается в «порочном» устройстве самого общества, благодаря которому одни имеют возможность присваивать результаты труда других. Согласно этой точке зрения социальный конфликт воспроизводится обществами с определенной социальной структурой. Конфликтность
как бы изначально заложена в такого рода обществах вследствие социального неравенства и различия положений социальных классов в системе общественного разделения труда. Среди основателей и представителей классовой теории конфликта следует назвать прежде всего К.Маркса, Ф.Энгельса, В.Ленина, а также немецко-американского социолога и философа Герберта Маркузе (в свое время популярного идеолога леворадикального движения), американского социолога Чарльза Райта Миллса (так же одного из идеологов движения «новых левых»).
К.Маркс понимал конфликт как крайнюю форму обострения социальных противоречий. Конфликт в обществе предстает как конфронтация больших социальных групп, классов. Главная борьба между ними ведется по поводу производства и отношений собственности. Конечно, только этим она не исчерпывается. Но в основе разнообразных конфликтов, проявляющихся в разных сферах общества и на разных его уровнях, лежит все тот же классовый конфликт между наемным трудом и капиталом. Классовый конфликт, по мысли Маркса, заложен в само основание капиталистического общества. Отсюда К.Маркса иногда называют создателем «теории фундаментальных структурных противоположностей».
Теоретики данного направления сосредоточивают свое внимание на фундаментальных противоречиях, выражающихся в несовпадении интересов тех или иных социальных сил. Социальный конфликт при этом рассматривается как необходимое условие революционного изменения общества. Неизбежное при этом насилие оправдывается как «повивальная бабка истории», фактор, ускоряющий развитие общества, устраняющий препятствия для создания справедливого бесклассового общества, в котором уже не будет основы для социальных конфликтов.
С сегодняшних позиций наиболее уязвимым в марксистской теории является представление о классах как носителях антагонистических интересов, столкновение которых неизбежно приводит к революциям. История России показала, какого качества социальная система рождается из общества с освобожденным насилием одного класса над другим. Трудно не согласиться с Ральфом Дарендорфом, который назвал революции «меланхолическими моментами истории. Короткая вспышка надежды остается утопленной в страданиях и разочарованиях» . Однако заметим, что марксистская концепция классов и классовой борьбы (с некоторыми существенными оговорками) и теперь вполне может служить основой для определения истоков и сущности крупномасштабных социальных конфликтов. Напомним, что Маркс исходил из такой теории общественного производ-
R.Dahrendorf. The modern Social Conflict. An Essay on the Politics of Liberty. N.Y., 1988.
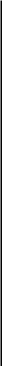 ства,
согласно которой господствующий класс
владеет средствами производства
и вследствие этого осуществляет полный
контроль над обществом. Для
переходных обществ, к которым относят
Россию, такая ситуация не является
исключительной.
ства,
согласно которой господствующий класс
владеет средствами производства
и вследствие этого осуществляет полный
контроль над обществом. Для
переходных обществ, к которым относят
Россию, такая ситуация не является
исключительной.
Представляется достаточно утопичным утверждение о том, что можно построить бесклассовое, а значит, и бесконфликтное общество. История показала, что в экономически развитых обществах принципиально меняется и характер формирования социальной структуры. Причем речь идет не о каких-то частичных сдвигах, а об изменениях базисных основ социальной организации. Уже с наступлением индустриальной эпохи закономерность смены социальных структур, отмеченная Марксом, исчерпала себя. Общество начало переходить в качественно новое состояние, приобретать все более открытый, динамичный характер. Открытость выражается в стирании жестких границ между элементами социальной структуры, ее усложнении. На смену классам, в основе разделения на которые лежал фактор собственности, приходят многочисленные и мобильные социально-профессиональные группы или «страты», сменяется система критериев, определяющих их общественное положение: профессия, образование, квалификация и т.п. Последнее привело к своеобразному раздроблению классового конфликта на множество конфликтных сегментов в социальной структуре. Сегментация социальных конфликтов явилась дополнительным фактором стабилизации общественной организации в противовес ее фронтальному расколу.
В качестве альтернативы теориям структурного функционализма (Т.Парсонс, Р.Мертон), с одной стороны, и марксистским теориям классовой борьбы, с другой, в 50-х гг. XX в. сложились конфликтологические теории, которые можно охарактеризовать как неофункционалистские, обосновывающие идею функциональности конфликта в обществе. В противоположность теориям структурного функционализма, выносившим конфликт за рамки социологического анализа как некий побочный для функционирования социальной системы эффект, возникающий в результате временного ее рассогласования, последние акцентировали внимание на конфликте как на атрибутивном элементе социальной жизни. Ведущими идеологами этого направления явились американский социолог Льюис Козер (концепция «позитивно-функционального конфликта»), немецкий социолог и политолог Ральф Дарендорф («конфликтная модель общества»), американский социолог и экономист Кеннет Боулдинг («общая теория конфликта»), английский социолог Р.Коллинз («конфликтная социология»), ЛКрисберг («социология социальных конфликтов»).
Исходя из положения Г.Зиммеля о том, что «конфликт есть форма социализации», Л.Козер обосновывает идею функциональности конфликта
наряду с кооперацией и сотрудничеством, доказывая, что конфликт в конечном итоге служит интеграции и стабилизации общества. По его мнению, решение проблемы социального согласия и устойчивого развития общественной системы не исключает, а напротив, вполне допускает признание социальных конфликтов как формы выражения несовпадения интересов социальных групп. Консенсуса по базисным ценностям вполне достаточно для сохранения социальной системы. Козер показал, что хотя социальные конфликты и нарушают целостность социальной системы и нередко приводят к дезинтеграции отдельных институтов, но в целом они делают социальную структуру более гибкой и подвижной. В социальной структуре любого типа, считает Козер, всегда имеется повод для конфликтной ситуации, поскольку постоянно существует конкуренция по поводу дефицитных ресурсов, позиций престижа или отношений власти. Станет ли конфликт средством стабилизации отношений в обществе или окажется чреватым социальным взрывом зависит от характера социальной структуры, под воздействием которой развивается конфликт. Социальные структуры отличаются друг от друга дозволенными способами выражения антагонистических притязаний и уровнем терпимости в отношении конфликтных ситуаций . Л.Козер полагал, что его концепция социального конфликта в сочетании с «равновесно-интегративной» теорией общества и консенсусным принципом структурного функционализма позволит преодолеть недостатки последнего и станет чем-то вроде общесоциологической теории общества. Однако в середине 60-х гг. Ральф Дарендорф выступил с обоснованием новой теории социального конфликта, получившей название «конфликтной модели общества». Одна из первых работ Р.Дарендорфа «Классы и классовый конфликт в индустриальном обществе», где нашли место вышеизложенные взгляды, получила в середине 60-х гг. широкое признание в западной социологии.
Так называемая «диалектическая теория конфликта» Дарендорфа ориентирована на динамическое объяснение процессов социального изменения, то есть через одновременную дезинтеграцию и интеграцию, в противоположность точке зрения, описывающей изменения в социальной системе как стремление к равновесию. Р.Дарендорф, верифицируя исходные постулаты функционализма, противопоставил свой подход общественной парадигме Т.Парсонса, характеризуя ее как по сути своей статичную (см. таблицу 1).
1 Л.А.Козер. Функции социального конфликта/УСоциальный конфликт: современные исследования. М., 1991. С. 22-23.
Таблица 1
Равновесная (Т.Парсонс)
модель
общества Конфликтная модель общества (РДарендорф)
1. Каждое общество - относитель- 1. но устойчивая и стабильная
структура.
2. Каждое общество - хорошо ин- 2. тегрированная структура.
Каждое общество изменяется в каждой своей точке, социальные изменения вездесущи.
Каждый элемент общества имеет 3. определенную функцию, т.е. вкладывает нечто свое в поддер жание устойчивости системы.
Функционирование социальной 4. системы основывается на цен ностном консенсусе членов об щества, обеспечивающем ста бильность и интеграцию.
Каждое общество в каждой своей точке пронизано рассогласованием и конфликтом, социальный конфликт вездесущ.
Каждый элемент в обществе вносит свой вклад в его дезинтеграцию и изменение.
Каждое общество основано на том, что одни его члены принуждают к подчинению других.
Тем не менее, Р.Дарендорф не считает, что одна из указанных оппозиций является более верной в сравнении с другой. Строго говоря, обе предложенные модели валидны, то есть полезны и необходимы для социологического анализа. Они взаимодополняют друг друга. Первая делает акцент на сотрудничестве и интеграции, вторая на конфликте и изменении. Но обе составляющие взаимодействия — сотрудничество и конфликт — постоянно присутствуют в общественной жизни в той или иной мере.
Объяснение Р.Дарендорфом источников социальных конфликтов близко к марксистскому. Это социальное неравенство. Но в понимании Дарендорфа, это есть неравенство социальных позиций, занимаемых людьми по отношению к распределению власти. Отсюда проистекают различия их интересов и устремлений, что и вызывает конфликты и как результат - структурные изменения в обществе. По мнению Дарендорфа, вопрос о власти является центральным для любого общества. Власть представляет собой совокупность социальных позиций, позволяющих одной группе людей распоряжаться деятельностью других групп. И именно здесь, по его мнению, заложен центральный конфликт для любой системы общественных отношений. Люди делятся в конечном счете не на богатых и бедных, не на образованных и необразованных, не на тех, кто обладает не-'
движимостью, и тех, кто живет на зарплату, а на тех, кто участвует во власти и кто не участвует в ней. Все названные деления существуют и имеют определенное значение, в том числе и для формирования конфликтов, но значение второстепенное в сравнении с критерием власти. Дарендорф считает, что сам ход общественного развития объективно порождает глубинные причины социальных конфликтов, но вместе с тем он допускает возможность влиять на специфическое течение социальных конфликтов, что открывает перед западным обществом иную историческую перспективу, нежели ему предрекал Маркс, а именно перспективу глубоких эволюционных трансформаций, а не революционных переворотов. Другими словами, рабочий класс может добиться осуществления своих целей на путях соглашений с предпринимателями и властью, без насильственного изменения общественного строя. Общества, утверждает Дарендорф, отличаются друг от друга не наличием или отсутствием конфликта, а только различным отношением к нему со стороны власти. Поэтому и в западном демократическом обществе имеют место конфликты, но рациональное регулирование делает их неопасными для существования общественной системы. «Тот, кто умеет справиться с конфликтами путем их признания и регулирования, тот берет под свой контроль ритм истории, - замечает Дарендорф. - Тот, кто упускает такую возможность, получает этот ритм себе в противники»1.
Среди концепций, претендующих на универсальное применение как во внутренней жизни общества, так и в международных отношениях, выделяется так называемая «общая теория конфликта» американского социолога и экономиста Кеннета Боулдинга. Суть концепции изложена в его главной книге «Конфликт и защита: общая теория». Конфликт неотделим от общественной жизни. В самой природе человека лежит стремление к постоянной вражде и борьбе с себе подобными. Конфликт определяется как ситуация, в которой стороны осознают несовместимость своих позиций и каждая из сторон стремится занять позицию, противоположную интересам другой. Но все это не исключает возможности преодоления конфликтов или, по крайней мере, их существенного ограничения. Боулдинг исходит из положения, согласно которому все конфликты любого уровня имеют сходные элементы и общие образцы развития. Это дает возможность разработать универсальные методы защиты и поставить конфликты под контроль общества. Боулдинг раскрывает механизм конфликта, основываясь на бихевиоризме (теории человеческого поведения). Конфликт разворачивается как процесс, складывающийся из ответных реакций противоборствующих сторон на внешние стимулы воздействия. Да и любое
1 R.Dahrendorf. Society and Democracy in Germany. N.Y., 1969. P. 140.
 социальное
явление, по его мнению, — «реактивный
процесс». Например, «явление
зарождения и нарастания любви совершенно
аналогично гонке вооружений,
которая, как и война, является реактивным
процессом»1.
Действие вызывает
действие, удар - ответный удар, причем
сила ударов нарастает.
социальное
явление, по его мнению, — «реактивный
процесс». Например, «явление
зарождения и нарастания любви совершенно
аналогично гонке вооружений,
которая, как и война, является реактивным
процессом»1.
Действие вызывает
действие, удар - ответный удар, причем
сила ударов нарастает.
Таким образом, сущность конфликта Боулдинг усматривает в неких стереотипных поведенческих реакциях человека. В связи с этим, он полагает, что, предвидя эти реакции, можно пытаться преодолевать и разрешать конфликты, соответствующим образом манипулируя раздражителями и изменяя реакции и влечения индивидов.
Западные социологи значительно продвинулись в применении формально-логического подхода к изучению феномена конфликта и в разработке понятийного аппарата конфликтологических исследований. В работах К.Боулдинга, Дж.Бернарда, А.Рапопорта, Дж.Аткинсона, Р.Снайдера анализ конфликтов зачастую проводится с привлечением теории игр. Такие аспекты социального конфликта, как его возникновение и причины, ход развития, методы разрешения и последствия, представлены в виде схематичных моделей. Ценность такого моделирования прежде всего в том, что позволяет учитывать весь комплекс взаимосвязанных факторов, что в значительной степени предохраняет от субъективных оценок, произвольного подбора фактов и доказательств. Однако следует иметь в виду, что формально-логический анализ не может заменить конкретного содержательного анализа причин и факторов конфликта.
Следующую концепцию можно назвать социально-психологической, которая при объяснении природы конфликта обращается не к анализу социальных институтов и структур общества, а к анализу носителей конфликта и особенностей массового сознания. В годы перед и после второй мировой войны достаточно широкое применение при объяснении явлений конфликта получила теория социальной напряженности. В ее основе лежит утверждение, что доминирующие факторы современного урбанизированного индустриального общества влекут за собой возникновение психологического напряжения у значительного числа людей. Среди подобных специфических условий чаще всего выделяют перенаселенность и скученность в городах, сложность социальной организации общества, противостоящей отдельному индивиду, обезличенность отношений, социальную нестабильность, вызывающую неуверенность в будущем и т.п. Напряжения и фрустрации накапливаются до тех пор, пока не выплескиваются во взрывах немотивированной агрессии различных видов и интенсивности, в которых высвобождается энергия социальной неудовлетворенности.
K.Boulding. Conflict and Defence: A General Theory. N.Y., 1963.
Пионерами в области изучения социальной напряженности в нашей стране являются В.О.Рукавишников, А.К.Зайцев и ряд других специалистов. Большинство исследователей этого феномена сходятся на том, что социальная напряженность - это начальный этап вызревания широкомасштабного социального конфликта. Однако с помощью этой теории довольно затруднительно объяснить возникновение конфликта в конкретной ситуации. На каком уровне напряженности следует ожидать проявление конфликта? Ведь индивиды в течение длительного времени могут находиться в психологическом напряжении, не вступая в конфликт. Для уточнения механизма возникновения массовых конфликтных проявлений можно использовать теорию депривации.
Депривация - это состояние общества или его отдельной социальной группы, для которого характерно явное расхождение между социальными ожиданиями людей и возможностями их удовлетворения. Усиление депривации зависит от того, в каком соотношении находятся ожидания, с одной стороны, и возможности их удовлетворения, с другой. Рост депривации может происходить:
при уменьшении возможностей удовлетворения уже сформиро вавшихся запросов населения, что наблюдается в условиях эко номического кризиса (ожидания большинства людей в таких условиях определяются формулой: «лишь бы хуже не стало»);
когда ожидания и соответственно запросы растут значительно быстрее, чем возможности их удовлетворения (условная депри вация).
В качестве примера для последнего случая может послужить всплеск «перестроечных» ожиданий в России - «революция надежд» - и их крушение в 1991-1992 гг.
Усиление депривации порождает агрессивные реакции на фрустрацию (острое состояние неудовлетворенности), что может выражаться в протестных выступлениях, направленных против источников разочарования, подлинных или мнимых виновников бедственного положения. Последнее сопровождается поисками «козлов отпущения», которыми в одних случаях могут стать национальные меньшинства, в других - высокодоходные группы, органы власти и управления, функционеры и лидеры правящих партий. Усиление депривации способствует росту социальной напряженности, возникновению открытых социальных, экономических и политических конфликтов.
Особо следует выделить случай условной депривации, то есть ситуацию, когда запросы особенно сильно возросли по сравнению с возможностями их удовлетворения. Следствием этого является отчетливая тенденция к агрессивному поведению, направленному против существующей по-
логической системы или общественной группы, которую считают виновницей создавшегося положения. Еще Алексис де Токвиль (французский социолог XIX в.) в работе «Старый порядок и революция» подметил этот механизм на примере Великой французской революции, показав, что революция может произойти не тогда, когда массы живут хуже в абсолютном смысле, а тогда, когда их положение несколько улучшилось, породив, однако, значительно более интенсивный рост ожиданий.
Механизм социальной напряженности имеет замкнутый характер: неудовлетворительное состояние экономики вызывает недовольство населения из-за падения уровня жизни, что в свою очередь приводит к забастовкам, трудовым конфликтам, а это - к еще большему спаду производства и углублению кризиса в обществе. Сохранение стабильного уровня депри-вации или даже его снижение возможно либо при уменьшении уровня притязаний при неизменном масштабе удовлетворения потребностей, либо при более быстром росте удовлетворения запросов по сравнению с ожиданиями. Социальная напряженность по своему механизму имеет двоякий характер: может развиваться стихийно и умышленно. В последнем случае используется как средство борьбы за власть или достижения иных целей радикальной оппозицией и криминальными структурами.
Более углубленный подход к проблеме природы социального конфликта демонстрируют попытки вывести социальную напряженность из уровня удовлетворения базовых потребностей людей. Подобный подход находим у Питирима Сорокина при выяснении вопроса о причинах социальных революций и массового отклоняющегося поведения людей. Непосредственной предпосылкой всякой революции, по его мнению, всегда было подавление «базовых инстинктов» большинства населения и невозможность даже минимального их удовлетворения. Среди подавленных инстинктов, рефлексов и потребностей, которые вызывают рост социальной напряженности и, наконец, социальный взрыв, П.Сорокин выделяет пищеварительный рефлекс и инстинкт самосохранения, «собственнический инстинкт» масс и потребности самовыражения и соревновательности, интерес к творческой деятельности и приобретению разнообразного опыта, потребность в свободе и другие.
«Потребностный» подход к изучению природы конфликта нашел достаточно широкое применение у западных исследователей в рамках так называемой «теории человеческих потребностей» (ТЧП). В отличие от традиционного представления о конфликте как «споре из-за дефицита» ресурсов, территории, статусов, престижа, указанный подход, по мнению одного из ведущих теоретиков данного направления Дж.Бертона, позволяет увидеть более фундаментальные основания, которые «универсальны и он-тологичны» для конфликтов любого уровня. По мнению К.Ледерер, соци-
альный конфликт есть следствие ущемления или неадекватного удовлетворения всей той совокупности человеческих потребностей или, по крайней мере, их части, которые составляют «реальную человеческую личность». Потребности в безопасности, признании, идентичности или принадлежности к определенной национальной или этнической группе, смысле существования присущи не только отдельным личностям, но и общностям, этническим образованиям, целым обществам и государствам. Неслучайно в последние годы в нашей стране так много говорят о духовно-нравственном кризисе, потере своих «корней» и необходимости национальной идеи.
Включение ТЧП в концепцию социального конфликта ставит ряд вопросов, относящихся к механизму его возникновения. Немаловажным является вопрос: что же собственно служит главной причиной конфликтной ситуации - сама природа человеческих потребностей или недостаток адекватных средств их удовлетворения. Большинство специалистов, изучающих человеческие потребности, придерживаются положения о том, что сами по себе потребности не могут служить источником конфликта. Потребности идентичности, безопасности, самоактуализации, любви, творчества, по их мнению, «позитивны» или «нейтральны» с точки зрения возможности их удовлетворения без вражды, соперничества и конфликта. Конфликт же есть следствие ограниченности соответствующих средств (способов, условий) их удовлетворения либо результат действий, цели которых непосредственно связаны с уровнем социальных интересов. Однако те же самые потребности при определенных условиях могут трансформироваться в свою противоположность: идентичность оказывается неотделимой от желания иметь враждебные аутгруппы, любовь превращается в желание господствовать и повелевать и т.п. С другой стороны, с точки зрения возможностей и стратегии разрешения различных типов конфликта, важно знать: все ли потребности, актуализированные в конфликтной ситуации, обладают равной онтологической значимостью для субъектов конфликта и какова их иерархия.
Итак, верно указывая на фундаментальные предпосылки конфликта и некоторые элементы его механизма, рассмотренные выше концепции и теории не отвечают на вопрос, чем вызывается само это «посягательство на потребности» и «ущемление потребностей». На этот вопрос отвечают теории, рассматривающие общие социальные процессы и явления, такие как социальное неравенство, неустойчивость положения социальных слоев и классов, нестабильность экономического, социального и политического развития. Действительно, уровень социальных притязаний людей определяется не столько «базовыми инстинктами», сколько сопоставлением с другими людьми, занимающими более высокое положение в социальной структуре. То, что является приличным уровнем жизни для одних, другими
 может
рассматриваться как бедность и нищета.
Таким образом, важны не сами
по себе потребности, но и средства их
удовлетворения, доступ к которым
обусловлен социальной организацией
общества. Отсюда в определение природы
и источников конфликта следует включать
аспект владения и распоряжения
ресурсами, то есть ставить вопрос о
собственности и власти.
может
рассматриваться как бедность и нищета.
Таким образом, важны не сами
по себе потребности, но и средства их
удовлетворения, доступ к которым
обусловлен социальной организацией
общества. Отсюда в определение природы
и источников конфликта следует включать
аспект владения и распоряжения
ресурсами, то есть ставить вопрос о
собственности и власти.
Исходя из анализа концепций природы социального конфликта, можно условно выделить два ряда теорий, обращающихся при объяснении его истоков либо к рассмотрению социальных структур, либо к обсуждению субъектов социального действия, их поведения и мотивации. Представляется, что оба эти подхода важны для раскрытия сложной природы конфликта и выступают как дополняющие друг друга.
