
культурология_1 / Хейзинга / Хейзинга Й. - Homo ludens. Человек играющий. - 2011
.pdf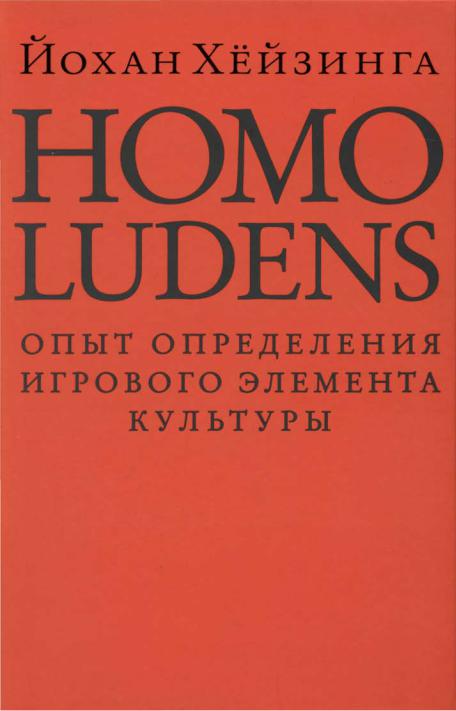
J O H AN
H U I Z I N G A
HOMO LUDENS
PROEVE EENER BEPALING
VAN НЕТ SPEL-ELEMENT DER CULTUUR
ЙОХАН
ХЁЙЗИНГА
ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ
ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИГРОВОГО ЭЛЕМЕНТА КУЛЬТУРЫ
составление, предисловие и переводД. В. Сильвестрова комментарий иуказатель А- Э. Харитоновина
ИЗ ДАТЕ ЛЬСТВО И В А Н А ЛИМБАХА САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
101 I
УДК 94 (100)+ 930.85 ББК 71.0 + 63(0)
Х35
Хёйзинга Йохан. Homo ludens. Человек играющий / Сост., предисл. X 35 и пер. с нидерл. Д. В. Сильвестрова; Коммент., указатель Д. Э. Хари-
тоновича. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. — 416 с.
ISBN 978-5-89059-168-5
Фундаментальное исследование выдающегося нидерландского исто рика и культуролога Й. Хёйзинги Homo ludens [Человек играющий],
анализируя игровой характер культуры, провозглашает универсаль ность феномена игры и ее непреходящее значение в человеческой ци вилизации. Давно уже признанное классическим, это произведение отличают научная ценность, широта охвата, разнообразие фактиче ского материала, обширная эрудиция, яркость и убедительность изло жения, прозрачность и завершенность стиля.
Книга выходит четвертым, заново просмотренным и исправлен ным изданием с подробным научным аппаратом.
На авантитуле: Йохан Хёйзинга. Шарж Дейвида Левина, 1996
©1938 by Johan Huizinga
©2011 The Estate ofJohan Huizinga
©Д. В. Сильвестров, составление, перевод, 1995, 1997, 2007,2011
©Д. В. Сильвестров, предисловие, 2011
©Д. В. Сильвестров, приложение, 2011
©Д. Э. Харитонович, комментарий, 1995, 1997, 2007, 2011
©Н. А. Теплов, оформление, 2011
©Издательство Ивана Лимбаха, 2011
П Р Е Д И С Л О В И Е
i^ выходом в свет четвертой книги Йохана Хёйзинги ( 1872-1945) издательство Ивана Лимбаха делает достоянием русского читателя практически все наиболее известные произведения замечательно го нидерландского историка и культуролога.
После блестящего успеха появившейся в 1919 г. Осени Сред невековья" Йохан Хёйзинга пишет еще одну книгу, завоевавшую признание во всем мире. Это — Homo ludens** [Человек играющий].
Книга выходит в свет в 1938 году. Некоторые читатели были оза дачены появлением опуса, казалось, написанного совершенно в иной манере. И лишь со временем становилось всё более ясно, на сколько эти — на первый взгляд две столь разные — книги по сути близки друг другу.
Осень Средневековья увидела свет сразу же после Первой миро вой войны. Голландии тогда удалось остаться нейтральной. Тем ужас нее воспринимался контраст с окружавшей страну изувеченной, кровоточащей Европой. Книга возникла в драматическом противо стоянии дьявольски бесчеловечному периоду европейской истории.
В Осени Средневековья мы видим причудливый игровой сплав самых ^разнообразных текстов — при явном интересе автора к
*И. Хёйзинга. Осень Средневековья. М., Наука, 1988 (Серия Памятники исторической мысли); И. Хёйзинга. Осень Средневековья. М., Прогресс Культура, 1995; И. Хёйзинга. Осень Средневековья. М., Айрис-пресс, 2002; 2004; И. Хёйзинга. Осень Средневековья. СПб., Изд-во Ивана Лимбаха, 2011.
**И. Хёйзинга. Homo ludens. Статьи по истории культуры. М, Прогресс Культура, 1995; Й. Хёйзинга. Homo ludens.. Статьи по истории куль туры. М., Айрис-пресс, 2003; Й. Хёйзинга. Homo ludens. Человек игра ющий. СПб., Аабука-классика, 2007.
6 |
ДМИТРИЙ СИЛЬВЕСТРОВ |
антропологии и социологии культуры, что неуклонно вело Хёйзингу к следующему шагу, которым стала другая его знаменитая книга — Homo ludens [ Человек играющий].
Сопоставляя эти две книги, мы замечаем, что Осень Средневе ковья содержит обильный материал по сути игровых форм*, которые охватывает и объясняет понятие игры в Человеке играющем, книге «об извечной примитивности (первозданности) человеческой культуры, которая никогда не уходит от своих первоначал, уходя же — роковым образом теряет себя»**.
Культура, спасающая нас от наступления варварства, требует осмысления. Необходимо найти некое универсальное правило, некую универсальную сферу деятельности, скажем даже — некое универсальное примиряющее пространство, дающее людям рав ные шансы, оправдывающее их порой невыносимое существова ние. Речь идет не о моральном оправдании истории и уж конечно не о теодицее — но о неистребимой потребности приложить ме рило человеческого ума к космической беспредельности духовной составляющей человеческой жизни.
Извечному парадоксу свободы, реально достижимой лишь на мнимой линии горизонта, дает впечатляющее разрешение фено мен игры.
В 1938 году мир стоит накануне Второй, еще более чудовищной мировой войны. Культурные традиции не предотвратили наступ-
*«Но при этом культивировалась пустая внешность, которая весьма влияла на сознание общества. Как представляется, этот парадокс раз решим, если отказаться от оценочных представлений о внешнем как о чем-то плохом, понять, что бессодержательных культурных явлений не бывает, и признать, что содержанием всех этих пустых форм и были сами формы. То есть то, что наполняло эти формы, что создавало их, что придало им именно такой вид, исчезло, оставив значимость, и они стали ценны сами по себе, само-ценны» (Д. Э. Харитонович. Осень Средневековья: Йохан Хёйзинга и проблема упадка. В кн.: Й. Хёйзинга.
Осень Средневековья. Прогресс-Культура, 1995, с. 373).
**А. В. Михайлов. Й Хёйзинга в историографии культуры. В кн.: Осень Средневековья. Наука, М., 1988, с. 444.
П Р Е Д И С Л О В ИЕ |
7 |
ление варварства. Межеумочный период entre deux guerres не только не принес желаемого умиротворения, но явно вынашивал новую, еще более чудовищную катастрофу. Меланхолическая мета фора прекрасной, пышно увядающей осени с каждым годом уходи ла всё дальше в пестрое многоцветье того «века Бургундии», кото рому, однажды возникнув под пером нидерландского профессора истории, суждено было теперь никогда не кончаться. Но действи тельность выглядела иначе.
Как литературные произведения Осень Средневековья и Homo ludenSy на первый взгляд, принадлежат к разным жанрам. Мозаичность Осени Средневековья делает ее похожей на puzzle, загадочную картинку, вдохновенно составленную из множества цветных фраг ментов. Но теперь прием «детской игры» вырастает в глубоко осознанную целостную композицию. Homo ludens, при всём внеш нем отличии от Осени Средневековья, демонстрирует явную сти листическую преемственность. Обоим произведениям присущи классическая ясность стиля, музыкальный ритм в построении фраз, речевых периодов, всех элементов текста. Богатство и много плановость лексики всецело подчиняются абсолютному слуху авто ра. Хёйзинга относится к числу тех мастеров, для которых какие бы то бы ни было погрешности вкуса совершенно немыслимы. Язык его сдержан и четок, но при этом эмоционально ярок и выразите лен. Внешне строго научное изложение то и дело вызывает разно образные реминисценции, нередко приобретает тонкие оттенки иронии.
Хёйзинга, в своей Осени сделавший образ новым, важным эле ментом исторического исследования, предложил теперь новую метафору — на сей раз уже for all seasons. Индивидуальная и обще ственная жизнь, всё историческое и культурное развитие челове чества описывается в терминах игры, как игра.
В двух своих самых значительных книгах Хёйзинга откликает ся на самое сильное, по его собственным словам, впечатление своей жизни. В шестилетнем возрасте, в Гронингене, он становится сви детелем костюмированного шествия, посвященного одному из со-
8 |
Д М И Т Р И Й С И Л Ь В Е С Т Р О В |
бытии нидерландской истории XVII в. С детства он проникается ощущением того, что индивидуальное переживание прошлого не разрывно связано с индивидуальными персонажами. В 1894 г. он сам, в костюме XVII в., участвует в подобном студенческом маска раде. На обеде по завершении празднества Хёйзинга заметил, что «маскарад — несомненный признак упадка, возможно его послед нее проявление. И мы горды тем, что являемся последними носи телями этой прекрасной традиции, которая теперь умирает». За метим, однако, что торжественные ритуалы, особенно в старых европейских монархиях, свидетельствуют о том, что традиция эта не только не умирает, но, сочетая истовую серьезность с шутливой иронией, проявляется в прекрасных и глубоко содержательных зрелищах (ярчайший пример — Смена караула у Бакингемского дворца, завершающаяся под мелодию моцартовской арии «Non più andrai, farfallone amoroso»*. Вспоминая церемонию присужде ния ему почетной степени доктора Оксфордского университета, Хёйзинга пишет, что он пережил час «подлинного Средневеко вья» и что удивительно, до какой степени умеют англичане высоко чтить эти традиции, не принимая их слишком всерьез, но и непревращая в посмешище.
Человек является человеком постольку, поскольку обладает способностью по своей воле выступать и пребывать субъектом игры. И действительно — «созданный по образу и подобию Божию», на ключевой вопрос о своем имени он, бессознательно вклю чаясь в сызмала навязанную ему игру, бесхитростно называет имя, которое он носит, не смея ответить на заданный вопрос всерьез, а именно: «азъ есмь сущш». Под личиною своего имени каждый из нас разыгрывает свою жизнь, в универсальной сущности игры сто ящую в одном ряду с «маскарадными» танцами первобытных пле мен. «После изгнания из рая человек живет играя» (Лев Лосев).
* Обращенная к Керубино ария Фигаро из оперы Le nczze di Figaro [Свадьба Фигаро]-, в исполнении на русском языке: «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный».
ПРЕДИСЛОВИЕ |
9 |
Объективно включающий всякую человеческую деятельность процесс игры отзывается субъективным ощущением вовлеченно сти в игру в каждом из нас. Сопутствующее ходу истории возник новение и исчезновение символов, культурных и религиозных гра ниц, широта и изменчивость подхода к вещам — это не изменение правил игры в процессе игры. Это сама игра. По Хёйзинге, это и есть история, история умственной и психической эволюции. Это и есть само существование человека, определяемого им именно как
человек играющий.
Homo ludens, фундаментальное, давно уже ставшее классиче ским исследование, раскрывает сущность феномена игры и значе ние ее в человеческой цивилизации. Но самое заметное здесь — гуманистическая подоплека этой концепции, прослеживаемой на разных этапах истории культуры многих стран и народов. Склон ность и способность человека облекать в формы игрового поведения все стороны своей жизни выступает подтверждением объективной ценности изначально присущих ему творческих устремлений.
Ощущение и ситуация игры, давая, как убеждает нас непосред ственный опыт, максимально возможную свободу ее участникам, реализуются в рамках исторического контекста, который приво дит к появлению тех или иных жестко очерченных правил — пра вил игры. Нет контекста — нет правил. Верно также обратное: не принимающий правил выпадает из контекста истории. Смысл и значение игры определяются отношением непосредственного, фе номенального текста игры — к так или иначе опосредованному универсальному, то есть включающему в себя весь мир, контексту человеческого существования. Это предельно ясно в случае произ ведения искусства — образчика такой игры, контекстом которой является вся вселенная. Произведение искусства присутствует во времени, но существует в вечности и как таковое содержит в себе духовный опыт и прошлого, и будущего. Классическое произведе ние искусства неисчерпаемо, оно не может быть объяснено и не может быть понято, будучи пластическим образом необъятной и необъяснимой вселенной. Одно и то же произведение искусства —
