
Арбитраж 22-23 учебный год / ВЭП РФ, 2017, 8
.pdf
Свободная трибуна
ограничительную судебную практику в его применении (с учетом побудительных мотивов, указанных выше). И пока идут отмеренные семь лет, цивилисты должны предложить такое регулирование срока исковой давности, которое в интересах прочности оборота действовало бы автоматически, если не сказать с неизбежностью, содержало бы минимум оценочных понятий, давало бы ответчику определенные процессуальные преимущества. Первым же условием для этого является устранение дуализма субъективного и объективного сроков.
Внесенные в законодательство изменения, которые касаются десятилетнего объективного срока исковой давности, казалось бы, не имеют непосредственного значения для приобретательной давности. Однако при более детальном размышлении это оказывается не так...
История приобретательной давности в СССР и России весьма показательна с точки зрения борьбы двух подходов: идеи передела собственности и идеи прочности гражданского оборота. События, которые произошли после Октябрьского переворота 1917 г., фактически были одним из самых масштабных переделов собственности в человеческой истории. Нормандское вторжение в Англию или конфискация имений дворян во времена Великой французской революции на нашем фоне выглядят скромно. Изъятие собственности дошло практически до каждого болееменее состоятельного человека, причем осуществлялось независимо от того, провинился он перед новой властью или нет. Разумеется, и последствия такого изъятия были катастрофическими. Но сейчас не об этом.
На фоне всеобщей национализации, когда гарантии частной собственности практически отсутствовали, начался робкий разговор о введении в СССР приобретательной давности — такого способа приобретения права, который опирается на идею прочности гражданского оборота. Вспомним статьи В.А. Рясенцева «Давность» и Б.Б. Черепахина «Приобретение права собственности по давности владения», которые были опубликованы в конце 1930-х гг.4 Только что кончилась самая сильная волна репрессий, связанная с именем Ежова, а цивилисты начали призывать к введению приобретательной давности, пусть и в ограниченных пределах. Обсуждение подхватили А.В. Венедиктов5 и Ю.К. Толстой6. В результате идея приобретательной давности прочно укоренилась в правовом сознании.
При этом законодательство советского периода исключало малейший намек на приобретение имущества по давности владения. В сталинский период применялась презумпция права государственной собственности, которая исключала какую-либо возможность частного лица стать собственником вещи, формально ему не принадлежавшей. Позднее в соответствии с ГК РСФСР 1964 г. главными формами социалистической собственности, подлежащей приоритетной защите, стали считаться государственная и колхозно-кооперативная собственность. Иму-
4См.: Рясенцев В.А. Давность // Советская юстиция. 1937. № 19. С. 13–16; Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности владения // Советское государство и право. 1940. № 4. С. 51–61.
5См.: Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М. — Л., 1948. С. 546.
6См.: Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л., 1955. С. 189 и след.
69

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 8/2017
щество, входящее в их состав, могло быть истребовано у всякого приобретателя, в том числе добросовестного, а государственное имущество к тому же — бессрочно, без какого-либо срока исковой давности.
Такое положение сохранялось до рыночных реформ начала 1990-х гг., авторы которых задумались не только о создании частной собственности за счет приватизации государственного и колхозно-кооперативного имущества, но и о гарантиях частным собственникам. Главной гарантией был равный подход ко всем собственникам, исключающий какие-либо привилегии для некоторых из них7. Одновременно вводилось и приобретение имущества по давности владения как способ, направленный на обеспечение стабильности гражданского оборота (см. п. 3 ст. 7 Закона РСФСР о собственности). Диктат государства, состоящий в присвоении себе необоснованных по сравнению с другими собственниками привилегий, тогда закончился. Но этот период продлился, увы, недолго.
После короткого периода так называемой массовой приватизации вновь подняли головы сторонники передела собственности, на этот раз в лице государственной бюрократии, слишком много терявшей из-за роста частного сектора. Хорошо помню слова некоторых чиновников тех лет: все хорошие помещения приватизированы, нечем распоряжаться... Свою атаку они повели против «грабительской» приватизации, заручившись поддержкой компартии. Идея стабильности гражданского оборота, незыблемости приобретенных прав была им глубоко противна. Они хотели перераспределять активы по своему усмотрению, а некоторые нормы права им явно мешали. Поэтому началась медленная эрозия законодательства о собственности, сопровождавшаяся изменением судебной практики.
Конечно, концепция приватизации была порочна: подавляющее большинство людей не получили от нее никаких благ, а, напротив, потеряли работу, вынуждены были переезжать, осваивать новые виды деятельности и т.д. Это так! Но концепция приватизации и не могла быть иной в условиях, когда у людей не было денег, чтобы заплатить за приобретаемые объекты. Ее на данном этапе не следовало реализовывать. Нужно было просто развивать частный сектор, — и деньги для выкупа бы со временем появились. Но главное даже не в этом: те, кто воспользовался плодами критики приватизации, не вернули и не собирались возвращать их ни государству, ни тем более народу. Они забрали их себе. Таким образом, ослабление защиты стабильности гражданского оборота имело целью перераспределение собственности из одних частных рук в другие. Простые люди как были, так и остались ни с чем.
Равный подход к любому собственнику и приобретательная давность, конечно, не были главными гарантиями стабильности гражданского оборота, препятствующими переделу собственности, но они были своего рода лакмусовой бумажкой, которая показывала, насколько эта стабильность велика. Реквизиты приобретательной давности были сформулированы очень жестко по отношению к давност-
7См.: абз. 2 п. 3 ст. 2 Закона РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР» («Установление государством в какой бы то ни было форме ограничений или преимуществ в осуществлении права собственности в зависимости от нахождения имущества в частной, государственной, муниципальной собственности и собственности общественных объединений (организаций) не допускается»).
70

Свободная трибуна
ному владельцу, ведь его добросовестность фактически могла существовать лишь тогда, когда он приобрел вещь в собственность по внешне законному основанию, например по недействительной сделке8. Во всех иных ситуациях данный институт не работал. К тому же начало течения срока приобретательной давности в ГК РФ 1994 г. было приурочено к окончанию срока исковой давности.
А поскольку в те времена действовала лишь трехлетняя субъективная исковая давность, то начало течения срока приобретательной давности могло быть отодвинуто очень далеко от момента, когда формальный собственник утратил владение вещью. Все зависело от того, как суд оценит, знал (должен был знать) собственник о нарушении своего права или нет. Если не знал и не должен был знать, то трехлетняя субъективная исковая давность не течет, а значит, не течет и приобретательная давность. Какие только причудливые доводы ни приводили истцы в подтверждение того, что давность не текла. И главное, суды часто с ними соглашались, особенно если имущество истребовалось в пользу государства.
В результате многие давностные владельцы боялись заявлять требования о признании за ними права собственности. Вдруг соответствующее имущество приглянется какому-то государственному должностному лицу и суд неожиданно решит, что исковая давность не текла. А заявитель, выходит, совершил добровольную явку с повинной. При таких обстоятельствах лучше подождать... Благо (или горе!), ждать пришлось долго, поскольку в судебной практике была сформулирована правовая позиция, согласно которой срок приобретательной давности при любых обстоятельствах не мог начаться раньше отказа от неприменения срока исковой давности для виндикации государственного имущества (т.е. с 01.07.1990).
Такой отказ был обусловлен принятием Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», с введением в действие которого была отменена ст. 90 ГК РСФСР 1964 г.9 Прибавим к этому три года исковой давности и пятнадцать лет приобретательной давности для недвижимости (по ГК РФ 1994 г.). В итоге приобретательная давность по любым требованиям, касающимся недвижимости, могла истечь не ранее 01.07.2008.
Но вот эта дата наступила, а в суды в массовом порядке за признанием права собственности по давности владения заявители не пошли. В чем причина? Неужели объектов, которые можно приобрести по давности, очень мало? В СССР было много огородов, служебных наделов, иных земельных участков, которые выдавали во временное пользование, часто оформляя их плохо. Советский Союз распался, многие организации этого не пережили, а люди продолжали земельными участками пользоваться, возводили на них строения — то ли временные, то ли капитальные — без должных оснований. Государственные предприятия от них не отставали, возводя хозяйственным способом здания и сооружения на своей территории. Так что потенциальных объектов для давностного владения было немало.
8См., напр.: Дроздов И.А. К вопросу о добросовестности давностного владельца // Вестник ВАС РФ. 2009. № 5. С. 6–21.
9См.: п. 16 постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
71

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 8/2017
Значит, давностные владельцы боятся себя раскрывать, обращаясь в суд? Или они уже давно легализовали строения с помощью иных правовых средств при «попустительстве» властей? Легализация строений очень затруднена, если они располагаются на земельных участках, для целей строительства не предназначенных. Даже если вы получили участок на законном основании, приобретательная давность тут может не помочь. Во-первых, потому что отсутствует реквизит добросовестности в части, касающейся приобретения по давности права собственности на земельный участок. Во-вторых, легализации строений препятствовало то, что они обычно были самовольными постройками. Ведь даже если правовой режим земельного участка позволял его застройку, редко кто в те годы получал разрешение на строительство и согласовывал проектно-сметную документацию.
Однако в процессе приватизации многие постройки государственных предприятий могли быть легко легализованы. Достаточно было оформить их планы в бюро технической инвентаризации (БТИ) и включить их в приватизационные документы, чтобы после приватизации они стали частной собственностью. Что касается иных юридических лиц, то им могло бы помочь признание действительными сделок с нежилой недвижимостью, заключенных до введения процедуры государственной регистрации. Такие сделки могли оформляться, скажем, с недействующими компаниями с целью создать видимость приобретения у них активов, и при благосклонном отношении регистрирующих органов служить основаниями для перехода прав. Никто не проводил исследований, много ли объектов попало в частную собственность таким образом…
Вместе с тем применительно к земельным участкам и жилым помещениям такой механизм легализации был крайне затруднителен. В части первых потому, что участки на начальном этапе не приватизировались, а передавались в собственность впоследствии путем выкупа. Участки состояли на кадастровом учете в отдельной системе органов, и этот учет был налаженным. К тому же долгое время судебная практика придерживалась доктринального взгляда, согласно которому приобретение земельных участков по давности было невозможно в силу презумпции права государственной собственности на них10. В части вторых сделки с жилыми домами (еще в советский период), а после приватизации квартир и сделки с последними подлежали регистрации. Их трудно было легализовать через подставных лиц.
С учетом сказанного можно сделать вывод о том, что в гражданском обороте оставалось немало объектов, которые можно было бы легализовать после 01.07.2008 при помощи приобретательной давности. И причиной, по которой данный институт не использовался, были его дефекты. Про обязательный реквизит добросовестности написано много, и повторять аргументы в пользу его отмены мне здесь не хотелось бы. Замечу лишь, что это главная причина неэффективности приобретательной давности как средства обеспечения прочности гражданского оборота. Скажу о другом — о моменте начала течения срока приобретательной давности, который приурочен к окончанию срока исковой давности.
10См.: Иванов А.А. О презумпции права государственной собственности на землю в России // Закон. 2016. № 6. С. 35–41.
72

Свободная трибуна
В условиях, когда действовал трехлетний субъективный срок исковой давности, который начинал течь, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, владелец задавненного имущества зависел от оценки судом обстоятельств дела. И если речь шла об имуществе, которое потенциально могло вернуться в собственность государства, давностный владелец не без оснований опасался, что суд истолкует обстоятельства дела в том ключе, что не истек срок не только приобретательной, но и исковой давности. И тогда вместо приобретения имущества по давности произошло бы изъятие его в пользу государства. Вот почему давностные владельцы подчас и после 01.07.2008 предпочитали не засвечиваться, обращаясь в суды.
Когда был введен десятилетний объективный срок исковой давности, у таких владельцев появилось больше уверенности. Стала бессмысленной возможность переоценивать обстоятельства дела в том ключе, что трехлетний субъективный срок исковой давности не истек, если прошло 10 лет с момента нарушения права. Объективный срок исковой давности гораздо труднее признать неистекшим. Однако с учетом изменений закона в связи с правовой позицией КС РФ десятилетний объективный срок исковой давности теперь истечет не ранее 01.09.2023. Вернулась та ситуация правовой неопределенности, которая была ранее. И владельцы задавненного имущества по-прежнему будут избегать его легализации, по крайней мере до 01.09.2023. Вот так повлияло на приобретательную давность изменение момента начала течения десятилетнего объективного срока исковой давности.
Изменение момента начала течения десятилетнего объективного срока исковой давности показывает, насколько важное значение имеют сроки в гражданском праве для принципа правовой определенности. Более конкретно — особую роль играет четкое определение моментов начала и окончания сроков, поскольку именно с ними связывается изменение правового регулирования, касающегося конкретного правоотношения. Если срок начался (окончился), но есть многочисленные условия, которые могут изменить это обстоятельство, то правовая определенность страдает, поскольку участники правоотношения не понимают, чем руководствоваться. Во многих случаях продолжительность срока менее значима, чем упомянутые условия, особенно когда очевидно, что срок необходим. Это обстоятельство необходимо учитывать при гармонизации сроков исковой и приобретательной давности, которая продолжает оставаться актуальной.
References
Cherepakhin B.B. Acquisitive Prescription [Priobretenie prava sobstvennosti po davnosti vladeniya]. Soviet State and Law [Sovetskoe gosudarstvo i pravo]. 1940. No. 4. P. 51–61.
Drozdov I.А. Bona Fides for Prescription [K voprosu o dobrosovestnosti davnostnogo vladeltsa]. The Herald of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation [Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiiskoi Federatsii]. 2009. No. 5. P. 6–21.
Ivanov А.А. On the Presumption of State Ownership of Land in Russia [O presumptsii prava gosudarstvennoi sobstvennosti na zemlyu v Rossii]. Statute [Zakon]. 2016. No. 6. P. 35–41.
73

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 8/2017
Ryasentsev V.A. Prescription [Davnost’]. Soviet Justice [Sovetskaya yustitsiya]. 1937. No. 19. P. 13–16.
Tolstoy Yu.K. Content of Property Rights and Their Protection under Civil Law in the USSR [Soderzhanie i pravovaya zaschita prava sobstvennosti v SSSR]. Leningrad, Izdatelstvo LGU, 1955. 219 p.
Venediktov A.V. State-Owned Socialist Property [Gosudarstvennaya sotsialisticheskaya sobstvennost’]. Moscow — Leningrad, Izdatelstvo AN SSSR, 1948. 839 p.
Information about the author
Anton Ivanov — Head of the Department of Civil and Business Law, Professor at the Law Faculty
of the Higher School of Economics, PhD in Law (101000 Russia, Moscow, Myasnitskaya St., 20, room 527; e-mail: a.ivanov@hse.ru).
74
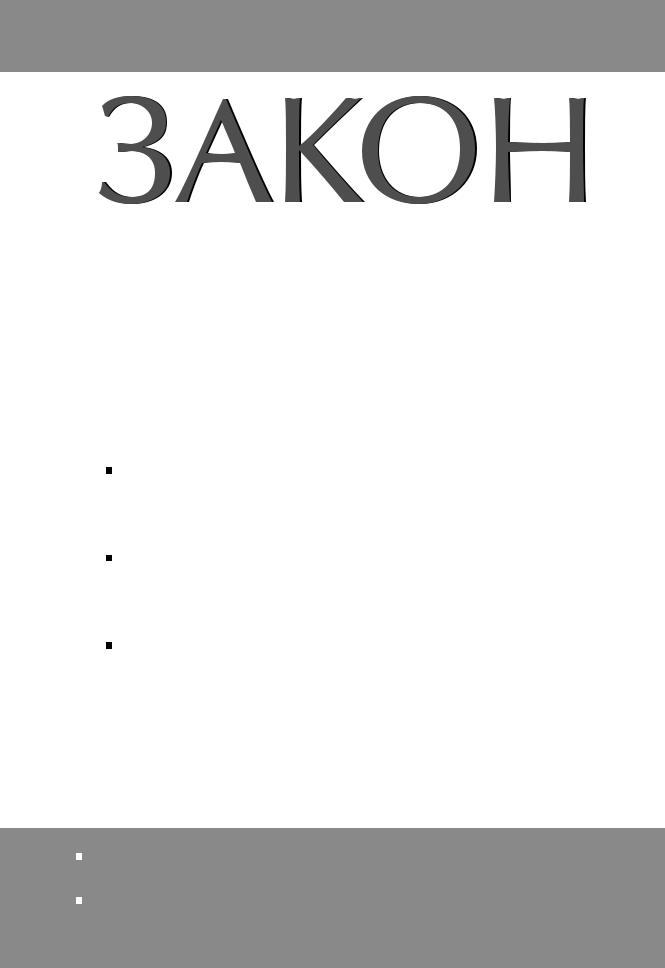
ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ |
WWW.IGZAKON.RU |
Выходит с 1992 года
Ежемесячный информационно-аналитический журнал. Удостоен премии «Фемида» за 2007 год.
«ЗАКОН» – это уникальное сочетание научно-практических статей, новостных материалов, качественной аналитики и экспертных комментариев
В СЕНТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ
Главная тема: Третейская реформа. Post Scriptum
Среди авторов номера:
Х.Р. Ферис, Г.К. Жукова
Ускоренный арбитраж ICC: нововведения и перспективы применения
Комментарий к новому Арбитражному регламенту ICC 2017 г.
И.В. Решетникова
Презумпция добросовестности в арбитражном процессе
На каких участников процесса не распространяется презумпция добросовестности?
Н.Б. Кашников
Совместно и раздельно данные поручительства. Совместное обеспечение обязательства
Может ли поручитель получить регрессное требование к залогодателю по обеспеченному им обязательству в порядке суброгации?
Примечание редакции: в анонсе журнала «Закон» № 8 за 2017 г., опубликованном в «Вестнике экономического правосудия РФ» № 7 за 2017 г., вместо «Реформа рынка юридических услуг в России» следует читать «Корпоративные злоупотребления и защита корпоративных прав».
Подписной индекс 39001 в Объединенном каталоге «Пресса России», в каталоге Агентства «Роспечать»
Подписаться в редакции — https://zakon.ru/Subscription
Реклама
w w w . i g z a k o n . r u
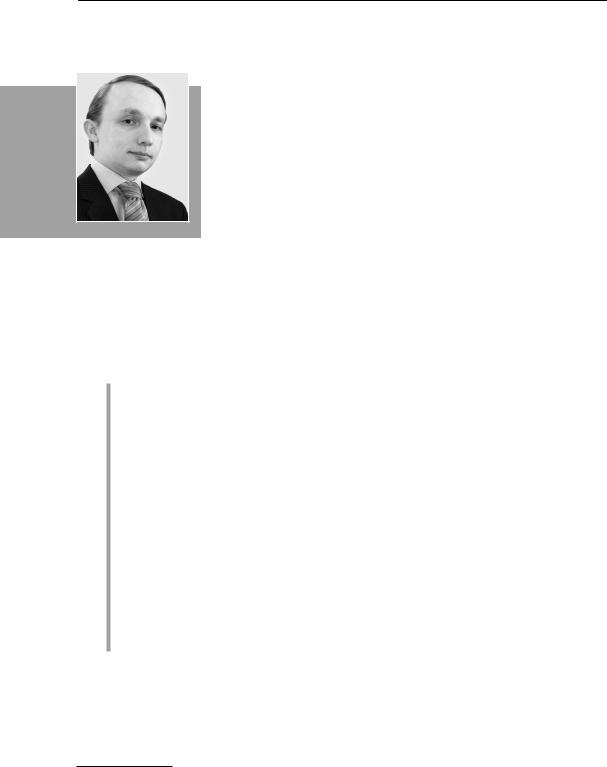
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 8/2017
Виталий Олегович Калятин
старший научный сотрудник Международной лаборатории по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности НИУ «Высшая школа экономики», профессор Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, кандидат юридических наук
О некоторых тенденциях развития международного регулирования в сфере интеллектуальной собственности1
Международные соглашения являются важным элементом построения системы охраны интеллектуальной собственности во всем мире. В настоящей статье рассматриваются закономерности развития международно-правового регулирования в этой сфере и делаются выводы о его дальнейших направлениях. Интересы государства меняются, и выгода от участия в определенном международном соглашении зависит от того, какую роль играет страна среди других государств, создающих интеллектуальную собственность. Автор приходит к выводу, что ни лидеры, ни отстающие не заинтересованы в заключении новых международных соглашений, а больше всего выгодны они группе стран, наиболее близких к лидерам. Можно говорить о том, что в дальнейшем международное регулирование будет сочетать формирование конкретных правил в мировом масштабе с использованием не многосторонних международных соглашений, а двусторонних договоров и механизмов «мягкого права», причем интеллектуальная собственность будет регулироваться прежде всего в аспекте обеспечения оборота информационных продуктов, а не защиты прав авторов.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, международные соглашения, «мягкое право», организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе
1Статья подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ «Высшая школа экономики» и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
76

Свободная трибуна
Vitaliy Kalyatin
Senior Researcher at the International Laboratory for Information Technology and Intellectual Property Law of the Higher School of Economics, Professor of the Alexeev Research Centre for Private Law under the President of the Russian Federation, PhD in Law
On Certain Developments in International Intellectual Property
Regulation
International agreements are an important part of the intellectual property protection system across the globe. This article discusses some major patterns of the global intellectual property regime and delivers conclusions regarding its further development. The national interest may change and reasonable participation in a specific international agreement depends on the global role the country is currently playing. The author finds that neither leaders nor outsiders are interested in concluding new international agreements, but it is the group of second leading countries that are most interested in it. One could say that in the near future international regulation will combine specific provisions on a global scale with bilateral agreements and soft law instruments rather than multilateral agreements; and the intellectual property regulation will be centered on electronic commerce rather than copyright protection.
Keywords: intellectual property, copyright, international agreements, soft law, collective management organizations
Как известно, охрана интеллектуальной собственности всегда привязана к определенной территории — такое положение базируется на признанной идее, что «интеллектуальная собственность является созданной государством временной монополией, призванной поощрить дальнейшие инновации»2. Понятно, что если монополия создается государством, то ее действие ограничено территориями этой страны. Но для того, чтобы обеспечить полноценное использование и защиту результатов интеллектуальной деятельности на уровне нескольких государств, не говоря уже о глобальном масштабе, необходимо применение специальных правовых инструментов, в роли которых выступают международные соглашения, позволяющие обеспечить охрану объекта во многих странах и общую унификацию подходов к регулированию в данной сфере. Таким образом, важность международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности
обусловлена самой ее природой.
Исходя из этого, можно посчитать, что международные соглашения — это благо, и доктрина в целом поддерживает это мнение. Характерно, например, высказывание бывшего генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности А. Богша: «…эти конвенции наглядно демонстрируют, что интеллектуальная собственность не является просто составной частью вопроса обмена товарами и услугами, а что она призвана сыграть чрезвычайно важную роль в диалоге наций посредством того вклада, который творения разума вносят в прогресс всех народов»3.
2Boyle J. The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind. New Haven, 2008. P. 21.
3Цит. по: Международные конвенции об авторском праве. Комментарий / под ред. Э.П. Гаврилова. М., 1982. С. 23.
77

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 8/2017
Однако в действительности ситуация оказывается значительно сложнее. Государство может менять свою позицию, то выступая против определенных соглашений, то становясь их сторонником. Выбор правовых инструментов также определяется интересами государства в конкретный момент времени. Наконец, в разные исторические периоды международные соглашения преследуют разные цели.
Попробуем рассмотреть в рамках настоящей статьи некоторые тенденции формирования международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности.
Меняющиеся интересы участников соглашений
Участвуя в формировании норм международного права, каждое государство стремится максимально защитить свои интересы. Не является исключением и сфера интеллектуальной собственности. Международное соглашение для государства не выступает абсолютной ценностью — его важность определяется тем, что оно дает в конкретных обстоятельствах.
Наиболее ясно воля государства проявляется в национальном законодательстве. Это касается и сферы интеллектуальной собственности, где законодательство меняется в зависимости от интересов государства на данном этапе.
Как отмечалось в докладе Комиссии по правам на интеллектуальную собственность, организованной Правительством Великобритании, «страны традиционно использовали режимы ИС в целях продвижения, в их понимании, своих экономических интересов. Страны меняли свои режимы на разных этапах экономического развития, по мере изменения своих представлений (и экономического статуса). Например, с 1790 по 1836 год, будучи чистым импортером технологии, США ограничивали выдачу патентов тем, кто не был гражданином или жителем страны. Даже в 1836 году патентные сборы с иностранцев были в десять раз выше сборов с граждан США (и еще на две трети выше в случае британцев!). Лишь в 1861 году (почти полностью) прекратили дискриминацию против иностранцев»4.
Это контрастирует с нынешней политикой стимулирования патентования, но в обоих случаях публично обосновывалась проводимая политика: в первом случае указывалось на несоответствие признания «сильного» права интеллектуальной собственности принципам свободы движения информации5, во втором соответ-
4Сочетание защиты прав на интеллектуальную собственность с политикой в области развития. Отчет Комиссии по правам на интеллектуальную собственность. Лондон, 2003. С. 18. URL: http://www. iprcommission.org/.
5Например, журнал «Экономист» писал в 1851 г.: «Предоставленные патентным законодательством привилегии изобретателям — введение запретов для других людей, причем соответствующая история изобретений полна случаев, когда незначительные запатентованные улучшения надолго остановили схожие, гораздо более значительные улучшения… привилегии задушили больше изобретений, чем поощрили… Каждый патент — запрет, на определенное число лет, на улучшение в направлениях, отличных от направлений патента; и как бы это ни было выигрышно для получателя привилегий, общество от этого выиграть не может… Это фактически запрет для других изобретателей пользоваться своими умственными способностями; а поскольку их больше одного, то это равносильно тормозу на пути общего прогресса» (цит. по: Сочетание защиты прав на интеллектуальную собственность с политикой в области развития… С. 19).
78
