
Арбитраж 22-23 учебный год / Арбитражная практика № 11, ноябрь 2015
.pdf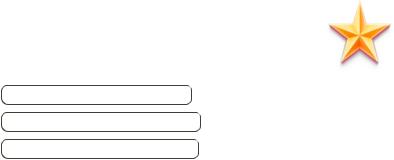
другой стороны, непонятно, как физически водитель должен контролировать распределение сыпучего или жидкого груза? Тем более непонятно, как такое размещение должен контролировать грузоотправитель?
По сути своей подобный формальный подход означает объективное вменение — ответственность без вины. При этом в неформальных беседах сотрудники правоохранительных органов и судьи часто рекомендуют «грузить меньше», забывая при этом, что, например, 20 т цемента в цистерне могут сместиться так, что на одной из осей будет превышение на 2–3 т, а на других осевая нагрузка не будет достигать и половины от нормы.
Тем не менее перегруз по осям для сыпучих и жидких грузов часто оборачивается судебной лотереей: повезет или не повезет — зависит целиком от судебного усмотрения и в какой-то степени от убедительности доводов защиты.
Кстати, регулярно встречающиеся коммерческие предложения по установке систем контроля осевой нагрузки проблемы не решают. Во-первых, как уже отмечалось, доверяют весам пункта весового контроля, и не всегда предлагаемые датчики признаются средством измерения (решения Промышленного районного суда г. Смоленска от 28.06.2012 № 12-267/12, Сортвальского городского суда Республики Карелия от 19.05.2015 по делу № 12-38/2015). Во-вторых, наличие данных систем не снимает проблему перемещения груза в пути следования. И, в-третьих, их наличие может в глазах суда создать ошибочное представление, будто перевозчик «мог» контролировать распределение сыпучего или жидкого груза, тогда как по факту он сможет только с той или иной степенью точности отслеживать его перемещение в цистерне.
Единственным реальным выходом является целенаправленная и принципиальная работа перевозчиков и отправителей по отстаиванию своей позиции, возможно, с привлечением общественных организаций. В конечном итоге, по нашему убеждению, на эту тему должен высказаться Верховный суд РФ, поскольку до настоящего времени найти его решения по данной проблеме не удалось.
Вы внимательно прочитали статью? Тогда ответьте на вопрос:
Образует ли превышение осевой нагрузки сыпучих грузов состав правонарушения по ст. 12.21.1 КоАП РФ?
Да, такой перегруз является правонарушением Нет, осевой перегруз сыпучих грузов не наказуем Нет, при условии допустимой общей массы груза
Звезда за правильный
ответ
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ
Структурирование сделок с офшорами. Какие правила о контролируемых компаниях нужно учесть в работе
Дмитрий Евгеньевич Анищенко
младший юрист налоговой практики юридической фирмы Sameta
• По каким критериям лицо признается контролирующим лицом КИК
• Как определить активную иностранную компанию
• В каких случаях КИК не подлежит налогообложению на территории РФ
С 1 января 2015 года в российском налоговом законодательстве введены правила о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Данные правила уже давно применяются в налоговом праве и существуют в том или ином виде в законодательстве более 100 государств. Несомненно, эти нововведения окажут влияние на процесс структурирования сделок с участием нерезидентов. При этом многие используемые ранее схемы станут неприменимы. Налоговые риски несут и физические лица — владельцы КИК. Позицию судов по данному вопросу можно будет оценить лишь по прошествии какого-то времени. На данном же этапе понять перспективы офшорного бизнеса можно, обратившись непосредственно к нормам о КИК, которые представляются довольно категоричными.
Правила о контролирующем лице применяются и к организациям, в которых не предусмотрено участие в капитале
Правила о КИК применяются в целях предотвращения размывания налогооблагаемой базы и пресечения накопления налогоплательщиками своих доходов в офшорах. Хотя подобные правила и разнятся в отдельных странах, но их главный принцип един — обложение соответствующим подоходным налогом в стране резидентства налогоплательщика нераспределенной прибыли подконтрольной ему организации или структуры, являющейся резидентом низконалоговой юрисдикции.
Всоответствии с российскими правилами о КИК российский резидент, в отношении которого соблюдаются законодательно установленные критерии участия в иностранной компании или структуре без образования юридического лица (КИК), может быть признан контролирующим лицом такой КИК.
Вотношении владения данной КИК резидент – контролирующее лицо обязан представить специальную налоговую декларацию до 20 марта 2017 года, а также уплатить налог с нераспределенной прибыли КИК в форме НДФЛ или налога на прибыль.
Статья 25.13 НК РФ предусматривает критерии признания лица контролирующим отдельно в отношении иностранных организаций и иностранных структур без образования юридического лица.
Контролирующим лицом иностранной организации в соответствии с п. 2 ст. 25.13 НК РФ признаются:
1)лицо — резидент РФ, доля участия которого в этой иностранной организации (КИК) (для физических лиц — совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 50% — в 2015 году, более 25% — с 2016 года;
2)лицо — резидент РФ, доля участия которого в этой организации (КИК) (для физических лиц — совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 10%, если доля участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами РФ, в этой организации (для физических лиц — совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 50%.
Контролирующим лицом иностранной структуры без образования юридического лица (в частности траста) признаются:
одновременно соблюдаются все следующие условия:
а) учредитель не вправе получать (требовать получения) прямо или косвенно прибыль (доход) структуры полностью или частично; б) учредитель не вправе распоряжаться прибылью (доходом) структуры;
в) учредитель не сохраняет за собой права на имущество, переданное структуре, на протяжении всего существования структуры, а также после ее ликвидации;
г) учредитель не может оказывать определяющее влияние на решения, принимаемые лицом, осуществляющим управление активами структуры, в отношении распределения полученной прибыли (дохода) после налогообложения в соответствии с личным законом и (или) учредительными документами структуры.
Таким образом, к примеру, учредитель траста — резидент РФ признается по умолчанию его контролирующим лицом и обязан подавать соответствующую налоговую декларацию о КИК.
Однако он имеет право не считаться контролирующим лицом траста и не подавать специальную декларацию, если в отношении него выполняются одновременно все вышеперечисленные условия.
2. В отношении иных лиц (бенефициара, траста и т. п.) действует презумпция «отсутствия контроля». Однако такое лицо может быть признано контролирующим лицом структуры, если оно:
во-первых, может оказывать определяющее влияние на решения, принимаемые лицом, осуществляющим управление активами структуры, в отношении распределения полученной прибыли (дохода) после налогообложения в соответствии с личным законом и (или) учредительными документами структуры,
во-вторых, при наличии первого обстоятельства в отношении этого лица выполняется хотя бы одно из следующих условий: а) оно имеет фактическое право на доход (его часть), получаемый иностранной структурой; б) оно вправе распоряжаться имуществом иностранной структуры; в) оно вправе получить имущество иностранной структуры в случае его ликвидации.
Тут же следует отметить, что в соответствии с поправками в Налоговый кодекс РФ от 8 июня 2015 года данные правила также применяются и к особым видам юридических лиц — организациям, в которых в соответствии с их национальным законодательством не предусмотрено участие в капитале. К таким, в частности, можно отнести Нидерландские и Лихтейнштейнские фонды (foundations).
Активные холдинговые компании могут освобождаться от налогообложения на территории России
В отношении КИК возможно как прямое, так и косвенное участие и, как следствие, разные порядки определения долей такого участия.
1. Прямое участие представляет собой наличие у лица в собственности определенного количества голосующих акций КИК, либо доли в уставном (складочном) капитале.
В случае, когда возможно определить фактический размер принадлежащих лицу акций или долей в уставном (складочном) капитале КИК, процент его участия признается тождественным проценту принадлежащих ему акций (долей).
Например, резидент РФ владеет 70% акций АО, зарегистрированного в Гонконге (признается КИК). Тогда доля его участия в такой КИК составляет 75%.
В случае невозможности определения фактического размера доли участия лица в КИК, она определяется исходя из доли имущества, вносимого каждым участником, в совокупном вкладе КИК, а в случае невозможности определения такой доли — пропорционально числу участников КИК (письмо Минфина России от 01.07.2015 № 03-01-11/38085).
Доля прямого участия в иностранной структуре без образования юридического лица (например, трасте) определяется пропорционально вкладу каждого контролирующего лица в имущество, переданное этой структуре. В случае невозможности определения размера вклада в имущество, переданное такой структуре, доли всех контролирующих лиц признаются равными, а их размер определяется исходя из количества контролирующих лиц такой структуры.
2. Косвенное участие представляет собой наличие у лица в собственности определенного количества голосующих акций либо доли в уставном (складочном) капитале организации (структуры) без образования юридического лица, которая, в свою очередь, владеет определенным количеством голосующих акций (долей) КИК.
Доля косвенного участия, в соответствии с п. 3 ст. 105.2 НК РФ, определяется следующим образом:
1)определяются все последовательности участия одной организации в другой организации через прямое участие каждой предыдущей организации в каждой последующей организации соответствующей последовательности;
2)определяются доли прямого участия каждой предыдущей организации в каждой последующей организации соответствующей последовательности;
3)суммируются произведения долей прямого участия одной организации в другой организации через участие каждой предыдущей организации в каждой последующей организации всех последовательностей.
Например, если резидент РФ владеет 50% акций кипрского АО, владеющего 50% акций АО, зарегистрированного на Британских Виргинских островах, то доля его участия в последней организации определяется как 50% × 50% = 25%.
Налоговый кодекс РФ предусматривает ряд исключений, при которых прибыль КИК даже при соблюдении вышеописанных условий не подлежит обложению на территории России. К таким исключениям, в частности, относятся:
–некоммерческие организации, которые в соответствии со своим личным законом не распределяют полученную прибыль между акционерами (участниками) или иными лицами;
–иностранные компании, образованные в соответствии с законодательством стран ЕАЭС — Армении, Беларуси или Казахстана;
–компания, которая является активной иностранной компанией, активной холдинговой или субхолдинговой компанией.
«Активность» вышеперечисленных компаний определяется по доле пассивных доходов в общей сумме доходов компании за финансовый год по данным финансовой отчетности.
Для активных иностранных компаний такая доля должна составлять не более 20%, для активных холдинговых и субхолдинговых компаний — не более 5%.
Перечень пассивных доходов для це-лей законодательства о КИК предусмотрен в подп. 1 – 12 п. 4 ст. 309.1 НК РФ и включает в себя, в частности: дивиденды, проценты по займам, роялти, доходы от продажи акций (долей), от операций с производными финансовыми инструментами, от реализации недвижимого имущества, от сдачи имущества в аренду и т. п.;

или иного специального разрешения на осуществление банковской или страховой деятельности.
Эффективная ставка по налогу на прибыль для этой иностранной организации составляет не менее 75% средневзвешенной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций.
Эффективная ставка представляет собой выраженную в процентах пропорцию между налогом с прибыли, уплаченным иностранной компанией, и ее прибылью.
Средневзвешенная ставка представляет собой выраженное в процентах отношение между суммой налогов, подлежащих уплате с прибыли иностранной компании по российским ставкам (отдельно учитываются доходы от дивидендов), и прибылью данной компании.
В отношении данных организаций (а также иных, перечисленных в ст. 25.13- 1 НК РФ) законодателем установлено освобождение нераспределенной прибыли от налогообложения на территории России как КИК.
Для применения такого освобождения от налогообложения налогоплательщик – контролирующее лицо должен представить в соответствующий налоговый орган документы, подтверждающие соблюдение условий для такого освобождения.
Правила о КИК подталкивают налогоплательщиков распределять доходы путем выплаты дивидендов
Правила о КИК направлены в первую очередь против недобросовестных налогоплательщиков, структурирующих свой бизнес через иностранные юрисдикции в целях минимизации налогового бремени.
Фактически налогоплательщиков не заставляют ликвидировать сформированные в предыдущих годах структуры, но подталкивают к переводу всех причитающихся им доходов под российское налогообложение, в первую очередь — путем выплаты дивидендов. С этим связаны, в частности, исключения для активных компаний, которые в силу обычного делового характера своей деятельности и так регулярно распределяют свою прибыль между участниками.
Это, в частности, подтверждается категоричным характером правил о КИК, которые относят к контролируемым все иностранные компании, подпадающие под довольно незамысловатые формальные требования. Налогоплательщик в дальнейшем уже самостоятельно должен документально доказывать основания для неуплаты налога в отношении конкретной КИК.
В то же время законодатель постарался избежать фискальных злоупотреблений в отношении контролируемых компаний. В частности, п. 11 ст. 309.1 НК РФ предусматривает налоговый кредит в отношении суммы налога, исчисленного в отношении прибыли контролируемой иностранной компании за соответствующий период. Налог с прибыли КИК уменьшается на величину налога, исчисленного в отношении той же прибыли в соответствии с законодательством иностранных государств или РФ. Это правило применимо в первую очередь для ситуаций, когда российский резидент участвует в цепочке КИК и прибыль сначала облагается соответствующим налогом в отношении дочерней, а затем (например, при распределении дивидендов) и в отношении материнской компании.
Таким образом, российским компаниям (в частности холдинговым), которые используют в цепочке сделок офшорные компании, рекомендуется проанализировать действующую структуру владения с учетом эффекта правил о КИК и при необходимости провести реструктуризацию.
Кроме того, правила о КИК повысили налоговые риски, связанные с осуществлением операционного управления иностранными организациями с территории России. В этой связи налогоплательщикам важно провести комплексный анализ структур управления иностранными прямыми и косвенными аффилированными компаниями, а также оценить соответствующие налоговые риски.
Помимо этого целесообразно при структурировании сделок и подписании соответствующих договоров закреплять условия, предусматривающие меры ответственности и возмещения налоговых убытков между сторонами.
Отметим также, что один из главных столпов, на которых базируются правила о КИК, — развитый обмен информацией с иностранными налоговыми органами. 4 ноября 2014 года Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам. Предполагается, что этот важный шаг позволит России значительно расширить обмен налоговой информацией с иностранными государствами, в том числе и с офшорными юрисдикциями, проводить налоговые проверки одновременно с иностранными коллегами, взыскивать налоговую задолженность за рубежом.
Данная Конвенция предусматривает серьезный набор административных и правовых инструментов, в частности: автоматический обмен информацией, обмен информацией по запросу, произвольный обмен (представление информации иностранными налоговыми органами по собственной инициативе), проведение одновременных налоговых проверок и др.
С другой стороны, с учетом напряженной внешнеполитической обстановки, есть основания полагать, что иностранные налоговые органы — в первую очередь из стран Евросоюза — будут неохотно идти на сотрудничество с российскими налоговиками.
В любом случае с учетом национальных правовых и политических особенностей, а также особенностей правоприменения делать какие-либо прогнозы относительно первых результатов применения правил о КИК в России еще рано, даже с учетом опыта иностранных государств.
Вы внимательно прочитали статью? Тогда ответьте на вопрос:
Какой долей участия в КИК должен владеть резидент РФ в 2016 году, чтобы быть признанным контролирующим лицом КИК?
Более 50 % Более 25 % Более 10 %
Звезда за правильный
ответ
ТЕОРИЯ
подходов, развитых практикой
Ксения Александровна Усачева
аспирантка МГУ им. М. В. Ломоносова, магистр юриспруденции (РШЧП), специалист ИЦЧП при Президенте РФ
•Какие подходы к пониманию статьи 453 ГК сложились в практике до реформы и каким зарубежным концепциям они соответствуют
•Каковы недостатки развитых судебной практикой подходов
•Как новая редакция ГК РФ разрешает вопрос об эффекте расторжения нарушенного договора
Прежняя редакция Гражданского кодекса РФ строго устанавливала, что при расторжении договора стороны по общему правилу не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими до момента изменения или расторжения договора (п. 4 ст. 453). Мы уже рассмотрели, как категорично положения этой статьи первоначально понимались практикой и доктриной1.
Такое понимание основывалось, как правило, лишь на формальном запрете истребования предоставленного. Более того, п. 2 данной статьи понимался иногда как лишающий возможности применения и иных средств защиты, вытекающих из договора.
Поэтому такой подход во многом виделся несправедливым и несбалансированным, и в скором времени в практике получил свое развитие иной вектор, в результате которого положения ст. 453 ГК стали толковаться как дающие возможность возврата полученного.
Возврат полученного как «иное последствие расторжения договора, предусмотренное законом или договором»
Первоначально такое толкование было ограничительным и связывалось только с теми ситуациями, когда законом применительно к конкретной договорной конструкции или соглашением сторон предусмотрено иное. Например, указывалось, что если покупателем предъявлено требование о расторжении договора в связи с передачей ему продавцом товара ненадлежащего качества, то он вправе, возвратив товар продавцу, потребовать от него возврата уплаченной суммы (ст. 475 ГК РФ). Или что при отсутствии у продавца товара, необходимого для обмена, покупатель по договору розничной купли-продажи вправе возвратить продавцу приобретенный товар и получить уплаченную за него денежную сумму (п. 1 ст. 502 ГК)2. Еще один такой пример описывался, в частности, в п. 59 постановления Пленума ВС РФ № 6 и Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Здесь указывалось, что общее правило п. 4 ст. 453 ГК не подлежит применению, поскольку отношения сторон регулируются иным законом (Закон РФ от 05.06.1992 № 2930-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации»), пусть даже и не вполне корректным, но предполагающим возвращение сторонами того, что было исполнено ими по договору купли-продажи до момента его расторжения3.
Данный подход иногда встречается и в более современной практике (см., напр., апелляционное определение Омского областного суда от 03.07.2013 по делу № 33-4001/13), однако общая тенденция здесь состоит скорее в уже более широком понимании возможности возврата полученного по договору. Общее правило ст. 453 ГК о невозможности возврата полученного при расторжении договора, согласно такому пониманию, также допускает исключения, если они предусмотрены законом или соглашением сторон. Но в качестве исключения, предусмотренного законом, здесь предлагается считать не единичные отсылки к реституции в конкретных статьях, а сами нормы о неосновательном обогащении (п. 1 ст. 1102 ГК РФ)4. При этом в доктрине высказывались даже идеи о том, что для признания возможности возврата полученного по договору можно и не искать отсылку в самой ст. 453 ГК: если бы там и не было этого указания, то нормы о неосновательном обогащении все равно бы применялись как носящие общий (генеральный) характер5.
Первым крупным шагом на уровне высших судебных инстанций здесь стало информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»6 (далее — Информационное письмо № 49).
Цитата. «При расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась. <…> положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ и абзаца второго статьи 806 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода» (п. 1 Информационного письма № 49).
В этом же ключе Президиум ВАС РФ высказался и в информационном письме от 24.09.2002 № 69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены»: сторона, передавшая товар по договору мены, не лишена права истребовать ранее исполненное после расторжения договора, если другое лицо вследствие этого неосновательно обогатилось (п. 13). Речь снова шла о случае, когда одна из сторон полностью не исполнила свои обязательства7. В таком направлении развивалась и дальнейшая судебная практика (постановления ФАС Поволжского округа от 04.09.2001 по делу № А12-3285/01с20, от 16.01.2003 по делу № А57- 4688/02-2, Западно-Сибирского округа от 30.01.2002 по делу № А13-5222/01-17, от 26.08.2003 № Ф04/4246-1225/А46-2003, Уральского округа от 14.05.2004 № Ф09-1362/04-ГК, Северо-Кавказского округа от 16.08.2004 № Ф08-3232/2004, от 11.01.2006 №Ф08-6092/2005, Северо-Западного округа от 14.07.2005 по делу № А52-5421/2004/1). Есть и более поздние примеры (постановления ФАС Северо-Западного округа от 22.07.2010 по делу № А56-80830/2009, АС Уральского округа от 27.07.2015 по делу № А60-45906/2014, от 11.09.2015 по делу № А60-47091/2014 ; определения ВАС РФ от 13.07.2011 по делу № А04-8420/2009, от 13.07.2011 по делу № А04-8415/2009, от 20.02.2012 по делу № А55-21622/2010, от 26.07.2012 по делу № А49-7833/2010, от 21.08.2012 по делу № А82-4718/2011, от 06.11.2012 по делу № А41-32382/11, от 11.04.2013 по делу № А07-21172/2011, от 25.04.2013 по делу № А40-42429/2012-22-394, от 17.12.2013 по делу № А43-28566/2011 и принятые по этим делам судебные акты).
Таким образом, постепенно положения ст. 453 ГК стали толковаться в русле тенденций, принятых сегодня в странах общего права и в некоторых актах по унификации договорного права. Они предполагали возможность возврата полученного лишь при возникновении неэквивалентности, то есть как исключение, при этом специально предусмотренное законом или соглашением, а не наоборот — когда общее правило состояло бы в необходимости возврата, а из него бы при необходимости делались отступления. Однако сама квалификация требования о возврате полученного в качестве неосновательного обогащения вызывала одновременно критику из-за иного, чем в странах общего права, понимания категории неосновательного обогащения и отпадения отсюда вместе с отпадением основания обеспечений, возможности применения мер ответственности, договорных стандартов (в противовес объективным рыночным) и т. д.8
Возврат полученного при расторжении договора как применение норм о неосновательном обогащении по аналогии (статья 1103 ГК)
Данный подход инструментально близок к описанному выше, но отличается от него в своей исходной посылке. Он связывается с пониманием положений ст. 1103 ГК РФ как позволяющих говорить о возможности возврата полученного при отмене договора.
Цитата. «В силу пункта 4 статьи 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. Вместе с тем согласно статье 1103 ГК РФ положения о неосновательном обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством. Поэтому в случае расторжения договора продавец, не получивший оплаты по нему, вправе требовать возврата переданного покупателю имущества на основании статей 1102, 1104 ГК РФ» (п. 65 постановления Пленума ВС РФ № 10 и Пленума ВАС
защитой права собственности и других вещных прав»).
Этот подход нашел отражение и в судебной практике (определения ВС РФ от 12.04.2011 № 43-В11-1, ВАС РФ от 28.11.2011 по делу № А43-23290/2010, от 12.04.2012 по делу № А21-1057/2011, от 17.10.2012 по делу № А03-9432/2011 и принятые по этим делам иные судебные акты; постановления АС Московского округа от 24.09.2014 по делу № А41-50916/13, от 16.10.2014 по делу № А40- 88718/13-85-787, от 27.02.2015 по делу № А41-11600/13, Северо-Западного округа от 07.04.2015 по делу № А56-46486/2014, от 23.04.2015 по делу № А05-6474/2014, от 15.05.2015 по делу № А56-57096/2013, от 16.06.2015 по делу № А56-45552/2013, Уральского округа от 22.06.2015 по делу № А76-18675/2014, от 14.07.2015 по делу № А60-44363/2014, от 29.07.2015 по делу № А60-58007/2014 и др.).
Слабость такой позиции в том, что сама по себе ст. 1103 ГК РФ не решает вопрос о судьбе переданного во исполнение обязательства, она говорит лишь о переданном «в связи с исполнением». Об этом высказывался ранее и Президиум ВАС РФ в п. 4 Информационного письма № 49. Здесь проводилось различие в том, что оплата была произведена в связи с договором, но не на основании его, так как договором не предусматривалась обязанность арендатора возмещать включенные в счет расходы. И делался вывод, что поскольку особых правил о возврате излишне уплаченных по договору аренды сумм законодательство не предусматривает и из существа рассматриваемых отношений невозможность применения правил о неосновательном обогащении не вытекает, суд обоснованно руководствовался положениями ст. 1102 ГК9.
Возврат полученного при расторжении договора как возмещение вреда
Принципиально иное направление обоснования возможности возврата полученного при расторжении нарушенного договора стало связываться практикой также с правилами о возмещении вреда, которое по российскому праву, по общему правилу, производится в натуре. Р. С. Бевзенко, анализируя практику арбитражных судов до 2010 года10, указывает, что наряду с другими распространение получил подход, согласно которому запрет возврата полученного при расторжении договора может быть преодолен, если сторона, осуществившая имущественное предоставление, по впоследствии расторгнутому договору, предъявит к другой стороне иск о возврате исполненного в качестве возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Автор ссылается на судебную практику, которая поддерживает такое понимание (постановления ФАС Северо-Западного округа от 16.06.1999 по делу № А56-4129/99, Центрального округа от 20.01.2003 по делу № А48-2106/02-12). Такой подход встречается и в более поздней практике (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 26.05.2008 № Ф04-3217/2008, Центрального округа от 15.08.2008 по делу № А62-167/2008, от
16.08.2012 по делу № А23-4754/2011, Уральского округа от 15.09.2009 № Ф09-6865/09-С3, от 17.12.2009 № Ф09-10044/09-С2, от 30.03.2010 № Ф09-1898/10-С2 и др.)11. Эту позицию судебной практики со ссылками на судебные акты критически обсуждают также Д. В. Добрачев, А. В. Егоров, А. Г. Карапетов и С. В. Сарбаш12.
Иногда такой подход связывался не только с рассмотрением расторжения как санкции за неисполнение обязательства и возвратом полученного как формой возмещения вреда в натуре, но также и с толкованием п. 5 ст. 453 ГК. Так, в одном из основных ранних комментариев к ГК РФ указывается, что в этой норме речь идет о возмещении убытков, причиненных другой стороной в результате существенного нарушения ею договора, а не в результате изменения или расторжения договора, как ошибочно указано в статье. Последнее является следствием существенного нарушения договора, а не причиной возникновения убытков13. В. В. Витрянский и С. В. Сарбаш, напротив, отмечают, что в данном случае речь идет о возмещении убытков, причиненных именно расторжением или изменением договора. Наряду с этим контрагент стороны, допустившей нарушение договора, сохраняет за собой право требовать возмещения убытков (а в соответствующих случаях и применения иных мер ответственности), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств14.
Понимание реституционного требования как формы возмещения вреда соответствует одному из обоснований возможности возврата полученного при расторжении нарушенного договора за рубежом и говорит — в отличие от приведенных ранее вариантов — в пользу восприятия подхода континентального права к этому вопросу. Однако в целом оно критически оценивается и в зарубежной, и в российской доктринах15.
Возврат полученного при расторжении договора как отражение дискуссий о финальной каузе
Еще одно из обоснований возврата полученного, воспроизведенное российской доктриной и также соответствующее скорее подходу, сложившемуся в странах континентального права, связывается с отпадением экономической цели удержания полученного предоставления из-за неисполнения обязательств контрагентом.
В частности, в комментарии к п. 1 Информационного письма № 49 Д. В. Новак указывает, что в данном случае экономической целью предоставления было получение от экспедитора встречного предоставления в виде оказания соответствующих услуг, но поскольку эта цель не была достигнута, имеет место порок каузы и полученное подлежит возврату16.
Такой подход очень напоминает специально обсуждавшуюся в качестве обоснования эффекта расторжения во французском и бельгийском праве концепцию отпадения каузы в связи с неисполнением обязательства контрагентом. Как отмечает Ж. Буае, во французском праве практика, начиная с решения Палаты по гражданским делам от 04.04.1891, реализуя эту идею, практически единодушно признавала, что обязательство одной из сторон является каузой обязательства другой. Поэтому при неисполнении своего обязательства одной из сторон обязательство другой стороны прекращается. Активными сторонниками этой идеи были, в частности, Ш. Демоломб и А. Капитан17. Последний в связи с различными критическими замечаниями при этом модифицировал понятие каузы, о которой говорит ст. 1131 ФГК.
Он указал, что она является финальной и представляет собой непосредственную цель, которой задается каждая сторона, заключая договор: эта цель состоит не просто в приобретении долга контрагентом; то, чего хочет контрагент — приобрести предоставление, которое ему было обещано18.
Исторически это объяснение опиралось на параллельное развитие в средневековом праве институтов расторжения и каузы и на влияние понятия финальной каузы на генерализацию судебного расторжения в дальнейшем. Из идеи финальной каузы, как указывается, исходил сам Ш. Дюмулен19, впервые выведший из разрозненных положений Corpus iuris civilis общий принцип возможности расторжения любого нарушенного договора — как непоименованного, так и поименованного. При этом с психологической точки зрения явно подтверждается, что в синаллагматических договорах не само по себе обязательство одной стороны толкает другую сторону к заключению договора с ней, а именно его ожидаемое исполнение20.
Связь эффекта расторжения нарушенного договора с идеей отпадения каузы также наталкивается на критику. Основные возражения связываются как с внедоговорной квалификацией требования о возврате полученного, так и с некоторыми другими контраргументами (например, о том, что расторжение по общему правилу может быть потребовано только пострадавшим от неисполнения кредитором, в то время как недостаток каузы порождает абсолютную ничтожность, на которую может ссылаться всякое заинтересованное лицо, и др.).
Возврат полученного как отражение измененного содержания первоначального договора и теории трансформации
В российской доктрине предпринимались также и попытки имплементировать германскую теорию трансформации, предполагающую переход обязательственного отношения с расторжением договора в ликвидационную стадию. Этот подход объясняет возврат полученного трансформацией первичных обязательств по предоставлению в реституционные обязательства, которые сохраняют поэтому свой договорный характер21. Отголоски этой концепции или же просто понимания договорной природы права требования о возврате полученного при расторжении нарушенного договора уже звучали и в практике (решение МКАС при ТПП РФ от 17.08.2012
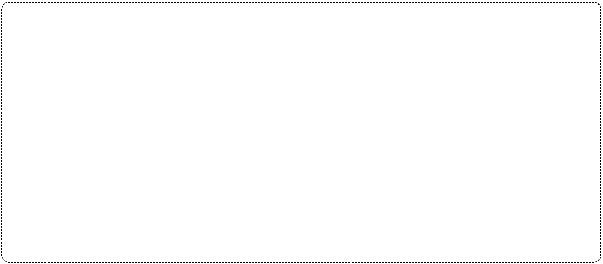
также соответствует первому подходу, предполагающему возврат полученного как общее правило.
Теория трансформации оценивается иногда критически, в частности, с точки зрения излишнего удвоения притязаний, лежащих в основе старого договора и возникающих в результате перехода обязательства в ликвидационную стадию22. Однако, по большому счету, обосновать договорный характер требования можно, и не прибегая к теории трансформации, а лишь учитывая функциональную нагрузку всех иных институтов, способных опосредовать возврат полученного.
Иногда указывается, что неосновательное обогащение не может выступать образцом для регулирования последствий расторжения изза того, что оно выполняет существенно иные задачи и функции по изъятию обогащения из какого-то абстрактного имущества с использованием этого самого общего средства. Как пишет, Г. Лезер, договорные правила о расторжении направлены на выравнивание интересов сторон, а общие кондикционные — на изъятие избытка, выравнивание имущества23.
Точно так же по функциям легко отграничить это регулирование и от виндикации, реализующей общую функцию по упорядочению принадлежности вещных прав и по причислению владения собственнику24.
Для требования о возврате не обязательно Отсутствие встречного предоставления
Постепенно ограничительный подход, закрепленный в тексте п. 1 Информационного письма № 49, о том, что возможность возврата полученного предполагается лишь в случаях, когда встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, был отчасти преодолен практикой в пользу поиска гибких критериев эквивалентности.
В этом плане примечательным является, в частности, дело, рассмотренное Президиумом ВАС РФ в 2014 году (постановление от 21.01.2014 по делу № А40-116623/2012). По обстоятельствам данного дела встречные предоставления были осуществлены обеими сторонами, но со стороны покупателя — ненадлежащим образом, поскольку приобретенный товар был оплачен неполностью. Президиум ВАС РФ указал, что в отличие от ситуации, описанной в Информационном письме № 49, в данном деле было предоставлено встречное предоставление в виде самосвалов, которые покупатель использовал, извлекая из этого для себя коммерческую выгоду в течение длительного срока. Поэтому требование о возврате уплаченного за товар аванса, если и подлежало удовлетворению (сомнение здесь возникло еще и в связи с тем, что возврат аванса был прямо запрещен соглашением сторон), то за вычетом суммы выгоды, которую покупатель извлек, используя полученный и в последующем возвращенный продавцу товар. То есть Президиум здесь в принципе признал возможность возврата полученного при расторжении договора тогда, когда предоставления по нему были осуществлены обеими сторонами, но указал на необходимость учета эквивалентности в имущественном положении сторон по итогам осуществления возврата.
В то же время к такому гибкому критерию практика шла постепенно. Так, Р. С. Бевзенко указывает (по состоянию опубликования статьи — начало 2010 года), что первоначально практика использовала более категоричный подход: «если суды устанавливают, что лицо, получившее аванс по договору, впоследствии расторгнутому, совершило встречное исполнение, то в исках о возврате авансов, как правило, отказывают». Автор ссылается, в частности, на постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 26.05.1998 № Ф08-746/98, Дальневосточного округа от 05.05.2000 № Ф03-А73//00-1/680, Московского округа от 18.12.2000 № КГ-А40/5668-00*.
* Бевзенко Р. С. Указ. соч.
Возврат полученного при расторжении договора как результат смещения смыслового акцента в статье 453
Еще одно объяснение, позволявшее говорить о том, что п. 4 ст. 453 прежней редакции Гражданского кодекса РФ не исключал возможности истребования полученного по договору, состояло, в частности, в том, чтобы просто сместить в этой норме смысловой акцент.
Так, в одном из комментариев к ГК указывалось, что п. 4 «содержит общее правило, согласно которому с моментом изменения или расторжения договора связывается возможность предъявления стороной договора требования о возвращении исполненного ею по обязательству. Согласно данному правилу не допускается требование возвращения того, что было исполнено сторонами по обязательству, до момента изменения или расторжения договора (а после, то есть, можно, — Примеч. авт.). Этим подчеркивается незыблемость исполнения обязательств надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (см. ст. 309 и комментарий к ней)»25.
Однако при таком понимании явно необходимо какое-то разумное обоснование для п. 2 ст. 453 ГК. Здесь, вероятно, можно было бы говорить, что он касается тех обязательств, к исполнению которых стороны еще не приступали, либо можно говорить, что в п. 2 и п. 1 статьи просто проводятся различия между изменением и расторжением договора.
При этом из такого понимания трудно вывести принадлежность предложенного ст. 453 ГК решения к одному из принятых в мире подходов — одинаково возможны оба варианта.
Последнее постановление ВАС РФ: реституция при расторжении возможна как результат целевого толкования статьи 453
Хронологически последнее обоснование доктриной и практикой возможности возврата полученного при расторжении нарушенного договора связано с ограничительным толкованием п. 4 ст. 453 ГК. Так, Р. С. Бевзенко пишет, что действие этой нормы рассчитано на случай, когда расторжение договора происходит в ситуации равенства имущественных предоставлений, сделанных друг другу сторонами договора (например, даны авансы, на эту сумму отгружены товары и т. п.). Хотя, как указывает автор, такие «идеальные» ситуации встречаются редко26. А. В. Егоров, А. Г. Карапетов и Д. В. Новак также указывают, что действие п. 4 ст. 453 ГК распространяется лишь на те ситуации, когда обе стороны к моменту расторжения уже успели осуществить эквивалентный обмен. Такое же обоснование встречается и в некоторых судебных актах27.
Помимо этого, практикой был выработан подход, согласно которому норма ст. 453 ГК о невозможности возврата полученного распространяется лишь на те ситуации, когда возмездное обязательство полностью или частично исполнено (то есть имеется в виду надлежаще) обеими сторонами28.
В русле этих рассуждений последнее постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», указывает следующее.
Цитата. «При отсутствии соглашения сторон об ином положение пункта 4 статьи 453 ГК РФ подлежит применению лишь в случаях, когда встречные имущественные предоставления по расторгнутому впоследствии договору к моменту расторжения осуществлены надлежащим образом либо при делимости предмета обязательства размеры произведенных сторонами имущественных предоставлений эквивалентны (например, размер уплаченных авансовых платежей соответствует предусмотренной в договоре стоимости оказанных услуг или поставленных товаров, такие услуги и товары сохраняют интерес для получателя сами по себе и т..), а потому интересы сторон договора не нарушены» (абз. 3 п. 4).
Далее в п. 5 Пленум ВАС РФ уже прямо говорит о возможности истребования предоставленного при нарушении обязательств контрагентом в случае неэквивалентности встречных предоставлений29.
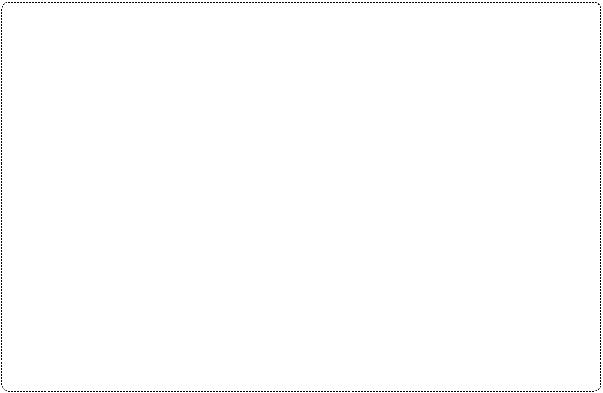
концепцию возврата полученного лишь как исключение, а п. 4 отражает скорее изъятие из общего правила о необходимости возврата, тем самым подтверждающее его.
При этом отраженное в постановлении распространение положений п. 4 ст. 453 ГК на случаи надлежащего исполнения, как отмечается, может заключать в себе логическое противоречие: надлежаще исполненный договор и расторгнут-то быть не может, обязательства по такому договору уже прекращены надлежащим исполнением30. Хотя ценность этого замечания теряется, например, для расторжения договоров с длящимся или делимым (согласно намерению сторон) исполнением. Для обоснования особенностей их отмены первоначально как раз исходили из того, что они представляют собой последовательное сочетание соглашений, растяженных по времени, поэтому считалось, что нарушение, как правило, касается только последнего соглашения и что отсюда не должна производиться полная реституция31.
В этом смысле, кажется, что выражения «эквивалентны» и «надлежаще исполнены» иногда могут выступать просто двумя способами описания некоторых пересекающихся ситуаций.
Новая редакция ГК отразила подход общего права к вопросу об эффекте расторжения нарушенного договора
Как можно заметить из предшествующего обзора, к моменту проведения реформы уже сложилось достаточно много вариантов толкования положений ст. 453 ГК. Это развитие логичным образом нашло свое продолжение в Концепции развития гражданского законодательства РФ, подготовленной на основании Указа Президента РФ от 18.06.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации». Так, в п. 9.2 указывалось, что нуждается в существенном уточнении норма о запрете требования возврата полученного при расторжении договора: «В ситуации, когда договор расторгается из-за того, что одна из его сторон не исполнила договор, отказ в удовлетворении требования другой стороны, добросовестно исполнившей свое обязательство, о возврате имущества, переданного контрагенту во исполнение договора, выглядит явно несправедливым. Норма должна быть дополнена положением о том, что, в случае, когда до момента расторжения или изменения договора одна из сторон не исполнила обязательство либо предоставила другой стороне неэквивалентное исполнение, к отношениям сторон подлежат применению правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК)». Точно такая же идея содержалась и в п. 1.5 разд. IX проекта концепции совершенствования общих положений обязательственного права России, рекомендованного Советом к опубликованию в целях обсуждения (протокол от 26.01.2009 № 66).
Такой подход был последовательно отражен в итоге и в действующей редакции ст. 453 ГК РФ.
Цитата. «При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.…Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства»
(п. п. 2, 4 ст. 453).
Эта редакция вступила в силу с 1 июня 2015 года и теперь в ст. 453 ГК в чистом виде отражен первый подход, как в странах общего права и некоторых актах по унификации договорного права. О его имплементации говорит, помимо общей формулировки статьи, также и то, что разработчики не увидели необходимости в обсуждении и учете особенностей расторжения длящихся договоров, договоров с делимым предметом исполнения и проч., которые требовали бы своего урегулирования при выборе иного подхода.
Таким образом, в российском праве вопрос о возврате полученного как последствии расторжения нарушенного договора в ходе своего исторического развития претерпел эволюцию от понимания, сложившегося в странах континентального права (дореволюционное право), до понимания, сложившегося в странах общего права и некоторых актах по унификации договорного права (новая редакция ГК). Оба эти понимания, несмотря на их кажущуюся противоположность, в конечном итоге зеркальны. Но актуальность их учета предопределяется, с одной стороны, стремлением избежать несбалансированных решений (какими были первые после принятия ГК РФ 1994 года), а, с другой стороны, концептуальным вопросом о том, в каком направлении перспективнее было бы развивать российское право с учетом плюсов и минусов каждого из них.
Теория трансформации
Исторические корни теории трансформации уходят еще в дискуссии периода разработки ГГУ. Отказываясь в целях защиты интересов третьих лиц от обоснования эффекта расторжения лишь как реализации отменительного условия с вещным эффектом и с лежащей в его основе идеей lex commissoria, первый проект ГГУ, а также последующая доктрина отразили так называемую концепцию «косвенного действия расторжения договора», которая исходила из того, что расторжение договора не уничтожает договор с обратной силой, а лишь дает кредитору бессрочное право на возражение. Необходимость возврата сторон в первоначальное положение здесь поэтому также основывалась на самом договоре. В последующем она стала иногда также объясняться через преобразование его содержания — как возникновение особого обязательственного отношения с новым содержанием (К. Кромэ). В современных исследованиях иногда отмечается, что свою опорную точку эта идея находила также и в римском actio redhibitoria, который наряду с идеей lex commissoria во многом повлиял на сформированную немецким правом конструкцию расторжения договора*. Главным представителем этой концепции считался Г. Дернбург, а также Ф. Эндеманн, К. Кромэ, Б. Матиасс и др.**. Ее описание мы находим и в дальнейших исследованиях периода после принятия ГГУ (например, у К. Ларенца, В. Гюнтера, О. Краппа, Х. Кёрбера, Ф. Нелле).
Постепенно она превратилась в так называемую теорию трансформации. Главным идеологом этой модификации концепции считался Г. Штолль, рассмотревший эти вопросы в своей диссертации в 1921 году***, хотя высказанные им идеи вряд ли были принципиально новыми для той эпохи. Он связывал действие расторжения с «изменением содержания обязательственно-правового организма»****. Согласно такому пониманию расторжение договора влечет переход обязательства в ликвидационную стадию, где первоначальные обязательства по предоставлению преобразуются в обязательства по возврату осуществленных предоставлений. На современном этапе по различным причинам эти идеи стали господствовать в немецкой5* и швейцарской6* доктринах.
* Graener W. Endbedingung und Rücktritt. Marburg, 1931. S. 41, 54; Günther W. Op. cit. S. 7–8,13; Kohler J. Die gestörte |
||
Rückabwicklung gescheiterter Austauschverträge. Köln, Berlin, Bonn, München, 1989. S. 22; Der Rücktritt, seine Wirkungen und seine |
||
Bedeutung im KonkursVergleichsverfahren. Diss. Dresden, 1935. S. 13; Krapp O. Op. cit. S. 12, 13–15, 19, 26; Leser H. G. Op. cit. S. |
||
26–77, 153-154, 155; Nelle F. Das Anfechtungsund Rücktrittsrecht beim Vertrage. Leipzig, 1931. S. 32–33; Sickinger Ch. |
||
Gefahrtragung und Haftung beim Rücktritt vom Kaufvertrag. Diss. Bonn, 1994. S. 126; Wolgast M. Das reformierte Rücktrittsfolgenrecht |
||
vor dem Hintergrund der Entwicklung im deutschen und im französischen Recht. München, 2005. S. 86–87. |
||
** |
|
См.об этом: Günther W. Op. cit. S. 13; Körber H. Op. cit. S.13; Krapp O. Op. cit. S. 14; Leser H. G. Op. cit. S. 154. |
*** |
|
Stoll H. Die Wirkungen des vertragsmäßigen Rücktritts, Diss. Bonn, 1921. |
**** |
Kaiser D. Op. cit. S. 111; Leser H. G. Op. cit. S. 159; Sickinger Ch. Op. cit. S. 129–130. |
|
5* |
Döll Y. Op. cit. S. 12, 52–53; Herold K. Das Rückabwicklungsschuldverhältnis aufgrund vertraglichen oder gesetzlichen Rücktritts. |
|
Berlin, 2001. S. 72; Kaiser D. Op. cit. S. 111; Kohler J. Die gestörte Rückabwicklung gescheiterter Austauschverträge. S. 23; Laimer S. |
||
Durchführung und Rechtsfolgen der Vertragsaufhebung bei nachträglichen Erfüllungsstörungen. Tübingen, 2009. S. 107; Leser H. G. Op. |
||
cit. S. 157–163; Sickinger Ch. Op. cit. S. 130. |
||
6* |
См. об этом: Glasl D. Op. cit. S. 32, 72, 90; Ehrat F. R. Op. cit. S. 118; Hartmann St. Op. cit. S. 10–11, 67. |
|
1 См.: Усачева К. А. Последствия расторжения нарушенного договора. Что изменилось с реформой ГК // Арбитражная практика. 2015. № 10. С. 118–125.
См., напр.: Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. II: Обязательственное право / отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд. М.,
2011; Комментарий к ГК РФ, части первой / под ред. Т. Е. Абовой, Ю. А. Кабалкина. М., 2004; Комментарий к ГК РФ, части первой (постатейный). 3-е изд. / под ред. О. Н. Садикова. М., 2004.
3 См. также: Витрянский В. В. Комментарий к Постановлению Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 6/8 // Хозяйство и право. 1996: эл.
версия. Режим доступа: http://www.juristlib.ru/book_199.html.
4 См. об этом: Новак Д. В. Комментарий к Информационному письму ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» // Практика рассмотрения коммерческих споров. Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума ВАС РФ. Вып. 4. М., 2008; Он же. Неосновательное обогащение в гражданском праве. М., 2010.
5 См., напр.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. 3-е издание. М., 2001. Российское гражданское право: учебник. Т. II: Обязательственное право…
6 Хотя и до него высшей судебной инстанцией уже высказывалась идея о наличии неосновательного обогащения на стороне продавца, получившего оплату за товар, но не выполнившего обязательства по его передаче (см., напр., п. 14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 № 39).
7 Однако вопрос об истребовании по иску о возврате неосновательного обогащения индивидуально-определенных вещей является спорным в российской литературе. О дискуссии по этому поводу см., в частности: Новак Д. В., Гербутов В. С. Ключевые проблемы обязательств из неосновательного обогащения // Вестник ВАС РФ. 2014. № 1. С. 59–60; Новак Д. В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. М., 2010.
8 См. об этом: Егоров А. В. Ликвидационная стадия обязательства // Вестник ВАС РФ. 2011. № 9. № 10.
9 На такой недостаток указывается и в доктрине (см., напр.: Ушивцева Д. А. Обязательства из неосновательного обогащения: вопросы теории и практики. Тюмень, 2006; Кушхов Р. А. О соотношении требований из неосновательного обогащения с требованиями одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с обязательством // Нотариус. 2006. № 5.
10 См.: Бевзенко Р. С. Некоторые вопросы судебной практики применения положений главы 29 ГК РФ // Вестник гражданского права. 2010. № 2.
11 Приводится по: Егоров А. В. Указ. соч.
12 См.: Добрачев Д. В. Развитие института возмещения убытков в свете модернизации Российского гражданского законодательства. М., 2012; Егоров А. В. Указ. соч.; Карапетов А. Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М., 2007; Сарбаш С. В. Возврат уплаченного как последствие неисполнения договорного обязательства // Хозяйство и право. 2002. № 6.
13 См.: Комментарий к ГК РФ, части первой / под ред. Т. Е. Абовой, Ю. А. Кабалкина. М., 2004.
14 Витрянский В. В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом договоре // Кодификация российского частного права / под ред. Д. А. Медведева. М., 2008; Сарбаш С. В. Указ. соч.
15 См. об этом, в частности: Бевзенко Р. С. Указ. соч.; Егоров А. В. Указ. соч.; Добрачев Д. В. Указ. соч.; Сарбаш С. В. Указ. соч.; Ehrat F. R. Der Rücktritt vom Vertrag nach Art.107 Abs.2 OR in Verbindung mit Art.109 OR. Zürich, 1990. S. 86; Glasl D. Die Rückabwicklung im Obligationenrecht. Zürich, 1992, S. 81, 87, 122; Kaiser D. Die Rückabwicklung gegenseitiger Verträge wegen Nichtund Schlechterfüllung nach BGB. Rücktritts-, Bereicherungsund Schadensersatzrecht. Tübingen, 2000. S. 19, 508; Krapp O. Die Bedeutung und Wirkung der Rücktrittserklärung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Diss. Göttingen, 1931. S. 34; Leser H. G. Der Rücktritt vom Vertrag: Abwicklungsverhältnis und Gestaltungsbefugnisse bei Leistungsstörungen. Tübingen, 1975, S. 138–139, 144–145, 147–149; Wanner A. Gefahrtragung und Haftung beim gesetzlichen Rücktritt. Diss. Frankfurt am Main, 2000. S. 83.
16 См.: Новак Д. В. Комментарий к Информационному письму ВАС РФ от 11.01.2000 № 49…
17 Об этом развитии см.: Bénabent A. Droit civil. Les obligations. 12 éd. Paris, 2010. P. 275, Boyer G. Recherches historiques sur la résolution des contrats. Paris, 1924, P. 41; Cassin R. Réflexions sur la résolution judiciaire des contrats pour inexécution / R.T.D.C. 1945, P. 166; Chabas C. «Résolution — Résiliation». No. 12; Ghestin J., Jamin Ch., Billiau M. Traité de droit civil. Les effets du contrat. 3e éd. Paris, 2001. P. 490–491; Mazeaud J., Mazeaud H., Mazeaud L., Chabas F. Lecons de droit civil. T. II. V. I. Obligations. Théorie générale. 8ème édition. Paris. P. 1151; Saguès N. M. La rupture unilaterale des contrats. Paris, 1937. P. 281, 298. В этом случае получается, что теорию каузы со стадии заключения договора переместили и на стадию его исполнения. Roland H., Starck B., Boyer L. Obligations. 2. Contrat. 5ème éd. Paris, 1995. P. 683.
18 Boyer G. Op. cit. P. 46; Cassin R. Op. cit. P. 166; Chabas C. «Résolution — Résiliation». No. 12; Ghestin J., Jamin Ch., Billiau M. Traité de droit civil. P. 490–491; Mazeaud J., Mazeaud H., Mazeaud L., Chabas F. Lecons de droit civil. P. 1151; Saguès N. M. Op. cit P. 298.
19 О толковании его позиции см., напр.: Boyer G. Op. cit. P. 343–344; Konukiewitz L. Die richterliche und die einseitige Vertragsauflösung wegen Nichterfüllung im französischen Recht und die aktuelle Reformdiskussion. Jena, 2012. S. 36.
20 Cassin R. Op. cit. P. 166; Ghestin J., Jamin Ch., Billiau M. Traité de droit civil. P. 491; Konukiewitz L. Op. cit. S. 30–32.
21 См., напр.: Егоров А. В. Указ. соч.; Егоров А. В. Комментарий к Постановлению Президиума ВАС РФ от 18 мая 2010 г. № 1059/10 // Правовые позиции Президиума ВАС РФ. Избранные постановления за 2010 год с комментариями / под ред. А. А. Иванова. М., 2015. С. 527–533, а также практику, на которую ссылается автор.
22 Döll Y. Rückgewährstörungen beim Rücktritt. Tübingen, 2011. S. 51; Günther W. Die rückwirkende Kraft des Rücktritts. Diss. Göttingen, 1932. S. 15 и др.
23 Leser H. G. Der Rücktritt vom Vertrag. S. 157, 167 и далее. См. также Kohler J. Bereicherungshaftung nach Rücktritt — eine verdrängte Verdrängung und ihre Folgen // AcP. Bd. 208. Tübingen, 2008. S. 431.
24 Ehrat F. R. Op. cit. S. 156.
25 Постатейный комментарий к ГК РФ, части первой / под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2011.
26 См.: Бевзенко Р. С. Указ. соч.; Он же. Правовые позиции ВАС РФ по вопросам поручительства и банковской гарантии. М., 2013.
27 См. об этом: Егоров А. В. Ликвидационная стадия обязательства // Вестник ВАС РФ. 2011. № 9; Карапетов А. Г. Указ. соч.; Новак Д. В. Комментарий к Информационному письму ВАС РФ от 11.01.2000 № 49; Новак Д. В. Неосновательное обогащение в гражданском праве…, а также работы, на которые ссылается автор. В частности, постановление ФАС Московского округа от 06.06.2006 по делу № А40-52453/05-63-476.
28 Такой вывод, как указывает Р. С. Бевзенко, следует, в частности, из текста постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 10.12.1997 № Ф08-1498/97 (см.: Бевзенко Р. С. Некоторые вопросы судебной практики…).
29 Такой подход воспроизводится и последующей практикой: постановления АС Западно-Сибирского округа от 08.09.2014 по делу № А45-31205/2012, Уральского округа от 09.07.2015 по делу № А47-7565/2014, Дальневосточного округа от 31.07.2015 по делу № А5131599/2014, Центрального округа от 31.07.2015 по делу № А36-3044/2014, Московского округа от 09.09.2015 по делу № А40134371/14.
30 Такой подход при этом, как отмечает Р. С. Бевзенко, уже получил свое отражение в судебной практике (см.: Бевзенко Р. С. Некоторые вопросы судебной практики…). Автор ссылается, в частности, на постановления ФАС Дальневосточного округа от
22.03.2005 № Ф03-А75/05-1/413, Поволжского округа от 07.06.2005 по делу № А55-8406/04-13, Поволжского округа от 05.07.2005 по делу № А65-18565/2003-СГ2-20. Вывод о том, что в принципе расторгнут может быть только еще действующий договор, стабильно встречается и в последующей практике. См., напр.: постановления ФАС Поволжского округа от 27.12.2008 по делу № А49-2309/2008,
от 19.12.2012 по делу № А57-13785/2012, Московского округа от 22.03.2013 по делу № А40-42638/12-57-394, определение ВС РФ от
27.09.2011 № 82-В11-3, а также в исследованиях по теме (см., напр.: Егорова М. А. Односторонний отказ от исполнения гражданскоправового договора. 2-е изд. М., 2010.
31 См. об этом.: Boyer G. Op. cit. P. 37.
АВТОРЕФЕРАТ
Обзор новых диссертаций

лица
СОИСКАТЕЛЬ: Галазова Залина Викторовна
ВУЗ: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Гутников Олег Валентинович, к. ю. н.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ: Ломакин Дмитрий Владимирович, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова
Забитов Керим Саидович, к. ю. н., главный специалист Департамента собственности ОАО «НК «Роснефть»
ДАТА ЗАЩИТЫ: 23 ноября 2015 года
В своей работе автор анализирует актуальные проблемы института реорганизации юридического лица. С целью совершенствования данного института диссертант предлагает внести ряд законодательных изменений. В частности, установить, что в случае признания недействительным решения о реорганизации юридического лица убытки участнику возмещаются, если он голосовал против решения о реорганизации либо не принимал участие в голосовании, действуя при этом добросовестно. Также предлагается ввести санкцию в виде приостановления реорганизации, если суд установит, что реорганизация была направлена на уклонение от обязательств перед кредиторами либо на нарушение прав участников. По мнению диссертанта, необходимо установить возможность признания реорганизации несостоявшейся не только корпоративных, но и унитарных юридических лиц. Вместе с этим необходимо наделить собственника имущества правом на обращение в суд с требованием о признании реорганизации несостоявшейся.
Автор полагает, что при подаче на регистрацию документов, содержащих заведомо недостоверные данные о реорганизации целесообразно исключить ограничение круга лиц, имеющих право требовать признания реорганизации несостоявшейся.
Предварительный договор в праве России и Германии
Соискатель: Полякова Валентина Эдуардовна
ВУЗ: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Научный руководитель: Грачев Дмитрий Олегович, к. ю. н.
Официальные оппоненты: Ефимова Людмила Георгиевна, д. ю. н., профессор, заведующая кафедрой банковского права МГЮУ им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
Зименкова Ольга Николаевна, к. ю. н., доцент, профессор кафедры международного частного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России
Дата защиты: 23 ноября 2015 года
На основе анализа конструкции предварительного договора в российском и немецком праве диссертант обосновывает положение о том, что право, возникающее из предварительного договора, является правом требования, но не преобразовательным (секундарным) правом. Кроме того, автор предлагает разграничивать предварительный договор и опцион — безотзывную оферту (ст. 429.2 ГК РФ). По мнению диссертанта, возникшее из предварительного договора обязательство предполагает наличие у должника обязанности, но не связанности. А заключение основного договора напрямую поставлено в зависимость от поведения должника — его согласия на заключение основного договора. При нарушении обязанности заключить договор кредитор вправе обратиться в суд за защитой нарушенного права — заявить о понуждении к исполнению обязанности заключить (но не исполнить) основной договор. Анализ немецкого и российского права позволил автору заключить, что взаимосвязь предварительного и основного договоров должна учитываться, если обстоятельства заключения предварительного договора свидетельствуют о согласии сторон на заключение основного договора.
Правовые формы и методы налогового контроля
Соискатель: Курбатов Тимур Юрьевич
ВУЗ: Финансовый университет при Правительстве РФ Научный руководитель: Соколова Эльвира Дмитриевна, д. ю. н., профессор
Официальные оппоненты: Гриценко Валентина Васильевна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры административного и муниципального права Воронежского госуниверситета
Яговкина Вита Александровна, к. ю. н., доцент кафедры государственного регулирования экономики Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Дата защиты: 18 ноября 2015 года
Работа посвящена исследованию форм и методов налогового контроля, в частности, при совершении сделок между взаимозависимыми лицами. Диссертантом предложен авторский подход к налоговой проверке как единственной форме налогового контроля, а также выработано более общее понятие «мероприятие налогового контроля». Сформулированы определения понятий «форма налогового контроля», «налоговая проверка», «мероприятие налогового контроля». Обоснована необходимость истребования налоговым органом при проведении проверки консолидированной группы налогоплательщиков документов напрямую у каждого конкретного участника группы. Кроме того, автором разработан перечень оснований для истребования оригиналов документов у налогоплательщика. Предлагается законодательно закрепить сроки на их представление, ознакомление с ними налогового органа и на их возврат. По мнению автора, для предотвращения конфликтных ситуаций при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля следует признать обязательной процедуру составления акта по итогам таких мероприятий по форме, которую он разработал.
ПросьбаОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА
ускориться
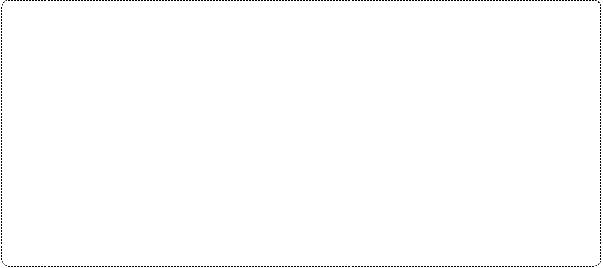
В заявлении об ускорении рассмотрения дела заявитель указал следующее: «17.06.2015 года уже было обращение с жалобой на волокиту в адрес Председателя Верховного суда РФ <...>, где для целей ускорения срока рассмотрения заявления попросили “за гешефт” для председателя суда, который на жалобы письменно молчит и по заявлениям чуть-чуть не ускоряется, “руки заняты”. Таким образом, мало-мало понимаем, что с 15.06.2015 года по 29.07.2015 года судья динамо крутила, а затем 30.07.2015 как крутанула пропеллером и мы все по делу улетели не на 10 дней, а до 09.09.2015 года <...>
Более того, по заявлению от 25.06.2015 года председатель тоже чуть-чуть не ускорился, на ручнике остался, и мы снова торчим по делу до 09.09.2015 года. Соответственно волнуемся, что бумага летом написали, а зимовать снова в горах с баранами придется и колхозный план по шерсти и мясу не выполним. На основании вышеуказанного
1. Прошу председателя суда <...> (как в кино герой камандэр Чапаев В.И. в папахе и в бурке тудам-сюдам на ананасах-бананасах) наглядно изобразить судье предельные сроки отложения судебных разбирательств по основаниям п. 5 ст. 158 АПК РФ, а затем совместно не ошибаясь произвести расчет сколько раз можно отложить судебное заседание за период с 30.07.2015 по 09.09.2015 года, и далее в ответе письменно сообщить, в какой мере превышен предельный срок отложения судебного разбирательства.
2. Прошу председателя суда <...>, с учетом неоднократности заявлений об ускорении по делу, чуть-чуть ускориться или подсуетиться на основании ч. 6 ст. 6.1. АПК РФ единолично или в дуэте с судьей.
3. Прошу председателя суда <...>, в очередном определении по делу достойно обосновывать очередной отказ в ускорении рассмотрения заявления по делу, поскольку отказ в одну фразу указывает на скудность аргументов в споре и на неумение вести полемику.
4. Прошу председателя <...>, в случае очередного отказа, самому лично возглавить рассмотрение дела, чтобы все это видели и все нам завидовали».
P. S. Арбитражный суд Иркутской области наложил на заявителя штраф в размере 2,5 тыс. руб. за неуважение к суду.
Источник: определение Арбитражного суда Иркутской области от 29.09.2015 по делу № А19-3409/2014.
ИЗМЕНЕНИЯ ГК РФ
10 полезных комментариев к новой редакции ГК РФ
Мы собрали 10 самых интересных статей, посвященных изменениям в ГК РФ, которые приняты в этом году. Наши уважаемые авторы выделяют ключевые моменты этих изменений, советуют как правильно перестроить работу, размышляют о плюсах и минусах нововведений.
Последствия расторжения нарушенного договора. Что изменилось с реформой ГК Разъяснения ВС РФ по представительству. Ключевые моменты постановления Пленума № 25
В ГК появилась норма о законных процентах по денежному обязательству. Расчет по новым правилам Кредитор взыскал с должника законные проценты. Как избежать споров с налоговой по поводу этой выплаты Положения ГК РФ о залоге. Где предел свободы договора в залоговых отношениях Новый ГК позволяет включить в договор условие о возмещении потерь. Какие риски возникают в обороте
Новеллы ГК РФ об исполнении обязательств и неустойке. Как участникам договора строить свои отношения Восстановление корпоративного контроля. Плюсы и минусы новой конструкции ГК РФ Новеллы ГК РФ об обязательствах и ответственности за их неисполнение. На что обратить внимание в первую очередь Изменение условий исполнения обязательства. Какие возможности предоставляют новеллы ГК
