
Экзамен зачет учебный год 2023 / ВЭП РФ №6 (2020)
.pdf
Свободная трибуна
Почему же, раз мы сталкиваемся с такими проблемами, нельзя поступить проще, а именно мысленно разделить отказ от иска на два волеизъявления — на отказ от процесса («процессуальное») и отказ от материального права («материальное»)? И почему, поскольку закон указывает, что отказ от иска — это основание для прекращения производства по делу, то суд должен проверять на соответствие закону только «процессуальное», но не «материальное» волеизъявление, которое тем не менее влечет материально-правовые последствия?
На мой взгляд, такой подход был бы неверным. Для того чтобы отказ от иска имел какие-либо последствия, он должен быть санкционирован судом, поскольку без такой санкции распорядительное действие ни к чему не приведет, только через санкцию суда распорядительное действие обретает жизнь. Соответственно, вопрос о том, какие именно последствия имеет отказ от иска, напрямую связан с вопросом о том, что собой представляет эта санкция суда, какова ее природа. Процессуальный закон исходит из того, что санкционирование любого распорядительного действия (отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения) одновременно влечет принятие судебного акта, однозначно определяющего судьбу процесса по делу (или прекращение производства по делу, или удовлетворение иска) и разделить эти действия суда невозможно. Следовательно, конкретные последствия совершения распорядительного действия определяются через действие судебного акта, посредством которого это распорядительное действие приобрело свое значение, а точнее, через элементы его законной силы.
По общему правилу все элементы законной силы (в случае с решением суда) или те элементы, которые могут быть присущи ввиду его природы судебному акту (в случае с некоторыми определениями суда), полностью предопределяют действие судебного акта. При этом в момент его вынесения можно точно знать, какие элементы законной силы судебный акт может потенциально приобрести, а какие никогда не приобретет. Соответственно, эффект судебного акта является неделимым в том смысле, что исключается какое-то особое, не охваченное свойством законной силы его действие.
Определение суда, которым производство по делу в связи с отказом истца от иска прекращено, обладает только свойствами исключительности и неопровержимости (в части распределения судебных расходов также и исполнимостью), и никаких других свойств оно приобрести в силу закона не может. Учитывая сугубо процессуальный характер этих свойств, никаких материально-правовых последствий отказ от иска, обретший существование в определении суда о прекращении производства по делу, влечь не в состоянии.
Таким образом, если определение о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска не может влечь материально-правовых последствий, то и суд при его утверждении не должен обращать внимание на то, что собой представляет с материально-правовой точки зрения сам этот отказ, а значит, и проверять его на соответствие положениям материального закона.
Важно при этом отметить, что суд не должен оценивать полномочия самого истца на отказ от иска с материально-правовой точки зрения (например, если считать отказ от иска односторонней сделкой, то может ли генеральный директор обще-
149
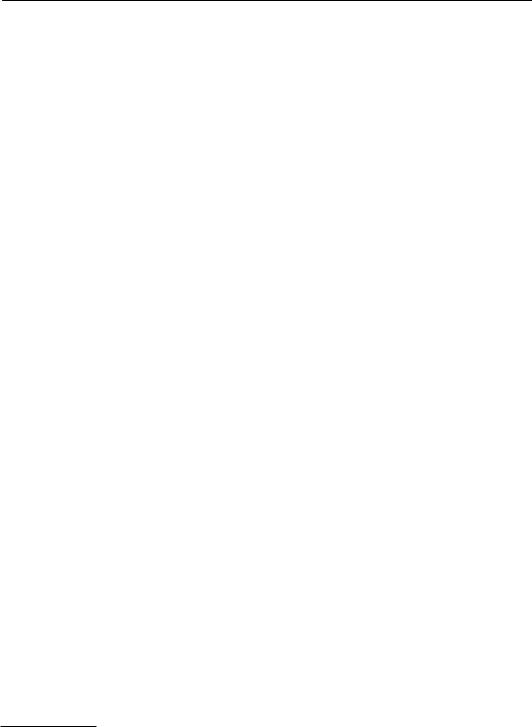
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2020
ства совершить это действие, учитывая требования закона о крупных сделках?) не только потому, что суд не проверяет отказ от иска на соответствие материальному закону. Процессуальный закон в ряде случаев требует для предъявления иска подтверждения наличия у истца (если истец обращается в защиту своих прав) субъективной заинтересованности (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ), или полномочий на подписание иска от имени организации (ч. 2 ст. 48, п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, ч. 4 ст. 59, п. 6 ч. 1 ст. 129 АПК РФ), или полномочий на подписание и предъявление иска
взащиту прав других лиц (ч. 1 ст. 46, п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, ч. 2 и 3 ст. 53 АПК РФ), что предполагает предварительную оценку судом действия по предъявлению иска в этом контексте с точки зрения норм материального права. Однако во всех остальных ситуациях на стадии предъявления иска наличие у истца права требования предполагается, а значит, суд не вправе в этот момент требовать подтверждения того, что именно истец вправе предъявлять иск с точки зрения материального права (в предложенном выше примере суд не вправе на стадии возбуждения дела проверять, может ли вчиненный генеральным директором общества иск быть квалифицирован как крупная для общества сделка и вправе ли генеральный директор предъявлять такой иск именно с точки зрения наличия у него полномочий на совершение крупных сделок). Соответственно, когда истец отказывается от иска, суд не должен проверять полномочия истца на такой отказ с материально-правовой точки зрения, если он был не вправе этого делать на стадии предъявления иска. И в том и в другом случае речь идет о наличии у лица права на предъявление иска, и если мы не проверяем возможность реализации этого права с точки зрения материального права (как бы странно это ни звучало) на стадии возбуждения дела, то мы не вправе этого делать и при реализации данного процессуального права
вдальнейшем на других стадиях процесса7.
В свою очередь, на первый взгляд кажется, что процессуальный закон не содержит каких-либо правил, на соответствие которым можно проверить отказ от иска, кроме правила о том, что если истец хочет отказаться от иска через представителя, то для этого необходимо специальное указание в доверенности представителя (ч. 1 ст. 54 ГПК РФ, ч. 2 ст. 62 АПК РФ). Однако такой вывод был бы преждевременным.
Право истца отказаться от иска представляет собой проявление принципа диспозитивности, который, как известно, состоит, в частности, в том, что только истец определяет, защищать ему или нет свое нарушенное или оспариваемое право (ч. 1 ст. 3 ГПК РФ, ч. 1 ст. 4 АПК РФ), какое исковое требование и в связи с чем предъявлять в суд (п. 4 и 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, п. 4 и 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ), к кому предъявлять иск (п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ) и в каком объеме требовать от суда защиты (ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, ч. 5 ст. 170 АПК РФ). Принцип диспозитивности, таким образом, отдает приоритет воле истца при реализации им права на судебную защиту. Однако это означает, что только от воли истца должно зависеть, отказываться или нет от проведения уже возбужденного процесса.
7На этом основании представляются необоснованными разъяснения ВАС РФ и ВС РФ о том, что к отказу от иска подлежат применению нормы гражданского права, в том числе об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью. См.: подп. 3 п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» и п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
150

Свободная трибуна
Именно поэтому отказ от иска является процессуальным правом истца (ч. 1 ст. 39 ГПК РФ, ч. 2 ст. 49 АПК РФ); как и любое другое субъективное процессуальное право, оно может реализовываться только по воле его носителя.
Соответственно, суд для того, чтобы санкционировать отказ истца от иска и придать юридические последствия такому процессуальному действию, должен удостовериться, что истец действительно желает отказаться от иска, он понимает, что он делает и к каким последствиям приведет его отказ, что его желание сформировалось и выражено свободно. Иными словами, суд должен быть уверен, что воля истца на отказ от иска сформирована правильно, выражена адекватно действительному желанию истца, что отказ истца от иска не продиктован насилием или угрозами со стороны кого бы то ни было.
Конечно, можно сказать, что для реализации любого субъективного процессуального права, раз они все являются волевыми актами8, суд должен убедиться в том, что лицо осознанно и свободно решило им воспользоваться, однако закон, в отличие от случая с распорядительными действиями, прямо нигде не указывает на необходимость проверки их на соответствие. Между тем ни у кого не вызывает сомнения тот хрестоматийный факт, что невозможно реализовать ни одного процессуального действия без санкции на то суда, и в связи с этим суд, рассматривая вопрос о том, можно ли санкционировать процессуальное действие, обязан проверить его правомерность. Следовательно, и без специального указания на необходимость такой проверки в процессуальном законе суд должен каждый раз проверять наличие у правообладателя адекватно сформированного и свободно выраженного волеизъявления на совершение процессуального действия. Наличие же такого указания в законе в случае совершения распорядительных действий носит субсидиарный характер и очевидно вызвано судьбоносным характером таких процессуальных действий.
Таким образом, ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, ч. 5 ст. 49 АПК РФ при отказе истца от иска требуют от суда проверить осуществляемый отказ на соответствие процессуальному закону, а именно в части наличия у истца свободно сформированного и адекватно выраженного желания отказаться от иска. Для того чтобы обеспечить соблюдение судом этой обязанности, процессуальный закон указывает на то, что суд должен разъяснить истцу последствия отказа от иска и убедиться, что эти последствия ему понятны (ч. 2 ст. 12, ч. 1 и 2 ст. 173 ГПК РФ, ч. 3 ст. 9 АПК РФ).
Цели ответчика, признающего иск, могут быть различными.
Ответчик может признать иск, так как понимает, что бороться против него бесполезно. Это довольно часто происходит, когда истец, игнорируя возможность заранее заявить ответчику претензию, сразу же обращается в суд и ответчик узнает о том, что он нарушил права истца, только в судебном заседании. Поскольку зачастую в подобных случаях ответчик был бы готов добровольно удовлетворить требования истца безо всякого суда, то и в судебном заседании ему нет смысла
8О том, что воля сторон, проявляющаяся в процессуальных действиях, может страдать такими же пороками, как и воля лица, совершающего сделку, см., напр.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 2003. С. 193.
151

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2020
отпираться. Ответчик может быть готов сдаться и тогда, когда истец в судебном заседании предъявляет такие доказательства, против которых разумный ответчик не в силах бороться. В этих ситуациях ответчик признает иск, чтобы сэкономить свое время и силы.
Ответчик может признать иск и совершенно для других целей, а именно для того, чтобы с помощью или в интересах истца укрепить какое-либо право или правоотношение выводом суда, содержащимся в резолютивной части судебного акта, о том, что это право или правоотношение существуют либо что выбранный истцом способ реализации данного права правомерен. Помимо этого, признание ответчиком иска может использоваться даже для легализации сомнительных с правовой точки зрения действий. Во всех подобных случаях стороны заинтересованы в вынесении решения суда с нужным им содержанием.
Поскольку принятое судом признание иска влечет удовлетворение иска, результатом подобного распорядительного действия выступает решение суда, которым исковое требование признается и которым исковому притязанию (если это иск о присуждении) придается принудительная сила. Соответственно, вступление решения суда в законную силу сообщает этому решению все элементы законной силы, а именно обязательность, преюдициальность, исключительность, неопровержимость и исполнимость.
Иначе говоря, решение суда очевидно имеет материально-правовой эффект: при удовлетворении иска спорное до процесса право становится бесспорным и судом истцу предоставляется мощное средство для преодоления с помощью государственной власти всех препятствий, мешающих реализации его права. Признание ответчиком иска становится средством, обеспечивающим придание принудительной силы требованию в том виде, в каком оно было заявлено истцом, т.е. без исследования судом всех обстоятельств дела, а значит, и без проверки судом обоснованности этого требования. Но если признание ответчиком иска влечет мате- риально-правовые последствия, не означает ли это, что суд, который, принимая признание иска и тем самым лишая себя возможности проверить обоснованность заявленного требования по существу, должен иметь право исследовать обоснованность такого признания именно с точки зрения соблюдения материального закона?
Вообще говоря, право ответчика на признание иска не может быть ограничено судом, поскольку в силу принципа диспозитивности суд не может заставить ответчика защищаться точно так же, как суд не вправе и не может заставить истца бороться за свое право и воспользоваться плодами своей победы. По самому своему существу признание иска направлено на скорейшее прекращение процесса вследствие безусловного и беспрекословного признания ответчиком наличия у истца права требования в том виде, в каком этот иск заявлен в суд, а значит, и на недопущение рассмотрения судом дела по существу с обязательной проверкой того, действительно ли у истца имеется спорное право, созрело ли оно для принудительной реализации через суд, является ли ответчик надлежащим. Если же суд при принятии признания ответчиком иска, действуя согласно ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, ч. 5 ст. 49 АПК РФ, будет проверять признание иска на соответствие материальному закону во всей его полноте, то такая проверка будет тождественна полному рассмотрению
152
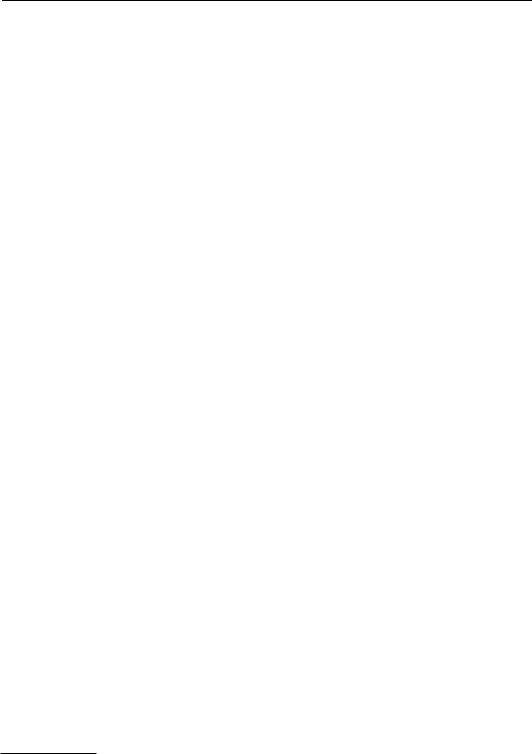
Свободная трибуна
дела по существу9. В таком случае признание иска для ответчика будет бессмысленным. Соответственно, подобное толкование права суда на проверку признания ответчиком иска расходится с предназначением самого рассматриваемого распорядительного права и целями законодателя, а потому не может быть принято.
Между тем правосудие не должно использоваться для легализации противоправных действий и создания условий обхода закона. Эти соображения предопределяют необходимость наделения суда правом все-таки проверять признание иска на соответствие материальному закону, но в определенных пределах.
Признание иска с материально-правовой точки зрения на первый взгляд может быть квалифицировано как односторонняя сделка — признание долга (понимаемое максимально широко как признание существования необходимой к исполнению обязанности выполнить то, что требует истец). Между тем суд, санкционируя признание ответчиком иска, который посредством такого процессуального действия не только отказывается от судебного разбирательства по делу, но и принимает на себя неизбежность исполнения требования истца, придает юридическое значение и тому отношению, из которого вытекает требование, удовлетворенное судом вследствие признания иска ответчиком.
Иначе говоря, суд, допуская в процессе признание ответчиком иска, что с мате- риально-правовой точки зрения равносильно признанию ответчиком долга, тем самым признает и наличие самого долга (иначе как можно признать то, чего нет?), а значит, и юридическую действительность правоотношения, в содержание которого входит признанное ответчиком требование. Следовательно, если мы говорим о праве суда проверять признание ответчиком иска, то это значит, что проверке на соответствие материальному закону должно подвергаться и отношение, из которого вытекает признанное ответчиком требование.
Если же мы откажем суду в праве проверять основания возникновения признаваемого долга, то тем самым мы откроем возможность придания юридической силы тем отношениям, которые законом лишены права на юридическое существование (например, ничтожным сделкам), ведь через принятие судом признания иска будет придаваться принудительная сила требованиям, которые иным образом вообще не могли бы реализоваться.
Нельзя забывать и то, что при предъявлении иска наличие у истца права требования и, соответственно, существование правоотношения, в содержание которого это исковое требование входит, предполагается, а значит, вполне вероятно, что в действительности оно и не существует. Это предположение должно быть проверено в ходе процесса, по итогам которого в решении суд должен сделать вывод о том, существует ли у истца заявленное в суд право требования и есть ли у ответчика обязанность его удовлетворить в настоящее время. Логика именно такая: сначала устанавливаем наличие требования, а потом — наличие у ответчика долга. При признании иска этот порядок переворачивается: вследствие признания иска мы
9На это обращают внимание множество исследователей. Для случая с мировым соглашением см., напр.: Шварц М.З. К вопросу о пределах обязательности вступивших в законную силу судебных актов. Комментарий к Постановлению Президиума ВАС РФ от 14.10.2008 № 7920/08 // Вестник ВАС РФ. 2009. № 3. С. 97.
153

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2020
должны считать, что существует и требование. Соответственно, признание иска может служить способом создания права требования, не существовавшего до и вне процесса. Метафорически выражаясь, признанное требование может рассматриваться как оферта, а признание иска — как ее акцепт. Используя такой необычный и сложный порядок, стороны не только совершают сделку, но и с помощью суда придают вытекающему из нее требованию, являвшемуся предметом иска и нашедшему отражение в резолютивной части решения суда, исполнительный характер10.
Принципиально нет возражений против такого, пускай и необычного, способа заключать и исполнять сделки11. В то же время в огромном большинстве случаев совершение сделок, их исполнение и проверка на соответствие закону разделены во времени, и само совершение или исполнение сделки не лишает сторону возможности оспаривать ее действительность. Однако при заключении (подтверждении существования) сделок в суде через признание ответчиком иска указанные действия осуществляются одномоментно. Оспорить такую сделку вне решения суда, которым она фактически подтверждается, нельзя, поскольку иное было бы нарушением установленного законом порядка оспаривания судебных актов. Следовательно, при решении вопроса о том, возможно или нет принять признание ответчиком иска, на суде лежит обязанность проверить на соответствие нормам материального закона не само по себе признание иска (как одностороннюю сделку), а все отношение, ставшее предметом судебной деятельности по данному делу, содержанием которого выступает заявленное истцом в суд и признанное ответчиком право требования. Если это отношение не соответствует закону (в широком смысле этого слова), то суд должен отказать в принятии признания иска и рассматривать дело по существу.
Говоря о проверке соответствия закону отношения, из которого вытекает признанное ответчиком требование, важно еще раз подчеркнуть, что речь не идет о том, чтобы суд устанавливал, действительно ли у истца имеется заявленное им в суд и признанное ответчиком требование, действительно ли ответчик является надлежащим, так как, повторюсь, это означало бы рассмотрение дела по существу, что обессмысливало бы само признание иска. Речь идет о том, чтобы суд, оценивая признание ответчиком иска, исходил из того, что признанное требование предположительно существует (и этого предположения нам достаточно), и перед судом стоит задача проверить, может ли этому требованию быть сообщено свой-
10Сказанное не должно пониматься в том смысле, что законная сила решения суда, которым иск был удовлетворен вследствие признания его ответчиком, в части обязательности и преюдициальности распространяется на фактический состав, с существованием которого закон связывает наличие или отсутствие соответствующего правоотношения и входящего в его содержание требования. Такой вывод мог быть сделан только в том случае, если мы могли бы предполагать, что суд пришел к тем выводам, которые нашли отражение в резолютивной части решения, только установив все те обстоятельства, с наличием которых закон связывает возникновение соответствующих правоотношений. Поскольку при признании иска такого не происходит, указанное предположение безосновательно. Подробнее см.: Ильин А.В. К вопросу о содержании преюдициальности — свойства законной силы судебного решения // Закон. 2015. № 3. С. 75–86.
11Но против этого выражался ранее, да и сейчас эмоциональный протест: «Суд не есть нотариальная контора, где заключались бы полюбовные сделки с контрагентом» (Попов Б.В. Распределение доказательств между сторонами в гражданском процессе. Харьков, 1905. С. 116). Между тем стороны могут иметь интерес в судебном подтверждении «юридической безупречности» сделки еще до ее заключения и исполнения. См. подробнее яркую работу: Мурадьян Э.М. Превентивные иски // Государство и право. 2001. № 4. С. 23–28.
154

Свободная трибуна
ство принудительности в отношении этого ответчика. Если суд придет к выводу, что отношение, из которого вытекает признанное ответчиком требование, не соответствует закону, то суд, отказывая в принятии признания иска, отказывает и в признании юридического существования такого отношения. Иначе говоря, при проверке признания иска ответчиком на соответствие закону суд работает с предположением о существовании отношения, и если в предполагаемом виде это отношение соответствует закону, то суд, удовлетворяя иск на основании признания его ответчиком, придает ему характер реально существующего.
Таким образом, суд, рассматривая вопрос о принятии признания иска, поскольку речь идет о возможности реализации права на удовлетворение иска, должен проверить отношение, из которого вытекает признанное ответчиком требование, на соответствие закону, регулирующему такие отношения (в частности, сделки). Это в полной мере относится и к проверке полномочий лиц на заключение такой сделки и реализации вытекающего из нее требования (как на выдвижение такого требования, так и на его удовлетворение (признание долга)), поскольку в ином случае признание иска служило бы возможностью обхода тех норм закона, которые устанавливают ограничения в части полномочий на совершение сделок или требуют для реализации прав из сделок получение согласия кого-либо. Если суд приходит к выводу о несоответствии сделки нормам закона как в части ее содержания, так и в отношении субъектного состава, то он должен отказать в принятии признания иска.
Поскольку признание иска, несмотря на его материально-правовой эффект, является все-таки процессуальным правом, то его реализация должна подчиняться общим правилам, касающимся совершения процессуальных действий. Так как процессуальные действия носят волевой характер, суд обязан проверять, действительно ли ответчик желает признать иск, признает ли он иск свободно, без принуждения, понимает ли последствия своего шага.
Цель мирового соглашения — прекратить производство по делу на условиях сторон. Утверждение судом мирового соглашения влечет, таким образом, сразу несколько последствий — отказ от иска (в смысле отказа от продолжения процесса по удостоверению возможности принудительной реализации через суд ранее заявленного требования) и придание юридической силы заложенным в этом соглашении мате- риально-правовым требованиям12.
С одной стороны, поскольку в каждом мировом соглашении присутствует отказ истца от иска, при его утверждении судом производство по этому иску должно быть прекращено (абз. 5 ст. 220 ГПК РФ, ч. 2 ст. 150 АПК РФ), что дает основания полагать, что заключение и утверждение мирового соглашения судом погашают право на предъявление иска. С другой стороны, при заключении мирового соглашения истец отказывается от иска не в одностороннем порядке, а на определенных согласованных с ответчиком условиях, причем они носят материально-правовой характер. Этим условиям судом сразу же должен быть сообщен принудительный характер, поскольку их исполнение заменяет для истца (а подчас и ответчика) интерес
12Выяснению вопроса о том, что собой представляет мировое соглашение, посвящен большой объем литературы. Обзор см., напр.: Елисеев Н.Г., Рожкова М.А., Скворцов О.Ю. Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / под общ. ред. М.А. Рожковой. М., 2008. С. 440–452.
155

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2020
в разрешении первоначального спора (принудительной реализации первоначально заявленных в суд требований), к которому невозможно вернуться без отмены судом решения об утверждении этого мирового соглашения. Поэтому процессуальный закон требует, чтобы мировое соглашение заключалось в отношении предъявленных в суд исковых требований (ч. 3 ст. 153.9 ГПК РФ, ч. 2.1 ст. 140 АПК РФ). Соответственно, утвержденное судом мировое соглашение порождает новые требования, которым сразу же придается принудительный характер, взамен первоначально заявленных истцом требований, которым суд мог придать принудительную силу, если бы рассмотрел дело по существу, т.е. права из мирового соглашения заменяют право на удовлетворение первоначально предъявленного иска.
Следовательно, определение о прекращении производства по делу в связи с утверждением судом мирового соглашения влечет материально-правовой эффект и обладает такими свойствами законной силы судебного решения, как обязательность, исключительность (п. 2 ч. 1 ст. 134, 221 ГПК РФ, ч. 3 ст. 151 АПК РФ), неопровержимость (ч. 11 ст. 153.10 ГПК РФ, ч. 11 ст. 141 АПК РФ) и исполнимость (ч. 2 ст. 153.11 ГПК РФ, ч. 2 ст. 142 АПК РФ). С материально-правовой точки зрения мировое соглашение может рассматриваться как отступное или новация. В связи с этим при утверждении судом мирового соглашения его условия должны быть проверены судом на соответствие материальному закону.
Говоря о проверке судом мирового соглашения на соответствие закону (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, ч. 5 ст. 49 АПК РФ), следует вновь повторить, что в данном случае не подразумевается проверка действительности самого заявленного в суд иска, от которого истец отказывается на условиях, о которых ему удалось договориться с ответчиком. Именно поэтому процессуальный закон и устанавливает, что при утверждении мирового соглашения суд исследует фактические обстоятельства спора, доводы и доказательства и дает им оценку лишь в той мере, в какой это необходимо для проверки соответствия мирового соглашения требованиям закона (ч. 7 ст. 153.10 ГПК РФ, ч. 7 ст. 141 АПК РФ); при этом при рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения при обжаловании судебного акта законность и обоснованность соответствующего акта не проверяются (абз. 2 ч. 7 ст. 153.10 ГПК РФ, абз. 2 ч. 7 ст. 140 АПК РФ). Речь идет о возможности придания юридических последствий договоренностям сторон, составляющим мировое соглашение. Без санкции суда сами стороны своими силами не могут придать соглашению, направленному на прекращение процесса взамен на что-то, юридическую силу применительно к делу, по которому это соглашение заключается, поскольку основной частью такого соглашения, без которой все другие его условия бессмысленны, является прекращение производства по делу, которое сами стороны реализовать не могут, так как это полномочие суда.
При проверке мирового соглашения суд должен определить, вправе ли стороны, наделены ли они необходимыми полномочиями на заключение мирового соглашения, а также решить, не подпадает ли мировое соглашение, трактуемое как отступное или новация, под признаки недействительности сделок. Как известно, Пленум ВАС РФ исходил из того, что суд не вправе по своей инициативе признать оспоримую сделку, положенную в основу мирового соглашения, недействительной и на этом основании не утвердить мировое соглашение (абз. 2 подп. 3 п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связан-
156

Свободная трибуна
ных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью»). По моему мнению, эта позиция ошибочна.
Невозможность для целей процесса дифференциации сделок на ничтожные и оспоримые (в смысле порочные)13 прежде всего основана на том очевидном обстоятельстве, что и те и другие являются сделками, объективно не соответствующими закону в широком смысле, а суд не вправе утвердить мировое соглашение, противоречащее закону. Если для гражданского оборота такое деление в силу понятных причин имеет значение и гражданское законодательство это учитывает, то для целей процесса все действия разделяются только на две категории — законные и незаконные (в том числе и в этом проявляется такое свойство процессуальной формы, как непререкаемость), и деление сделок, положенных в основание мировых соглашений, на ничтожные и оспоримые роли не играет. Как нотариус не имеет права удостоверять сделку, содержащую пороки, вследствие которых сделка может быть признана недействительной, так и суд должен отказать в придании юридической силы потенциальной сделке, обладающей дефектами, которые законом признаются основаниями для признания ее недействительной14.
Другой, гораздо более важной причиной является то, что сделка, положенная в основу мирового соглашения, не может быть в будущем признана судом недействительной или быть расторгнута по инициативе одной из сторон. Это полностью лишает вывод Пленума ВАС основания, поскольку в своем разъяснении он опирался лишь на то, что оспоримая сделка может быть признана недействительной только по требованию заинтересованного лица, но не по инициативе суда, а потому после вступления в силу определения суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения возможен иск о признании положенной в его основу сделки недействительной.
Действительно, если суд в будущем будет рассматривать иск о признании оспоримой сделки недействительной или о расторжении этой сделки, то он не сможет удовлетворить подобные иски, поскольку в данном случае он должен будет признать незаконным определение суда об утверждении такого мирового соглашения. Ведь если утвержденное судом мировое соглашение основано на недействительной сделке, то суд совершил ошибку — не проверил (ошибся при проверке) это соглашение на соответствие закону, а значит, объективно оно не могло быть заключено и утверждено. Однако как раз этого он сделать и не может по двум причинам. Во-первых, это повлекло бы возобновление производства по тому делу, по которому было утверждено мировое соглашение (ведь отказ от иска — это часть сделки), а на это другой
13Д.О.Тузов пишет: «Порочность характеризует сделку как ущербную саму по себе вследствие ее несоответствия правовым установлениям» (см.: Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2018. С. 361 (автор комментария к ст. 166 — Д.О. Тузов).
14Любопытно, что Д.О. Тузов, проведя прекрасный анализ вопроса о возможности нотариуса удостоверить оспоримую сделку и, в частности, совершенно справедливо указывая на то, что «проблема состоит не в том, удостоверить ли (уже совершенную) оспоримую сделку, а в том, давать ли жизнь изначально порочной сделке, которая будет оспоримой», не обратил внимания на то, что те же самые соображения применимы и к ситуации, когда суд решает задачу, утверждать или нет мировое соглашение, в основу которого положена оспоримая сделка. См.: Сделки, представительство, исковая давность. С. 371 (автор комментария к ст. 166 — Д.О. Тузов).
157

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2020
суд по другому делу законом не уполномочен. Во-вторых, это было бы нарушением установленного порядка обжалования судебных актов, так как определение о прекращении производства по делу вправе отменить либо суд кассационной или надзорной инстанции, либо суд, принявший это определение, но в рамках пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Поэтому суд, которому на утверждение в качестве мирового соглашения предложили сделку, которую он расценил как оспоримую, знает, что в случае утверждения этого мирового соглашения вследствие невозможности оспаривания в дальнейшем положенной в его основу недействительной сделки он вопреки закону позволит такой недействительной сделке влечь юридические последствия, что с точки зрения ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, ч. 5 ст. 49 АПК РФ недопустимо.
В поддержку этого вывода можно привести и уже неоднократно звучавшее процессуальное15 соображение: поскольку стороны наделены процессуальным правом на заключение мирового соглашения, то их действия, являющиеся осуществлением этого права, должны быть волевыми, т.е. желание заключить мировое соглашение на определенных в нем условиях должно сформироваться у стороны свободно, без угроз или насилия со стороны кого-либо, а суд должен убедиться, что стороны понимают смысл соглашения и вытекающие из него последствия. Если же суд придет к выводу о том, что мировое соглашение заключено сторонами под влиянием обмана, насилия, угрозы или же одна из сторон существенно заблуждается относительно существа или последствий мирового соглашения, он не должен утверждать такое мировое соглашение, поскольку это противоречило бы процессуальному закону.
Если же мы допустим возможность предъявления в суд исков о признании положенной в основу мирового соглашения оспоримой сделки недействительной или о расторжении этой сделки, то мы разрушим достигнутый при заключении мирового соглашения баланс интересов сторон.
Действительно, истец (я буду говорить об истце, поскольку именно его интересы больше всего страдают от рассматриваемого допущения, так как истец, заключающий мировое соглашение, жертвует своим правом на предъявление иска, а ответчик при этом не теряет непосредственно ничего), заключив мировое соглашение и посредством этого отказавшись от иска, имел законные ожидания относительно того, что его интерес в процессе будет удовлетворен (восполнен) через новую сделку, вытекающую из соглашения. Однако если впоследствии сделка, положенная в основу мирового соглашения, будет признана судом недействительной, то для реа-
15В литературе высказано мнение, что при оспаривании процессуальных соглашений (к числу которых относится, конечно же, и мировое), заключенных с пороками воли, должны применяться не процессуальные правила, а нормы материального права, регулирующие, по-видимому, вопросы признания сделок недействительными (см.: Елисеев Н.Г. Процессуальный договор. М., 2015. С. 146–147). Такая точка зрения основывается, по моему мнению, на неправильном представлении о невозможности оспаривания утвержденного судом с пороками воли мирового соглашения. Если принять во внимание процессуальную обязанность суда при утверждении мирового соглашения проверять наличие у соглашения пороков воли и волеизъявления (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, ч. 5 ст. 49 АПК РФ) и невозможность для целей санкционирования судом мирового соглашения деления недействительных сделок на ничтожные и оспоримые, то утверждение судом мирового соглашения с пороками воли и волеизъявления означает, что суд допустил ошибку, которая должна быть исправлена судом кассационной инстанции (ч. 11 ст. 153.10, ч. 3 ст. 379.7, ст. 390.14 ГПК РФ, ч. 11 ст. 141, ч. 3 ст. 288 АПК РФ) посредством отмены определения суда о прекращении производства по делу и направления дела на новое рассмотрение.
158
