
Экзамен зачет учебный год 2023 / ВЭП РФ №6 (2020)
.pdf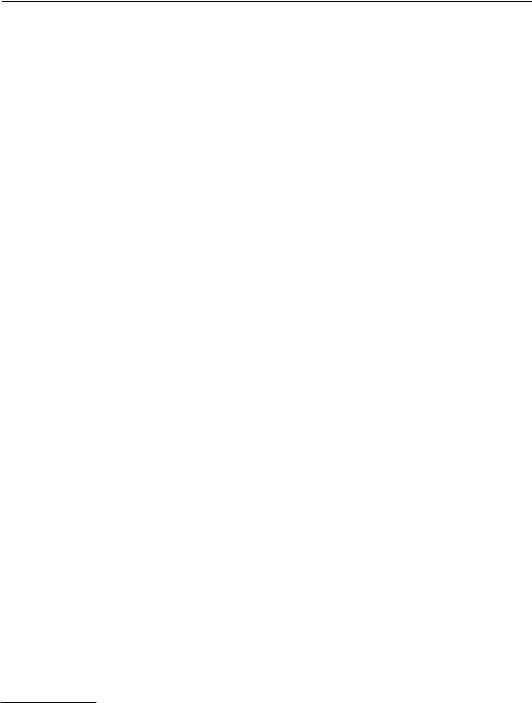
Свободная трибуна
2.3. Возможные доктринальные объяснения правомочия залогодержателя потребовать исполнения по заложенному требованию
2.3.1. Субординированная множественность кредиторов
Пункт 3 ст. 358.6 ГК РФ может пониматься как положение, устанавливающее, что залогодержателю предоставляется самостоятельное право требования к должнику. Этот постулат прямо вытекает из формулировки статьи, поскольку «право на получение исполнения» может быть реализовано вовне, прежде всего посредством предъявления соответствующего требования к должнику.
Вопреки изложенной выше позиции В.В. Витрянского, залогодержатель не обязательно должен получить правомочие требовать исполнения напрямую от должника в порядке правопреемства от залогодателя. Догматически вполне допустимо, чтобы это требование залогодержателя считалось возникшим не ввиду уступки, а в силу закона, причем в качестве самостоятельного и отдельного права, не принадлежащего ранее залогодателю, который продолжает оставаться кредитором по заложенному обязательству22.
Более того, как обоснованно указывает Р.С. Бевзенко23, то, что никакой уступки прав требований в силу п. 3 ст. 358.6 ГК РФ не происходит, прямо предопределяется п. 2 и 3 ст. 358.8, устанавливающими необходимость отдельного соглашения для перевода кредиторских прав залогодателя на залогодержателя.
Вместе с этим, несмотря на наличие фигуры залогодателя как кредитора по заложенному требованию, ввиду указанной выше необходимости сохранения обеспечительной функции залога обязательств уполномоченным получателем исполнения по заложенному требованию следует признавать исключительно залогодержателя, в то время как соответствующие права кредитора-залогодателя надлежит считать не подлежащими реализации.
Исходя из совокупности приведенных утверждений, в качестве одного из возможных объяснений происходящего можно назвать конструкцию множественности лиц на активной стороне: в рассматриваемом случае кредитором может быть назван как залогодатель (никому не уступавший свое требование к должнику), так и залогодержатель (имеющий право требовать исполнения напрямую от должника).
Здесь представляется верным отметить, что при такой интерпретации не следует вести речь о солидарной множественности кредиторов.
22См., напр.: Звоницкий А.С. О залоге по русскому праву. Киев, 1911. С. 208; Обзор догматических позиций касательно правовой природы права залогодержателя получить исполнение от должника (в том числе в исторической перспективе) см. также: Волчанский М.А. Залог обязательственных прав // Договоры и обязательства: сборник работ выпускников Российской школы частного права при Исследовательском центре частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации. Т. 3 / отв. ред. А.В. Егоров. М., 2019. С. 402–413.
23См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 399.
89

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2020
Как указано выше, должник не вправе выбирать, в чей адрес производить исполнение: последнее, исходя из существа обеспечительной функции, должно быть передано именно залогодержателю. Эта характеристика сама по себе противоречит конструкции солидаритета на активной стороне, где любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме, а до предъявления требования должник вправе исполнять обязательство любому из них по своему усмотрению (п. 1 ст. 326 ГК РФ)24.
При этом, по нашему мнению, исполнение по заложенному требованию должно производиться залогодержателю в полной мере, не будучи разделенным на доли между залогодержателем и залогодателем25, что само по себе предопределяет, что множественность кредиторов нельзя назвать также и долевой (ст. 321 ГК РФ).
По-видимому, рассматриваемая ситуация может представлять собой иной вид множественности кредиторов (мы предлагаем назвать такую множественность субординированной), в рамках которой имеется «старший» кредитор, в чей адрес должнику необходимо осуществить исполнение, и «младший», требование которого прекращается в размере исполненного старшему кредитору.
Представляется, что объяснение п. 3 ст. 358.6 ГК РФ при залоге прав требований через субординированную множественность кредиторов не противоречит п. 1 ст. 358.8, поскольку, на наш взгляд, ни один из конститутивных признаков данной конструкции (как, впрочем, и конструкции солидаритета) автоматически не делает для залогодержателя невозможной реализацию заложенного требования посредством продажи с торгов.
Здесь необходимо учитывать следующее.
А. Сам по себе факт наличия множественности лиц на активной стороне не говорит о существовании единого обязательства между должником, залогодателем и залогодержателем. Напротив, представляется верным, что при соответствующей множественности лиц в обязательстве есть несколько отдельных обязательств (в данном случае — между (1) залогодателем и должником и (2) залогодержателем и должником), которые имеют специфическую правовую связь26. При этом вполне допустимо считать, что данные обязательства, хотя и связаны между собой, могут иметь разные основания возникновения и самостоятельную судьбу27. В этом смысле возможно исходить из того, что залогодержатель реализует с торгов именно заложенное право требования залогодателя (существующее в рамках отноше-
24Аналогичное описание солидарных требований в качестве зеркального воспроизведения правил о пассивной солидарности характерно для большинства национальных и наднациональных актов. См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 172–173 (автор комментария к ст. 326 ГК РФ — А.А. Павлов).
25Исполнение, полученное сверх величины основного обязательства, должно быть передано залогодателю как superfluum (hyperocha) — аналогично абз. 2 п. 3 ст. 334 ГК РФ.
26См.: Тололаева Н.В. Пассивные солидарные обязательства: российский подход и континентально-евро- пейская традиция: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. С. 48.
27См.: Там же. С. 53.
90
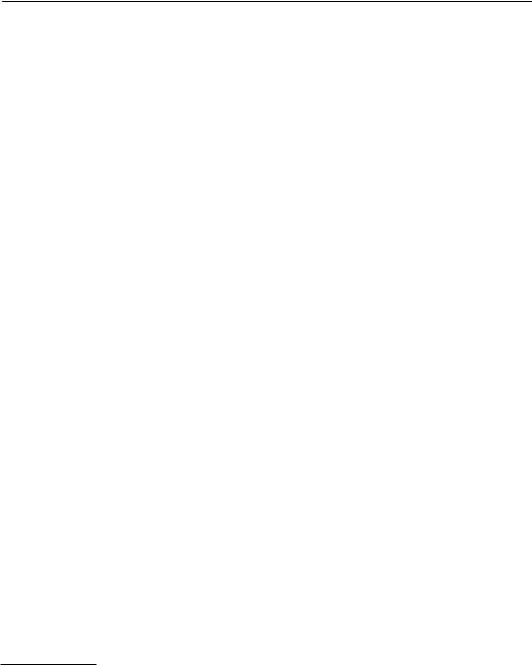
Свободная трибуна
ний последнего с должником), а не собственное право требования по отношению к должнику.
В свою очередь, собственное требование залогодержателя к должнику является акцессорным, существуя лишь постольку, поскольку установлен залог и имеется цель обеспечить исполнение основного обязательства. При этом, как указано выше, существо данного права требования состоит лишь в том, чтобы служить залогодержателю инструментом извлечения ценности из предмета залога28. Исходя из изложенного, в случае продажи требования залогодателя с торгов залог прекращается (подп. 4 п. 1 ст. 352 ГК РФ), ценность из имущества (в виде полученной покупной цены) считается извлеченной, что в силу существа правоотношений прекращает и собственное требование залогодержателя к должнику.
Таким образом, само по себе наличие множественности кредиторов (и соответствующее объяснение прав залогодержателя потребовать исполнение напрямую с должника) не входит в противоречие с правомочием залогодержателя реализовывать заложенные права с торгов.
Б. Даже если исходить из того, что множественность лиц в обязательстве предполагает существование единого обязательства между должником и всеми кредиторами, это также автоматически не означает невозможности продажи залогодержателем заложенного права требования с торгов.
Вчастности, доктринально вполне допустима ситуация, при которой правообладатель актива является его залогодержателем29. В этом смысле, на наш взгляд, сам по себе статус правообладателя актива (в рассматриваемом случае — кредитора по обязательству) с учетом существа конструкции безусловным образом не предполагает, что такой кредитор одновременно не может быть залогодержателем и не способен обладать правомочиями по реализации имущества посредством его продажи с торгов.
2.3.2.Замещающее представительство
Вкачестве альтернативно возможного (и вполне последовательного) объяснения правомочия залогодержателя получать исполнение по заложенному требованию можно привести позицию о том, что залогодержатель права, истребующий имущество от должника залогодателя, действует в этом качестве как законный представитель последнего30. При этом такое представительство имеет замещающий
28См.: Новиков К.А. Указ. соч. С. 87–88; Егоров А.В. Залог в силу ареста: теоретические и практические проблемы. В России и за рубежом // Вестник экономического правосудия РФ. 2016. № 9 (приводится по СПС «Консультант Плюс»).
29См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2009. С. 218; Гражданское право Германии: хрестоматия избранных произведений Франца Бернхевта и Йозефа Колера / сост. Р.С. Куракин, Е.В. Семенова; пер. с нем. проф. В.М. Нечаева. М., 2014. С. 119–120.
30Данная позиция широко распространена в немецкой доктрине. См., напр.: Wieling H.J. Sachenrecht. Band 1 Sachen, Besitz und Rechte an beweglichen Sachen. 2. Auflage. Berlin — Heidelberg, 2006. S. 785; Palandt O. Kommentar zum BGB. 77. Aufl. München, 2018. § 1282. Rn. 2.
91

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2020
характер: залогодатель после нарушения основного обязательства уже не вправе истребовать в свою пользу причитающееся от должника исполнение31. В случае же если должник залогодателя произведет тому исполнение, оно не будет освобождать должника от обязательства, за исключением ситуаций, когда он добросовестно полагал, что осуществлять исполнение следует в пользу залогодателя32.
Подобное представительство с замещающим эффектом нельзя назвать неизвестным институтом для отечественного ГК. В частности, его проявление можно обнаружить в конструкции договора управления залогом: в силу прямого указания ст. 356 ГК РФ после заключения договора управления залогом осуществлять права от имени залогодержателей уполномочен исключительно управляющий залогом — сами кредиторы не вправе реализовывать свои права и обязанности залогодержателей (абз. 4 п. 1 ст. 356 ГК РФ).
3. Особенности применения п. 3 ст. 358.6 ГК РФ при банкротстве залогодателя
Одним из существенных моментов, которые вызывают особый интерес при обсуждении любого института обеспечения обязательств (в том числе залога обязательственных прав), является вопрос о том, каким образом соответствующее обеспечение будет помогать кредитору удовлетворить свои требования в банкротстве.
Применительно к настоящей статье данный вопрос имеет следующее преломление: вправе ли залогодержатель при банкротстве залогодателя самостоятельно взыскать исполнение с должника по заложенному требованию в общем порядке, предусмотренном п. 3 ст. 358.6 ГК РФ?
На наш взгляд, ответ должен быть отрицательным.
Вчастности, в соответствии со ст. 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) залогодержатель при банкротстве залогодателя не вправе претендовать на всю ценность заложенного имущества, часть из которой подлежит изъятию для удовлетворения требований кредиторов первой и второй очереди, а также для погашения судебных расходов банкрота, расходов по выплате вознаграждения арбитражному управляющему и оплаты услуг лиц, привлеченных последним в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей.
Всвязи с этим для минимизации рисков нарушения соответствующих прав кредиторов в деле о банкротстве необходимо признать исключительно за банкротом
31См.: Prütting H., Wegen G., Weinreich G. Op. cit. Rn. 2 (G. Nobbe).
32См: Erman BGB. § 1282. Rn. 5 (Michalski L.). Представляется, что аналогичное исключение имеет место и при объяснении правомочий залогодержателя через конструкцию множественности лиц на активной стороне, поскольку в обеих ситуациях в одинаковой мере необходимо защищать должника, без согласия которого происходит вмешательство в его обязательственные отношения.
92

Свободная трибуна
право на получение исполнения от должника с тем, чтобы залогодержатель не приобретал 100% ценности из предмета залога в обход конкурсной массы банкрота, игнорируя права иных кредиторов.
В отечественной практике можно обнаружить аналогичную позицию судов, которые в ситуации банкротства залогодателя со ссылкой на ст. 133, 138 Закона о банкротстве отмечали недопустимость удовлетворения требований залогодержателя напрямую должником в порядке п. 3 ст. 358.6 ГК РФ33.
Представляется, что с учетом вышеназванного посыла удовлетворение интересов залогодержателя при банкротстве залогодателя должно осуществляться следующим образом.
Вслучае залога неденежного требования, как это происходит и в рамках общего ординарного регулирования, собственность на исполненное получает залогодатель, а залогодержателю предоставляется залоговое право на предмет исполнения34. Такой замещающий предмет, обремененный залогом, подлежит реализации в общем порядке, предусмотренном ГК РФ и Законом о банкротстве. При этом, в отличие от общего регулирования п. 3 ст. 358.6 ГК РФ, залогодержатель при банкротстве залогодателя не вправе получать владение предметом исполнения по заложенному требованию. Данная позиция прямо согласуется с абз. 2 п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя». Аналогичное решение применяется при удержании ретентором вещи банкрота35.
Всвою очередь, в случае залога денежного требования при получении соответствующих денежных средств от должника конкурсный управляющий залогодателя согласно нормам ст. 138 Закона о банкротстве и абз. 5 п. 2 ст. 334 ГК РФ обязан в приоритетном порядке направить бóльшую часть полученного36 в адрес залогодержателя.
Здесь следует отметить, что, как показывает практика ВС РФ37, при залоге денежных требований приоритет на удовлетворение своих требований, установленный абз. 5 п. 2 ст. 334 ГК РФ, устраняется правилом подп. 3 п. 2 ст. 345 ГК РФ, конста-
33См., напр.: постановление Тринадцатого ААС от 28.07.2016 № 13АП-14722/2016 по делу № А565747/2016, оставленное без изменения постановлением АС Северо-Западного округа от 26.10.2016 № Ф07-9504/2016 (определением ВС РФ от 28.02.2017 № 307-ЭС16-21336 в передаче дела на рассмотрение Судебной коллегией по экономическим спорам отказано).
34См.: Волчанский М.А. Конкуренция прав залогодержателей на получение исполнения с должника по заложенному требованию при его последующем залоге. С. 151.
35См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 27.06.2019 № 301-ЭС19- 2351 по делу № А82-25746/2017.
36По общему правилу ст. 138 Закона о банкротстве — 70% полученных от должника денежных средств или 80%, если залог обеспечивает требования по кредитному договору. При отсутствии требований кредиторов первой и второй очереди залогодержателю подлежит уплата 90 или 95% от полученного.
37См.: определение ВС РФ от 17.10.2016 № 305-ЭС16-7885 по делу № А40-57347/2015.
93

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2020
тирующим, что при залоге денежных обязательств принцип замещения38 не действует. В связи с этим для получения залогодержателем преимущественного удовлетворения из переданных должником залогодателю денежных средств последние должны быть перечислены на специальный залоговый счет39.
Если исходить из такой практики ВС РФ как из неизбежно имеющейся данности, то при банкротстве залогодателя его конкурсный управляющий в соответствии с п. 4 ст. 20.3, ст. 138 Закона о банкротстве должен открыть специальный счет для получения соответствующего исполнения от должника.
Между тем, на наш взгляд, исходный посыл ВС РФ о том, что в банкротстве приоритет, установленный абз. 5 п. 2 ст. 334 ГК РФ, будет сохраняться лишь при поступлении денег на специально открытый счет банкрота, является неочевидным.
Хотя правила п. 2 ст. 334 ГК РФ нигде не содержат упоминания о том, что «преимущественное удовлетворение за счет определенного имущества» (страхового возмещения, денежного возмещения залогодателю за изъятый предмет залога, переданного по заложенному обязательству имущества и т.д.) означает установление в отношении этого имущества залога, ряд авторитетных авторов поддерживают именно такую точку зрения40.
Данный подход, по-видимому, приводит к коллизии со специальными правилами регулирования залога обязательственных прав (подп. 3 п. 2 ст. 345 ГК РФ), где из-под действия экспансии залога прямо исключаются денежные средства (что и было отмечено ВС РФ).
Кроме того, распространение на подобные случаи экспансии залога может быть воспринято отрицательно с догматической точки зрения ввиду противоречия такого подхода принципу специалитета (специальности), который подразумевает, что вещное право может быть установлено только в отношении обособленного и индивидуализированного имущества41. Из этого можно сделать вывод (на чем, по-видимому, и основывался ВС РФ), что в случае поступления на обычный расчетный счет залогодателя денежных средств (суммы страхового возмещения, возмещения за изъятие для государственных нужд и т.д.) последние не могут быть автоматически обременены залогом, поскольку отсутствует возможность их обо-
38«Принцип замещения» (Surrogationsprinzip) означает, что исполненное должником в рамках заложенного требования становится новым предметом залога. См.: Wieling H.J. Op. cit. S. 783.
39Подробный комментарий к этому делу см.: Бевзенко Р.С., Ястржембский И.А. Ускользнувшая ценность. Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 17.10.2016 № 305-ЭС16-7885 // Вестник экономического правосудия РФ. 2016. № 12 (приводится по СПС «КонсультантПлюс»).
40См.: Там же. См. также: Бевзенко Р.С. Борьба за залог: третий этап реформы залогового права России // Вестник гражданского права. 2015. № 2 (приводится по СПС «КонсультантПлюс»).
41См.: Плешанова О.П. Эластичность vs специальность залога. Реплика по поводу комментария Р.С. Бевзенко и И.А. Ястржембского к определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 17.10.2016 № 305-ЭС16-7885 // Вестник экономического правосудия РФ. 2017. № 1 (приводится по СПС «КонсультантПлюс»).
94

Свободная трибуна
собить от иных денежных средств должника, т.е. их нельзя идентифицировать в качестве индивидуально-определенного объекта.
Между тем, по нашему мнению, существует иное объяснение п. 2 ст. 334 ГК РФ, которое позволяет избежать возможного противоречия этого правила с принципом специальности и согласовать на первый взгляд противоречащие друг другу нормы п. 2 ст. 334 и подп. 3 п. 2 ст. 345.
Думается, что установленный п. 2 ст. 334 ГК РФ приоритет может означать не экспансию залога, а просто возникновение привилегии. Привилегия представляет собой право, которое подразумевает наделение субъекта правомочиями исключительного характера, позволяющими получить определенные преимущества. Такая исключительность и составляет основной признак привилегии42. Одной из возможных классификаций привилегий является их деление на личные (персональные) и вещные43. Первые предоставляются непосредственно лицу и принадлежат ему без всякого отношения к вещи; вторые связываются с какой-либо вещью и принадлежат лицу именно по его отношению к ней. Вместе с этим при установлении реальной привилегии последняя сообщается не самой вещи, одаряя ее правом, а лицу, собственнику или субъекту какого-либо другого вещного права44.
Учитывая вышесказанное, можно рассматривать указания п. 2 ст. 334 ГК РФ как положения закона, устанавливающие в пользу залогодержателя реальную привилегию (а не именно залог), которая позволяет ему преимущественно перед иными кредиторами получить удовлетворение из имущества.
Такое толкование, как видится, примиряет п. 2 ст. 334 и подп. 3 п. 2 ст. 345 ГК РФ, позволяя констатировать, что, хотя в силу ст. 345 на денежные средства не распространяется экспансия залога, последние могут быть взысканы в преимущественном порядке ввиду наличия у залогодержателя предоставляемой законом соответствующей привилегии (п. 2 ст. 334). При этом для привилегии не имеет конститутивного значения индивидуализированное обособление объекта, что исключает доктринальные противоречия с принципом специальности при объяснении п. 2 ст. 334.
Между тем следует заметить, что в настоящее время практическая реализация прав по такой привилегии предполагается именно при банкротстве залогодателя. В иных ситуациях обеспечить реализацию привилегии при существующем регулировании затруднительно. К примеру, денежные средства, находящиеся на обычном расчетном банковском счете залогодателя и подлежащие передаче залогодержателю в преимущественном порядке, могут быть списаны любым заинтересованным лицом в рамках исполнительного производства или соответствующим налого-
42См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. Ч. 1. М., 1997 (приводится по СПС «КонсультантПлюс»).
43См.: Эннекцерус Л., Кипп Т., Вольф М. Курс Германского гражданского права. Т. 1 / пер. с нем. И.Б. Новицкого, Г.Н. Полянской и В.А. Альтшулера; под ред. Д.М. Генкина и И.Б. Новицкого. М., 1950. С. 163.
44См.: Мейер Д.И. Указ. соч.
95

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2020
вым органом. При этом банку не требуется согласие обладателя привилегии на осуществление операций с обычного счета залогодателя, в связи с чем приоритет обладателя привилегии фактически не обеспечивается, денежные средства, из которых подлежит удовлетворение, не будут находиться в зоне контроля кредитора и реализация привилегии в таком случае неосуществима.
Однако констатация наличия привилегии, на наш взгляд, может однозначно позволить залогодержателю получить удовлетворение своих требований в преимущественном порядке при банкротстве залогодателя. Эта возможность обусловлена тем, что все финансовые потоки банкрота курируются конкурсным управляющим и расходуются им исключительно на основании закона (исходя в том числе из очередности требований кредиторов и установленных законодательством приоритетов). Конкурсному управляющему не требуется в обязательном порядке иметь специально открытые на банкрота счета, чтобы приоритетно погасить конкретную задолженность перед определенными лицами (кредиторами) за счет конкурсной массы.
С учетом этого можно полагать, что даже без открытия специального залогового счета кредитор-залогодержатель в силу абз. 5 п. 2 ст. 334 ГК РФ и ст. 138 Закона о банкротстве будет иметь возможность в конкурсном производстве при содействии арбитражного управляющего получать в приоритетном порядке удовлетворение из приходящего банкроту денежного исполнения по заложенному требованию. При этом не принципиально, чтобы удовлетворение было осуществлено именно за счет тех самых перечисленных должником по заложенному требованию средств: после поступления последних в конкурсную массу банкрота достаточно лишь определить размер, в котором требование залогового кредитора будет погашаться за счет конкурсной массы преимущественно перед требованиями иных кредиторов (с исключениями, предусмотренными Законом о банкротстве). Аналогичная позиция фактически уже закреплена в п. 22.1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58.
4. Выводы
Резюмируем вышесказанное:
1)одной из главных особенностей института залога обязательств является предоставление залогодержателю полномочия в случае нарушения основного обязательства получить исполнение по заложенному требованию напрямую от должника залогодателя (п. 3 ст. 358.6 ГК РФ). При этом отечественный ГК не содержит четких правил, предусматривающих последствия нарушения должником обязанности по осуществлению исполнения в адрес залогодержателя. Среди представителей отечественной доктрины также нет единого понимания нормы п. 3 ст. 358.6 ГК РФ;
2)буквальное толкование п. 2, 3 ст. 358.6 и п. 1 ст. 358.7 ГК РФ приводит ряд судов к выводу о том, что в случае нарушения названного права залогодержателя по-
96

Свободная трибуна
следнему предоставляется исключительно возможность осуществить акселерацию долга (п. 1 ст. 358.7 ГК РФ) или потребовать от залогодателя перечислить полученное исполнение в счет основного обязательства (п. 2 ст. 358.6 ГК РФ)45;
3)вышеизложенное толкование п. 2, 3 ст. 358.6 и п. 1 ст. 358.7 ГК РФ не является обоснованным, поскольку противоречит существу института залога требований как способа обеспечения обязательств, позволяя должнику и залогодателю беспрепятственно нарушить п. 3 ст. 358.6, произвольно лишив залогодержателя соответствующего залогового обеспечения;
4)для защиты прав залогодержателя и соблюдения логики регулирования института залога требований при толковании п. 2, 3 ст. 358.6 и п. 1 ст. 358.7 ГК РФ следует признавать за залогодержателем право в принудительном порядке истребовать напрямую с должника залогодателя исполнение по заложенному требованию. С целью последовательного и полноценного проведения такого решения исполнение должника, произведенное в пользу залогодателя при игнорировании указаний п. 3 ст. 358.6 ГК РФ, по общему правилу не должно влечь прекращение заложенного обязательства ввиду надлежащего исполнения (ст. 408 ГК РФ). Данное правило имеет эффект в отношении должника только при его надлежащем уведомлении о состоявшемся залоге и о необходимости исполнять обязательство в адрес залогодержателя;
5)догматическим объяснением правомочия залогодержателя требовать исполнения по заложенному обязательству может служить конструкция множественности лиц на стороне кредиторов, которыми можно считать залогодателя и залогодержателя. При этом рассматриваемая ситуация не подпадает ни под долевую, ни под солидарную множественность лиц, что предопределяет необходимость введения нового понятия «субординированная множественность кредиторов». В рамках последней на получение исполнения от должника уполномочен исключительно «старший» кредитор (залогодержатель), после исполнения которому в сообразном объеме уменьшаются требования «младшего» кредитора (залогодателя);
6)альтернативным догматическим объяснением права залогодержателя требовать исполнения по заложенному требованию может служить институт замещающего представительства, в соответствии с которым залогодержатель, будучи законным представителем залогодателя, вправе от имени последнего требовать исполнения по заложенному обязательству. При этом такое представительство носит замещающий эффект: залогодатель самостоятельно не вправе осуществлять те же полномочия, которые были сообщены залогодержателю;
7)при банкротстве залогодателя для минимизации рисков нарушения прав кредиторов необходимо признать исключительно за банкротом право на получение исполнения от должника, чтобы залогодержатель не приобретал 100% ценности из предмета залога в обход конкурсной массы банкрота, игнорируя права иных кредиторов. При этом представляется, что удовлетворение интересов залогодержателя требования должно происходить следующим образом:
45Если речь идет о правоотношениях при залоге денежных требований, в рамках которых должник вопреки указаниям п. 3 ст. 358.6 ГК РФ осуществляет исполнение в адрес залогодателя.
97

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2020
–при залоге неденежного требования собственность на исполненное получает залогодатель, а залогодержателю предоставляется залоговое право на предмет исполнения. Новый предмет залога подлежит реализации в общем порядке, преду смотренном ГК РФ и Законом о банкротстве. При этом, в отличие от общего регулирования п. 3 ст. 358.6 ГК РФ, залогодержатель при банкротстве залогодателя не вправе получать владение на предмет исполнения по заложенному требованию;
–при залоге денежного требования залогодержателю предоставляется привилегия на приоритетное получение в свой адрес большей части из исполненного по заложенному требованию. При этом не является обязательным, чтобы удовлетворение было осуществлено именно за счет тех самых перечисленных должником по заложенному требованию средств: после поступления последних в конкурсную массу банкрота достаточно лишь определить размер, в котором требование залогового кредитора будет погашаться за счет конкурсной массы преимущественно перед требованиями иных кредиторов.
References
Bevzenko R.S. Struggle for Pledge: Third Stage of Russian Pledge Law Reform [Borba za zalog: tretiy etap reform zalogovogo prava Rossii]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2015. No. 2. P. 8–50.
Bevzenko R.S., Yastrzhembskiy I.A. Elusive Value. Case Comment on the Judgment of RF SC No. 305-ЭС16-7885, 17 October 2016 [Uskolznuvshaya tsennost’. Kommentariy k opredeleniyu Sudebnoi kollegii po ekonomicheskim sporam VS RF ot 17.10.2016 № 305-ES16-7885]. The Herald of Economic Justice of the Russian Federation [Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiiskoi Federatsii]. 2016. No. 12. P. 4–15.
Egorov A.V. Charge by Court Order: Theoretical and Practical Problems. In Russia and Abroad [Zalog v silu aresta: teoretichaskie i prakticheskie problemy. V Rossii i za rubezhom]. The Herald of Economic Justice of the Russian Federation [Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiiskoi Federatsii]. 2016. No. 9. P. 84–103.
Egorov A.V. Pledge of Receivables. How to Use This Type of Security [Zalog prav trebovaniya. Kak ispolzovat’ etot sposob obespecheniyat sposob obespecheniya]. Arbitrazh Practice for Lawyers [Arbitrazhnaya praktika dlya yuristov]. 2014. No. 11. P. 30–37.
Enneccerus L., Kipp T., Wolf M. Course on German Civil Law [Kurs germanskogo grazhdanskogo prava]. Moscow, Izdatelstvo inostrannoi literatury, 1950. 483 p.
Grishaev S.P., Bogacheva T.V., Svit Yu.P. Article-by-Article Commentary to the Civil Code of the Russian Federation.
Part One [Postateynyi kommentariy k Grazhdanskomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii. Chast’ pervaya]. Available at ConsultantPlus.
Karapetov A.G., ed. Law of Contracts and Obligations (General Part): Article-by-Article Commentary to Articles 307–453 of the Civil Code of Russian Federation [Dogovornoe i obyazatel’stvennoe pravo (obshaya chast’): postateinyi kommentarij k stat’yam 307–453 Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii]. Moscow, Statut, 2017. 1120 p.
Meyer D.I. Russian Civil Law [Russkoe grazhdanskoe pravo]. 2 Parts. Part 1. Moscow, Statut, 1997. 290 p.
Novikov K.A. Some Issues of Pledge of Receivables [Nekotorye voprosy zaloga imuschestvennykh trebovaniy]. Statute [Zakon]. 2011. No. 6. P. 86–96.
Palandt O. Kommentar zum BGB. 77. Aufl. Muenchen, C.H. Beck, 2018. 3280 s.
Pleshanova O.P. Pledge of Substitute Assets: Flexibility vs Limitation of Extension. A Reply to the Case Comment by R.S. Bevzenko and I.A. Yastrzhembskiy on the Judgment of RF SC No. 305-ЭС16-7885, 17 October 2016 [Elastichnost vs spetsialnost’ zaloga. Replika po povodu kommentariya R.S. Bevzenko i I.A. Yastrzhembskogo k
opredeleniyu Sudebnoi kollegii po ekonomicheskim sporam VS RF ot 17.10.2016 № 305-ES16-7885]. The Herald of Economic Justice of the Russian Federation [Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiiskoi Federatsii]. 2017. No. 1. P. 4–8.
Pokrovskiy I.A. Main Problems of Civil Law [Osnovnye problemy grazhdanskogo prava]. Moscow, Statut, 2009. 352 p.
Pruetting H., Wegen G., Weinreich G. Kommentar zum Buergerlichen Gesetzbuch. 4. Auflage. Muenchen, Luchterhand, 2009. 3624 S.
98
