
Alikberov_A_K_Bobrovnikov_V_O_Bustanov_A_K_Rossiyskiy_islam_Ocherki_istorii_i_kultury
.pdf
ГЛАВА XI. СОВРЕМЕННЫЙ ИСЛАМ И ПОЛИТИКА |
391 |
3. «Традиционный ислам» Валиуллы Якупова
минов из этой среды уже вошло в обиход). Якупов постоянно на- зывает религиозных исламских лидеров «служителями культа»,
«священнослужителями» и «духовенством»; а саму религию
— «религиозным культом»1. Подобные советские отсылки про-
являются и во фразах «мусульманское сектантство», «ересь», «раскольнические секты», «культовые здания» и «активы при
мечетях». Вся перечисленная терминология была характерна для официальных документов и заявлений советских муфтиятов и ор- ганов, стоявших выше; для подобных терминов характерно то, что они обозначают не религию (религиозную догму, религиозные практики и опыт), а в очень сухой форме — управление и контроль государства над религией. Подобная терминология также присутс- твует и в антирелигиозной литературе советского периода2. Заим- ствования Якупова не случайны: как упомянул один из его коллег в нашем интервью, в годы «перестройки» мусульмане России изу- чали советскую атеистическую и антирелигиознуюлитературу, для того чтобы получить информацию об основах своей веры3.
Другие термины в работах Якупова являются результатом «христианизации» исламских концептов; временами они встреча- ются там, где ожидаемо татарское влияние. Подобные элементы мы в обилии наблюдаем в следующем фрагменте:
«Татары понимают преференцию коллективной дуа, ко- торая творится на всех наших межлисах и после всех сов- местных намазов. Ведь там, где коллективно поминается Бог, там Его благодать. Вся обрядовая система татар осно- вананаэтихсоборныхдуа, соборностьжетатарукрепляла коллективную солидарность и позволила выжить нашему народу, несмотря на многие геноциды»4.
Здесь и «богопоклонение», и «соборно», и «благодать» явно заимствованы из лексикона РПЦ. Здесь же «молитва» не «совер- шается» или «читается», как было бы у других татарских авто- ров5, а «творится», что говорит о христианском происхождении (в исламской терминологии нет аналога подобному выражению). Важно и то, что «дуа», встречающаяся у Якупова, ближе по транс-
1Якупов В. Ислам в Татарстане в 1990-е годы. Казань, 2005. С. 4, 6, 26; Якупов В. Анти-ислам. Казань, 1427/2006. С. 4.
2Например: Популярные лекции по атеизму. М., 1962. С. 250–274.
3Интервью А.К. Бустанова с Наилем Гариповым. Казань, 14 января 2013.
4Якупов В. Анти-ислам. Казань, 1427/2006. С. 29.
5ПриэтомЯкуповиспользуеттатарскоевыражение«читатьнамаз» ивдругихсвоих публикациях. Ср: Якупов В. Ислам в Татарстане в 1990-е годы. Казань, 2005. С. 32; Якупов В. Мера ислама. Казань, 1425/2004. С. 4.

392
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМ  Очерки истории и культуры
Очерки истории и культуры
литерации к академической форме — «ду’а», нежели к татарской «дога». Термины, ведущиесвоепроисхождениеилиотносящиесяк русскому слову «собор», обрели популярность в русских исламских текстах; Якупов использует выражение «соборная мечеть» вместо арабского «джум‘а» мечеть. Принцип «соборности» ислама, его «истинного коллективизма»1 (вновь, вероятно, заимствование из марксистской лексики) в работах Якупова подчеркивается, что лишь один из видов ислама является истинным (таким образом, исключая салафитов, которые совершают молитву в немного иной манере, поднимая руки более одного раза)2.
Всвоихпопыткахнайтиподходящиерусскиетермины(вслово- сочетаниях вроде «исламская ортодоксия» или «общепризнанный шари‘ат»3. Якупов делает свой стиль похожим на стиль извест- ного московского имама Шамиля Аляутдинова, который в своих проповедяхвзываетк«канонам» ислама, авсвоихработахпредла- гает «канонически» одобренные богословские решения. Эти выра- жения, взятые из христианского контекста, предназначены для за- мены арабского термина «иджма‘», т.е. «согласие» мусульманских ученых по определенному вопросу. Использование слова «канони- ческий» вместо«согласие» изменяетсмысл— правовоерешениепо вопросу становится законом, которого нельзя избежать — как один «верный» путь ислама на все времена, тогда как «согласие» под- черкивает возможность для обсуждения. Для обоих авторов подоб- ный выбор естествен: Шамиль Аляутдинов адресует свой перевод Корана тем, кто «говорит и думает на русском языке»4, а Валиулла Якупов использует аналогии с христианством с целью сделать про- блемы ислама более доступными для понимания «читателя, полу-
чившего образование в христианоцентричном образовательном
1Якупов В. Анти-ислам. Казань, 1427/2006. С. 29.
2«Соборность коллективного намаза достигается в том числе одинаковостью поз и жестов, т.к. только гармоничная одномоментность движений — поз и жестов в намазе усиливает возникновение у присутствующих однородных эмоций, в резуль- тате чего и возникает мощный эффект соборности, резонансно неизмеримо увели- чивающий благодатность творимого богопоклонения. Ваххабиты же резко ослаб- ляют этот соборный эффект наших молитв бестолковым мельтешением ненужных дополнительных жестов. Вот почему нам желательно сохранение народа в рамках одной мазхабной культуры — в этом случае благолепие намаза, его чинная возвы- шенностьиприемлемостьБогомгораздовышеиэффективнее». Цит. покн.: Якупов В. Анти-ислам. Казань, 1427/2006. С. 30.
3Якупов В. Анти-ислам. Казань, 1427/2006. С. 6; Якупов В. Ислам в Татарстане в
1990-е годы. Казань, 2005. С. 33.
4См. подзаголовок его книги: Аляутдинов Ш. Священный Коран: Смыслы. Бого- словский перевод. СПб., 2012.
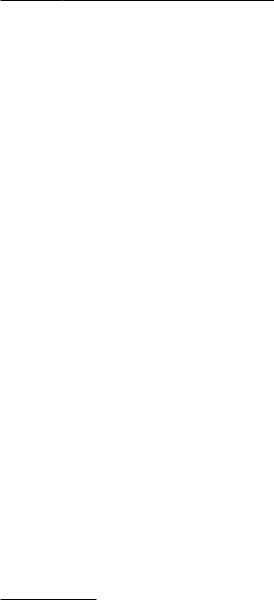
ГЛАВА XI. СОВРЕМЕННЫЙ ИСЛАМ И ПОЛИТИКА |
393 |
3. «Традиционный ислам» Валиуллы Якупова
пространстве»1. Оба автора без труда ссылаются на неисламских авторов, включая классиков русской литературы (Чехов и Толстой для Аляутдинова, Салтыков-Щедрин для Якупова) и европейских социологов. Но несмотря на то, что оба автора схожи по стилю, они придерживаются разных мнений: Аляутдинов неоднократно отри- цал идею особенного «татарского ислама», так близкого Якупову. В ответ на заданный нами вопрос о том, считает ли Якупов Аляут- динова одним из лидеров мусульман России, он ответил отрица- тельно2. Этоподтверждаетнашенаблюдение, приведенноевыше— оппонентыврамкахисламскогодискурсачастоиспользуютсхожие лингвистические приемы для того, чтобы их понимала не только их аудитория, но и противники. Более того, совместное использо- вание конкретного русско-исламского стиля или его варианта под- держивает целостность всего исламского дискурса3.
Переключение кодов на «арабизмы»
Несмотря на то, что Якупов особое внимание уделяет перево- ду арабских терминов на русский (например, «этот мир» вместо арабского «дунйа», «запретное» и «дозволенное» для «харам» и «халал»)4, в ряде его работ нами обнаружено большое количество заимствований — как, например, в абзаце, где защищается система мазхабов и ханафитская правовая школа в целом:
«Поэтому так важна и актуальна для нас задача при про- тиворечии хадисов и хукмов мазхаба, следовать хукмам фикхов имама, т.к. есть опасность впадения в грех следо- вания отмененному хадису, тем более, что Абу Ханифа, будучитабигином, оперировал исключительно достовер-
ной сунной»5.
Причиной такого большого количества непереведенных араб- ских слов может быть некачественная редакторская работа; более того, некоторые брошюры издательства Якупова напоминают нам популярный исламский самиздат некоторых деревенских пропо-
1Якупов В. Анти-ислам. Казань, 1427/2006. С. 22.
2Интервью А.К. Бустанова с Валиуллой Якуповым. Казань, 30 марта 2011.
3Kemper M. Comparative Conclusion: “Islamic Russian” as a New Sociolect? Islamic Authority and the Russian Language. Studies On Texts From European Russia, the North Caucasus and West Siberia. Ed. by A. Bustanov, M. Kemper. Amsterdam, 2013. P. 403–416.
4Якупов В. Анти-ислам. Казань, 1427/2006. С. 9.
5Здесь арабская буква «‘айн» дана в татарской транслитерации, т.е. как «г». См.:
Якупов Валиулла. Мера ислама. Казань, 1425/2004. С. 41.

394
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМ  Очерки истории и культуры
Очерки истории и культуры
ведников(например, РафаиляВалишина). Вероятно, русскиеэкви- валенты или объяснения были проигнорированы не специально, в стиле разговорной формы «исламско-русского», который исполь- зуется в дискуссиях между специалистами в этой области. По всей видимости, автор считал, что его читатели достаточно знакомы с исламской терминологией, и русские синонимы к словам «хукм» (решение), «сунна», «хадис» и «таби‘ин» (последователи после- дователей Пророка) не требуются, поскольку текст был написан для «своих». Кроме того, частое использование «арабизмов» пред- назначено для демонстрации хороших познаний автора в области ислама и арабского языка и поднятия своего статуса в глазах чи- тателей. Интересно, что в цитате, приведенной выше, среди всех этих арабизмов Якупов продолжает использовать православную концепцию «греха». Данный абзац является хорошим примером переключения кодов с доминирующего стиля «русизмов» на «ара- бизмы» и обратно.
Смешение арабского и русского языков
Помимо «русизмов» и «арабизмов», Якупов часто прибега- ет к так называемой «современной медиатерминологии» — так, события Арабской весны он называет «переформатированием» арабского мира1. Удивительными являются неологизмы и фразы, которыеобразованыимприпомощислияниясловарабскогоирус- ского/европейского происхождения. Так появляются словоформы вроде «цикл намаза» (в значении «выполнение всех необходимых действий в ходе молитвы», «рабство хадисоведения» (критика одержимости «ваххабитов» хадисами), «ваххабитский холдинг» (идея того, что «ваххабиты» раскинули свою сеть не только в ре- лигиозной сфере, но и в экономике и политике), «коранические меджлисы» (собраниямусульмансцельючтенияКорана)2, «ревай-
вализация ислама», «пророческий ислам», «рамочная шариат-
ская норма»3, «арсенал богопоклонений», «фихческий плюра- лизм» и «правоверный ханафитский мазхабческий ислам»4. Лю-
бопытным примером смешения церковной лексики с языком за-
1Якупов В. Ислам сегодня. Казань, 1432/2011. С. 54.
2Якупов В. Мəрхүмнəргə ярдəм итүтурында. Казан, 1426/2005; Якупов В. О помощи душам умерших. Казань, 1426/2005. С. 16.
3Якупов В. Анти-ислам. Казань, 1427/2006. С. 29.
4Якупов В. Мера ислама. Казань, 1425/2004. С. 41.

ГЛАВА XI. СОВРЕМЕННЫЙ ИСЛАМ И ПОЛИТИКА |
395 |
3. «Традиционный ислам» Валиуллы Якупова
падной социологии — «примордиальная греховность», которую Якупов приписывает «ваххабитам»1.
В работах Якупова эти неологизмы выполняют несколько функций. Соднойстороны, онияснопоказываютжеланиеЯкупова «уместить» исламские идеи в рамки западных общественных наук. Так, через интеграцию арабских слов в научный русский дискурс он «превращает» концепцию правового плюрализма (которая, как правило, обозначает сосуществование различных правовых сис- тем в одном обществе) в то, что он называет «фикхическим плюра- лизмом» (подразумевая взаимное признание четырех суннитских мазхабов). С другой стороны, хорошо образованный и сведущий в русской классике автор пытается придумать яркие названия для обсуждаемых вопросов с целью создать короткие и ясные названия для сложных социальных феноменов.
Форма и содержание работ Якупова
Стиль работ Валиуллы Якупова противоречив и многогранен. Пытаясь защитить татарскую культуру и выступая за использова- ние татарского языка в мечетях, он использовал в своих работах множество заимствований из христианской лексики, а его аудито- риявбольшинствесвоемявляласьрусскоговорящейиполучившей советское образование. Якупов регулярно использовал арабскую терминологию, изменяя ее в стиле академического жаргона, близ- кого к языку медиа. Подобное многообразие в его стиле объясня- ется попыткой автора обращаться к разной аудитории. Во-первых, Якупов обращается к государству, требуя поддержки и защиты го- сударства от «зарубежной угрозы». По этой причине в некоторых текстах встречается множество административной лексики, близ- кой государственным служащим, и религиозные русизмы, близкие представителям церкви. Во-вторых, являясь членом татарского на- учного сообщества, Якупов обращается и к научным кругам Каза- ни — светским и религиозным. Якупов прибегает к стратегии, ко- торая предполагала использование упрощенного разделения на «плохой» и «хороший ислам». Валиулла Якупов вынужден был объяснятьсявтерминах, понятныхнетолькосалафитам, ноиболее широкой публике, требующей простых ответов на сложные вопро- сы и нежелающей вдаваться в подробности.
1 Якупов В. Ислам сегодня. Казань, 1432/2011. С. 279.

396
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМ  Очерки истории и культуры
Очерки истории и культуры
Ключомдляпониманияэтихлингвистическихидискурсивных сложностей является то, что Якупов, как и те, кого он критикует в своих работах, использует близкие или идентичные дискурсивные методы. Это очевидно на примере «мирасизма» (который Якупов критиковал за его чрезмерные упрощения; подобные же упроще- ния он использовал сам, говоря о «либерализме» и иджтихаде), «ваххабизма» (чью одержимость «чистотой ислама» он ставит им в вину, сам при этом ее перенимая) и сравнения с московским има- момАляутдиновым, чейстильпереводаисламскихидейнарусский язык очень близок к стилю Якупова, несмотря на то, что Аляутди- нов, являясь универсалистом, не поддерживает «национальные» рамки для ислама.
Интересно, что Якупов не просто механически заимствует и адаптируеттерминыизхристианскойсреды, ноиделаетэтоосоз- нанно. Как он заметил относительно употребления слов «цер- ковь» и «духовенство» в исламском контексте, «при общении на русском языке мы вынуждены использовать ряд терминов, кото- рые в применении к исламу имеют свой нюансированный смысл и не должны прочитываться в православноокрашенном ключе»1. Отсюда становится ясно, что Якупов осознавал возникающие сложности при переводе ислама на русский язык. Более того, он размышлял о «языковых стратегиях» его оппонентов, «ваххаби- тов», и указывал, что их использование русского языка ведет к постепенной «русификации» мусульман России, «салафизации» молодых поколений через вынужденное использование русско- го языка в мечетях2. Единственное, что Якупов не сказал откры- то, но наверняка понимал, это то, что он сам внес значительный вклад в развитие и распространение нового русского исламского языка.
 4. Оппозиционный ханафизм
4. Оппозиционный ханафизм
Существует ряд других деятелей постсоветского ислама млад- шего поколения, которые получили образование в 1990-е годы в только что открытых региональных медресе. Возможно самый ак-
1Якупов В. Ислам сегодня. Казань, 1432/2011. С. 20.
2Якупов В. Мера ислама. Казань, 1425/2004. С. 4; Якупов В. Анти-ислам. Казань, 1427/2006. С. 34.
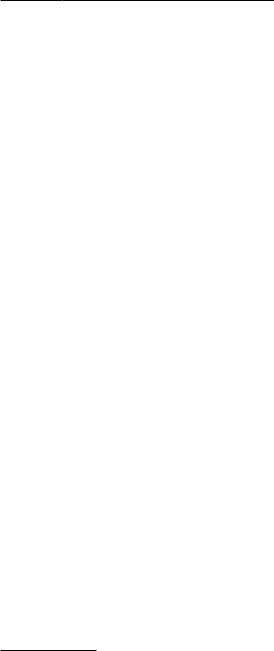
ГЛАВА XI. СОВРЕМЕННЫЙ ИСЛАМ И ПОЛИТИКА |
397 |
§ 4. Оппозиционный ханафизм
тивный из них — Юсуф Давлетшин (род. 1980), выпускник медре- се Йолдыз и имам Нижнекамской мечети с 2005 года. Давлетшин использует татарский язык как основное средство умеренной фун- даменталистской риторики, но не использует все символы «тради- ционализма», как Идрис Галяутдин.
Как Давлетшин упомянул в нашем интервью, на протяжении советского периода два поколения из его семьи не исполняли исламских ритуалов. Его дед был председателем колхоза в Сар- мановском районе Татарстана, что между Набережными Челна- ми и Альметьевском. В отличие от Галяутдина, в семье Давлет- шина произошел разрыв с прошлым, никто больше не знал, как молиться. Лишь элементарные основные практики ислама не дали людям забыть о религии1. Пятнадцатилетним подростком он поступил в медресе Йолдыз и начал изучать религию у выше- упомянутых арабских преподавателей, которые первую лекцию провели при помощи переводчика, а затем преподавали только на арабском языке. В качестве имама в Нижнекамске Давлетшин начал осуществлять, по его словам, «советскую практику под- держки колхозов», а именно, пропагандировать ислам в сельских сообществах Татарстана, Башкирии и Удмуртии через регуляр- ные выступления. Таким образом, данный пример показывает необычное смешение татарского национализма, исламского фун- даментализма и советскости.
Мастер публичных выступлений, Юсуф Давлетшин недавно опубликовал сборник проповедей по этике обращения к Богу (тат. дога). Это еще один пример борьбы за чистоту татарского язы- ка и попытка создания нового религиозного языка. Визуально он разделен на арабскую (коранические цитаты) и татарскую час- ти, тщательно избегающую любого влияния русского языка. Нет никаких проявлений научного стиля, нет ссылок на источники, когда автор передает пророческие сказания. Выбор авторов для цитирования также довольно специфичен, но закономерен: са- лафитские авторы, такие как Ибн Каййим ал-Джаузийа или Ибн Таймийа, могут находиться в тексте рядом со словами татарских богословов2.
1Интервью автора с Юсуфом Давлетшиным, 12 февраля 2014 года, Нижнекамская мечеть. См. также: Йосыф Давлетшин. Дога дəреслəре. Түбəн Кама, 2014. 8 б.
2Йосыф Давлетшин. Дога дəреслəре. Түбəн Кама, 2014. Б 35, 37, 70, 104, 113, 114;
Йосыф Давлетшин. Намаз тəмен ничек тотырга? Түбəн Кама, 2015. 59, 68–69 б.

398
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМ  Очерки истории и культуры
Очерки истории и культуры
Вслучае необходимости Давлетшин умело демонстрирует, что
итатарские ученые начала XX века были против сомнительных су- фийских обрядов, таких как просьба о заступничестве у мертвых (тавассул). Риторика против данной практики достаточно попу- лярна среди татарских салафитов, особенно в связи с паломничес- твом в Болгар1.
Некоторые авторы предпочитают не писать от своего имени, а распространять взгляды известных татарских богословов, кото- рые соотносятся с их собственным пониманием. Так актуализи- руется одна часть интеллектуального наследия и сужается идео- логический спектр, существовавший в прошлом2. Давлетшин, например, открыто осуждает посредничество умерших, называя это нововведением в исламе (бидгəть) и приближает это к поня- тию неверие (көферлек) и уподоблению христианской традиции святых(насараларгадəте)3. ОднаковнашеминтервьюДавлетшин подчеркивает, что он не отрицает суфизм как исламскую дисцип- лину, а критикует отдельные практики, опасные для правильного вероубеждения мусульман4.
Книга Давлетшина в своей основе представляет собой пере- вод отобранных коранических фрагментов и подробные коммен- тарии к ним на татарском языке. Давлетшин не просто включает арабские термины в татарский синтаксис: его конструктивист- ский подход предполагает высокую степень татаризации исламс- кой лексики, чтобы сделать ее более доступной. Иными словами, мы наблюдаем процесс, зеркальный «русификации» исламских терминов. Все названия коранических частей приведены в их та- тарских вариантах, термины также татаризированы: дьявольский шепот (ал-васваса) — шайтанның коткысы, ад (җəһəннəм) —
ут, слова, образованные от корня дал-‘айн-вав в значении «при- зывать» переводятся как чакыру или мөрəҗəгат итү. Далее в тексте есть множество арабских заимствований, что указывает на дистанцирование от русского влияния. В его тексте жирным шрифтом выделены только арабские заимствования:
1Ниязетдин мулла Миңлеəхмəт əл-Хəнəфи. Догаң кабул булсын дисəң. Казан, 2012. 73–79 б.
2Татар галимнəре фəтвəлəре “Əд-дин вə ал-əдəб” журналына бирелгəн сорауларга
җаваплар, 1913–1917 / под ред. Ш. Əбүбəкеров, Казан, 2013. Б. 180–192, 214–220: [Фатих Хабиб], Кыскача гакаид, Иман һəм гакыйдə белеменə бəйле мəсьəлəлəр. Та- тар галимнəре фикерлəренə таянып язылды. Кулъязма (Түбəн Кама, датасыз).
3Йосыф Давлетшин. Дога дəреслəре. Түбəн Кама, 2014. 67 б.
4Интервью автора с Юсуфом Давлетшиным, 12 февраля 2014 года, Нижнекамская мечеть.

ГЛАВА XI. СОВРЕМЕННЫЙ ИСЛАМ И ПОЛИТИКА |
399 |
§ 4. Оппозиционный ханафизм
«Аллаһ Үз бəндəлəрен дога кылырга чакырганда, доганың олуг гыйбадəт икəнен əйтү генə чиклəнмичə, безнең ихлас догаларыбызга Аның хозурыннан җавап булачагын да вəгъдə итə»1.
Все эти арабизмы естественны для татарского языка и только подчеркивают основную тенденцию на очищение текста. Такие практики должны находить благодарную публику, тех, кого автор называет «наши соотечественники» (миллəттəшлəребез). Даже усердие Давлетшина следовать только достоверным пророческим традициям татаризируется. Он представляет их не на арабском языке, как это могло бы быть в случае русского языка, а только на татарском, например: «Ногман ибн Бəшир тапшырган хəдистə пəйгамбəребез... диде” («Со слов Нугмана ибн Башира передано, что Пророк сказал...»).2 По этой же формуле русскоговорящие са- лафиты сказали бы «в хадисе приходит»3, что было бы букваль- ным переводом с арабского «джа’а фи-л-хадис» или «передается
хадис»4 для « ».
».
В феврале 2014 г. один из авторов этой книги принял участие в вечерней лекции Юсуфа Давлетшина, обращенной к молодым лю- дям, не знающим татарского. Имам передавал те же идеи, что он проповедует на татарском, на простой русский язык. Лексику, ис- пользованнуювэтойлекцииможнолегкоуслышатьотлюбогодру- гого салафитского деятеля. Например, это экстравагантное языко- вое изобретение требование знания — широко принятый перевод арабского выражения талаб ал-‘илм, то есть поиск знания, долго- срочное стремление в изучении религиозных дисциплин.
Имам Давлетшин говорил о необходимости «правильного на- мерения», «делать истигфар» и «делать омовение». Все эти фор- мулы не относятся к сфере нормативного языка и показывают ус- пешность русского исламского социолекта. В этой лекции не было и следа от того татарского религиозного языка, что разработан Давлетшиным в его татарских трудах и устных проповедях. Обра- щаясь к другой аудитории, он переключил код в уже устоявшуюся систему языковых клише, принятую в русскоговорящей среде.
1Йосыф Давлетшин. Дога дəреслəре. Түбəн Кама, 2014. 12 б.
2Там же. Б. 17
3Например: http://lektsii.net/1-115441.html Последнее посещение: 21.07.2015.
4http://al-kafi.ru/savab/savab2/ Последнее посещение: 21.07.2015.
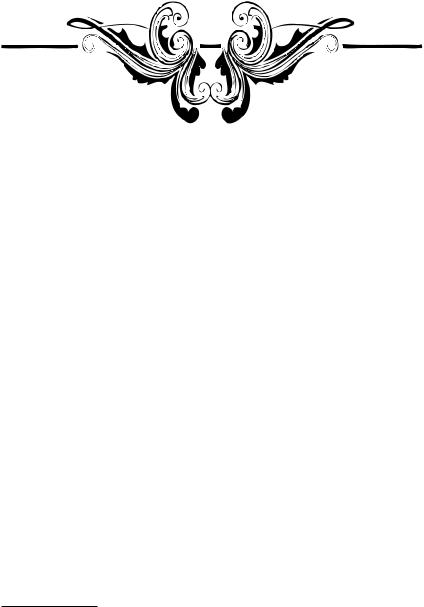
ГЛАВА XII.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ИСЛАМА
 1. Что сегодня? Российский ислам в цифрах на уровне республики
1. Что сегодня? Российский ислам в цифрах на уровне республики
Одним из наиболее наглядных показателей исламского подъема остается беспрецедентный рост религиозных исламс- ких институтов. За минувшие лет восемнадцать в России числен- ность общин-джама‘атов и мечетей при них выросла в сотни раз. Если в 1985 г. Совет по делам религий отметил на Северном Кавказе 47 зарегистрированных пятничных мечетей (джума), из них 27 — в Дагестане, то уже в 1990 г. их число подскочило до 4311. На 1 января 2017 г. количество мечетей в Дагестане соста- вило 2191, включая 1273 джума. В других республиках и облас- тях региона цифры роста остаются на порядок ниже. В 1997 г. в Карачаево-Черкесии действовала 91 мечеть, в 2002 г. в Кабарди- но-Балкарии — 132, в 2003 г. в Адыгее и Краснодаре — всего 262. К 1998 г. открылась крупнейшая на Северном Кавказе мечеть, построенная в Махачкале турками. Она вмещает 15 тысяч чело-
1Емельянова Н.М. Мусульмане Кабарды. М., 1999. С. 101.
2Ханбабаев К.М. «Шариатизация» постсоветского Дагестана: мифы и реальность // Ислам и право в России. Вып. 1. М., 2004. С. 158; Бабич И.Л. Республика Кабардино- Балкария: мечети и исламские общины // Там же. Вып. 3. С. 37; Она же. Республика Адыгея и Краснодарский край: мечети и исламские общины // Там же. С. 84.
