
Агацци Э. Научная объективность и ее контексты
.pdf
глава 9 контекст занятий наукой
9.1..нАукА.и.общестВо
Начиная с 1960-х гг. в философии науки начало развиваться «социологическое» направление, которое с тех пор стало очень влиятельным, насмотря на активную оппозицию некоторых весьма влиятельных философов. Как и у «лингвистического поворота» у этого «социологического поворота» есть свои сильные и слабые стороны. Это зависит от интерпретации его ключевого тезиса – социальной зависимости науки.
Для лучшей оценки различных аспектов этого вопроса может быть полезным краткое описание исторических причин доминирующего влияния этого взгляда. Они представлены почти случайным слиянием двух разных культурных потоков: неомарксизма в континентальной Европе и социологии знания в Соединенных Штатах. Европейские неомарксисты утверждали (по причинам, которые будут разъяснены позже), что наука относится к «идеологии» данного общества в смысле, придуманном Марксом и Энгельсом, т.е. продукту экономической структуры этого общества, в котором господствующий класс использует интеллектуальные и институциональные средства для защиты и легитимизации своих привилегий. Поскольку неомарксизм был весьма влиятелен в некоторых странах Западной Европы в течение по крайней мере трех десятилетий, доктрина социальной зависимости науки также широко распространялась там1.
Второе течение, т.е. социология знания, было провозглашено Карлом Маннгеймом в 1929 г. в его книге «Идеология и Утопия», в которой он исследовал социальную зависимость формы и содержания нашей

9.1. Наука и общество 593
когнитивной деятельности вообще2. Он утверждал, однако, что на математику и естественные науки эта «экзистенциальная детерминация» не влияет. Противоположный взгляд возник, однако, со «Структурой научных революций» Томаса Куна 1962 г., которая в некотором смысле предложила социологический взгляд на науку. Точнее, книга Куна была основана на историко-социологическом подходе и ставила вопросы, безусловно релевантные для философии науки; однако упор, который он делал на зависимость «парадигм» от принятия данным «научным сообществом», ввел в философию науки «микросоциологическое» измерение, довольно необычное в то время. Поскольку академическая сила и влияние социологии (вообще и социологии знания в частности) были твердо установленным фактом в англо-американ- ском мире, налицо были оптимальные условия для роста влияния социологическог подхода к науке в течение следующих десятилетий3 в то самое время, когда неомарксистские круги отстаивали этот подход по другим причинам.
Таковы, очень вкратце, факты, объясняющие «удачу» социологического взгляда на науку. Но их, конечно, недостаточно для того, чтобы оценить его достоинства и возможные ограничения. Некоторые из его достоинств нетрудно признать, и их можно суммировать, сказав, что социологическое исследование науки может открыть новые горизонты и привести к интересным результатам. В частности, то, что говорилось в этой книге об исторической детерминированности научной объективности и историческом измерении науки, явно включало также социологические компоненты, поскольку «история» понималась не только как ссылающаяся по существу на прошлое, но как означающая весь контекст жизни и деятельности человека во все времена. Следовательно, ограничения и возражения могут вызвать не социологические соображения сами по себе, а возможные последствия таких соображений. Обычно их вызывает «абсолютизация» социологического подхода, пытающаяся свести к нему все формы изучения науки с соответствующим сведением всех аспектов науки к социальным факторам. В частности, мы должны отличать последствия этого подхода на когнитивном и на практическом уровнях, а также учесть отношения между индивидуальным и коллективным вкладами в рост науки.

594 Глава 9. Контекст занятий наукой
9.1.1. Является ли наука социальным продуктом?
Теперешнее «преуспеяние» социологического взгляда на науку является проекцией гораздо более общего характерного для нашего времени подхода – рассматривать человеческие достижения как результат коллективных усилий, а не как вклад исключительных личностей. Историческое развитие науки – традиционно рассматривавшееся как результат титанических усилий немногих исключительных личностей – стало рассматриваться вместо этого как нечто вроде грандиозного монумента, выросшего благодаря накоплению новых открытий, сделанных почти анонимно легионом «нормально» одаренных ученых. Обе точки зрения критиковались за недостаточное понимание подлинной социальной природы науки, которую нельзя приравнивать к тому простому факту, что она является «коллективным» предприятием. Действительно, наука есть не столько «работа» многих индивидов, сколько «результат» многих культурных экономических и политических факторов, чья сложная структура образует социальную среду, определяющую форму и содержание самой «научной» работы4. Принятие этой точки зрения также осудило как устаревший и недостаточный логико-эмпирический анализ научных теорий, который упрекали за то, что он сделал из науки нечто фиктивное и абстрактное, в результате чего не смог объяснить ее реальное динамичное развитие5.
В области истории науки внимание к «гигантам» сменилось интересом к терпеливому исследованию меньших вкладов, к работам, выполненными менее известными исследователями, принадлежащими к научным сообществам, непосредственно предшествовавшим или современным великим гениям, на подготовительных шагах и общих идеях, которые великие открытия могли использовать как плодотворную почву. Это направление совершенно естественным образом привело к концепции науки как социального продукта. Это выражение двусмысленно, поскольку, понимаемое буквально, оно должно означать, что общество может что-то производить, в то время как общество есть абстрактное сущее и только индивиды могут производить вещи. Более разумным значением будет то, согласно которому общество обеспечивает необходимые условия для науки. Опять-таки эти условия не должны пониматься как необходимые и достаточные для существования и развития науки. Не только отдельные социальные факторы не могут считаться достаточными (это очевидно), но они не

9.1. Наука и общество 595
могут считаться и необходимыми в строгом смысле (это означало бы, что без некоторого специфического фактора некоторое конкретное направление развития науки было бы невозможным).
Все это означает, что мы не можем рассматривать влияние общества на науку по детерминистской схеме. Это влияние имеет характеристики той исторической определенности, о которой мы говорили ранее и которая не сводится к исторической детерминации, как мы там объяснили. Соответственно, ни один из отдельных взглядов на науку недостаточен для объяснения всей ее природы. Кроме того, концепции, рассматриваемые сейчас как устаревшие, содержат некоторые правильные аспекты, которыми нельзя пренебрегать. Наука, конечно, предполагает некоторого рода внутреннее, кумулятивное накопление знаний, она организована согласно некоторым логическим и методологическим правилам, и она обязана своим ростом необычайным импульсам, получаемым от необычайно талантливых личностей, хотя вклад, вносимый в ее прогресс научным сообществом в целом, социальной и культурной средой, материальными условиями общества и т.д., играет свою роль, которую мы можем определить как множество благоприятных предварительных условий.
9.1.2. Когнитивные аспекты социальной контекстуализации науки
Одним из самых критикуемых последствий социологистической концепции науки, поддерживаемым некоторыми представителями этой доктрины, был отказ от научной объективности. «Социальная зависимость» науки интерпретировалась как социальный релятивизм, очень похожий на культурный релятивизм, защищаемый в других контекстах. Согласно этому взгляду, некоторый данный социальный или культурный контекст характеризуется, в частности, своими собственными интеллектуальными категориями, включая концептуальные схемы, а также схемы выводов, модели объяснения, синтетические интерпретации, глобальные мировоззрения и т.д. Поэтому в любом обществе реальность есть попросту результат конструкции, определяемой вмешательством этих когнитивных фкторов; и было бы наивным полагать, что эта реальность есть нечто существующее в себе и наделенное своими собственными объективными чертами.
Это, конечно, ключевой момент для всей точки зрения, представленной в данной книге, которая защищает понятие научной объектив-

596 Глава 9. Контекст занятий наукой
ности как нечто такое, что влечет относительность научного знания, но
всмысле отнесенности к специфическим объектам, а не к когнитивным установкам. Мы уже обсуждали, однако, достаточное количество моментов, позволивших нам признать частичную законность социологического тезиса и неправильность его крайних релятивистских выводов6.
Мы утверждали, что каждая научная дисциплина, каждая ветвь отдельной дисциплины и каждая линия исследования в пределах отдельной ветви определяются выбором некоторых ограниченных и во все возрастающей степени специализированных «точек зрения», с которых исследуется реальность, так что область дискурса каждого научного исследования полностью очерчивается определенным множеством предикатов, эксплицитно выражающих данную точку зрения. В нашей трактовке исторической детерминированности и герменевтического измерения науки мы также признали, что не только эти точки зрения, но и операциональные критерии референциальности «релятизивированы» к наследию идей, фоновому знанию и технологическим и материальным условиям, окружающим науку в данную эпоху. При этом мы уделили подобающее место законным тезисам социологической доктрины. Тем не менее мы также детально проанализировали онтологическую независимость референтов, а из этого следует, что реальность (даже на которую ссылаются («referred»)
икоторая является предметом интенции (intended)) не конструируется, а познается через имеющиеся когнитивные инструменты. Другими словами, было бы очень наивно сказать, например, что цвета и формы вещей конструируются нашим чувством зрения, а не познаются через это чувство (так что слепые люди, к несчастью, лишены такого доступа к этим атрибутам вещей). Аналогично мы можем без всяких проблем допустить, что некоторые конкретные черты данного языка или некоторые абстрактные понятия, включенные в интеллектуальное наследие данной культуры, и т.д., объясняют формы выражения знания
вней и даже «знания» реальности. Но это означает только, что эти когнитивные орудия дают людям возможность исследовать аспекты
иатрибуты реальности, делающиеся доступными благодаря таким орудиям. Отсюда не следует автоматически, что другие культуры не могут воспользоваться другими орудиями для исследования других, столь же релевантных аспектов реальности, ни что они были бы полностью лишены возможности познать известные нам аспекты, прибегая (быть может, менее эффективно) к частично другим орудиям.
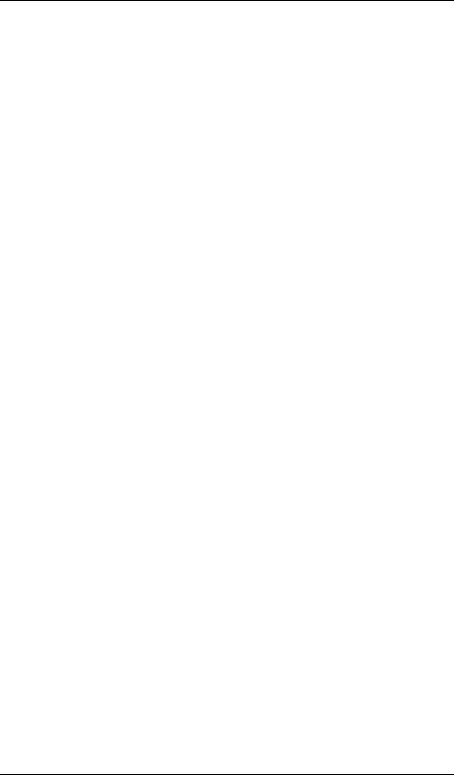
9.1. Наука и общество 597
Выстроенный нами дискурс о сравнимости, дополнительности, совместимости и несравнимости различных научных объектификаций применим здесь естественным образом, с подчеркнутыми нами реалистическими следствиями. Мы хотим добавиь только одно фактическое соображение. Наука показала себя самым мощным межкультурным дискурсом, который могло создать человечество, дискурсом, который может быть понят и проверен людьми, принадлежащими к культурам и обществам, максимально удаленным друг от друга. Это возможно потому, что фундаментальной характеристикой науки является интерсубъективность, существующая не только между отдельными учеными, но и между сверхиндивидуальными сущими, какими являются общества и культуры. Кстати, этим объясняется, почему основатель социологии знания (Маннгейм) исключил точные науки из области приложения своих теорий.
Если без предрассудков посмотреть на доктрины социологов науки, можно увидеть, что их эпистемологический релятивизм зависит от недостаточно четкого различения когнитивных и практических аспектов социальной вовлеченности науки. Мы исследуем этот вопрос, рассматривая культурные контексты, в которых возникло это смешение.
9.1.3. Проблема нейтральности науки
Концепция науки как социального продукта была существенно поддержана в 1950-е и 1960-е гг. диспутами по поводу «нейтральности» науки, поскольку эта концепция составляла общую рамку практически для всех позиций, отрицавших эту нейтральность. Вплоть до середины XX столетия наука рассматривалась как область бескорыстного, беспристрастного и объективного поиска истины и надежного знания, неподвластного внешним влияниям и давлению, нечувствительным к идеологическим конфликтам, готового помогать человечеству, предлагая ему эффективные орудия для решения всякого рода проблем. Не считалась наука ответственной и за морально негативные (или позитивные) применения, которые люди давали ее открытиям.
Однако после Второй мировой войны многие люди начали подчеркивать, что морально негативные применения науки стали на самом деле довольно обычными, что влияние на научные исследования разного рода «властей» стало не пренебрежимым, а также что проис-

598 Глава 9. Контекст занятий наукой
ходящий сам собой рост науки и технологии готов был производить, более или менее автоматически, нежелательные и даже ужасные последствия, лишь предварительными признаками которых были загрязнение окружающей среды и другие экологические бедствия. Поэтому казалось очевидным, что с учетом этих фактов наука не может оставаться беспристрастной и «нейтральной».
Вскоре последовал второй шаг, когда критика науки сосредоточилась не ее возможных использованиях и последствиях, а на ее когнитивной деятельности, отрицая, что она представляет собой ту модель исследования, обеспечивающую беспристрастное, публичное, проверяемое и критическое знание, которой она долгое время считалась. Утверждалось, напротив, что наука всегда есть продукт некоторого конкретного социального сообщества, что она вырастает из общего мировоззрения и установок этого сообщества, что она неизбежно имеет тенденцию служить интересам его господствующего класса и оказывать интеллектуальную поддержку идеологии этого класса. Предполагаемая объективность и проверяемость научных доктрин объявлялась чисто фиктивной, поскольку иерархическая организация научного сообщества, связи между его политическими и/или экономическими лидерами, контроль, осуществляемый над публикациями, доступ к финансированию исследований и реальная возможность выражения диссидентских (научных) мнений – все определялись на основе ненаучных критериев. Так что наука осуждалась как (вольная или невольная) прислужница «власть имущих», отражающая (осознанно или неосознанно) их идеологию.
Эта волна критики испытывала влияние политических и идеологических целей и, как мы уже отмечали, развивалась в основном некоторыми направлениями западного «неортодоксального» марксизма, стремившимися подорвать одну из самых прочных опор интеллектуальной оппозиции марксизму. Это противопоставление науки и идеологии особенно подчеркивалось, например, Поппером, осудившим марксизм (и всякую другую идеологию) как устаревший, старомодный, догматический и иррациональный проект решения социальных, экономических и политических проблем. В то время как «ортодоксальные» марксисты в Советском Союзе и других коммунистических странах пытались отвергнуть эту критику, защищая старый «классический» тезис, что марксизм является единственным научным подходом к обществу, западные неомаркисисты (осознавая крайнюю слабость этой

9.1. Наука и общество 599
претензии) пытались утверждать, что нет существенной разницы между наукой и идеологией, поскольку наука сама идеологически вдохновляема и ангажирована. Поэтому, согласно западным неомарксистам, наука не может служить орудием критики идеологий. Этим объясняется особое место, отводимое тезису, что наука есть социальный продукт. Этот тезис был центральным аргументом, используемым для обоснования утверждения, что наука внутренне идеологична и лишена всякой объективности, которое использовалось как орудие дискредитирования ее как модели честного и независимого поиска истины.
Защитники нейтральности науки не отрицали, что применения науки могут быть опасными, но утверждали, что это вина не науки или ученых, а тех, кто использует научное знание. Научное знание «нейтрально», поскольку может применяться для достижения как полезных, так и опасных целей, и не должно отвлекаться от своего поиска истины такими вненаучными соображениями. Защитники нейтральности науки отвергали также и критику, направленную на когнитивную нейтральность науки, считая ее искажением подлинной природы науки, защищаемым из пристрастных политических целей. Этот спор остался бесплодным не только потому, что на аргументы противников часто влияли противоположно направленные предрассудки, но и (что более существенно) из-за непроясненности самих понятий нейтральности и науки. Поэтому прежде, чем продолжить наше обсуждение, мы постараемся их прояснить. Значение, приписываемое в этом споре «нейтральности», было не наиболее распространенным, согласно которому нейтральность состоит в равноудаленности от обеих противостоящих партий, а она понималась как независимость от их мотивов, предрассудков, интересов, обусловленностей и целей.
Что касается науки, мы должны признать, что обычно понимаем ее двумя разными способами. С одной стороны, мы рассматриваем ее как систему знания, отождествляя ее, например, с содержанием учебников, журнальных статей, теорий т.д., к которому подходят в соответствии с определенными критериями объективности и строгости. С другой стороны – как систему человеческой деятельности профессионального характера; мы, например, говорим, что некто занимается (does) математикой или физикой, но не (как профессией) музыкой или плотничьим делом.
Это различение очень важно для вопроса о нейтральности. Если мы рассматриваем науку как человеческую деятельность, очевидно,

600 Глава 9. Контекст занятий наукой
что она не может и даже не должна быть нейтральной. Как и всякая человеческая деятельность, она предполагает личные и коллективные мотивы; она служит определенным целям, так же, как и более или менее законным интересам; она зависит от разного рода обусловленностей, она подвержена нравственным и политическим соображениям; она получает философские и идеологические интерпретации и вдохновения и т.д. Однако если мы рассматриваем науку как систему объективного знания, мы должны признать, что она является и должна быть нейтральной по отношению ко всем этим элементам. Другими словами, когнитивная ценность научного высказывания или теории должна опираться только на объективные научные критерии. Например, если некоторое подлинно научное открытие сделано в рамках военной исследовательской программы, имеющей морально неприемлемые цели, оно остается научно достоверным, несмотря на негативные намерения, стоящие за этой программой. Напротив, если провозглашенное открытие на самом деле ошибочно, оно остается научно несостоятельным, даже если к нему пришли в ходе искренних исследовательских усилий найти, например, лекарство от рака. (Намерения людей могут определять предмет научного исследования, но не его результат.) Теперь, кстати, нам легко понять, почему «социалистические» и «капиталистические» ученые на самом деле разрабатывают одну и ту же математику, физику, химию и т.д. Это просто результат того, что объективное знание, содержащееся в этих дисциплинах, совершенно независимо от того социального и идеологического контекста, в котором оно было получено7.
Краткое рассмотрение, посвященное нами вопросу о нейтральности науки, дало нам возможность оценить важность учета контекста занятий наукой, даже когда наш интерес направлен на изучение когнитивной деятельности науки, как в этой книге. На самом деле научное познание не есть самовоспроизводящееся сущее, но нечто такое, что добывается и воспроизводится специфической человеческой деятельностью – точнее, той деятельностью, чьей определяющей целью (как мы объяснили в разд. 5.2.1) является погоня за строгим и объективным знанием. Эта деятельность, однако, есть нечто целое, в котором можно различить, но не разделить, несколько сочетающихся факторов, таких как интенции (намерения), предложения (идеи), интересы, условия и т.д. Все они связаны сетью обратных связей, наша законная забота – обеспечить, чтобы эффект этого сложного взаимо-

9.1. Наука и общество 601
действия, хотя и ведущий к определенному «оформлению» научного знания, не разрушил его «определяющих характеристик», поскольку это означало бы уничтожение науки в собственном смысле.
Следовательно, не имеет значения, как много можем мы привести конкретных случаев, когда научное исследование или его результаты оказывались более или менее далеки от требований объективности и методологической строгости, которые им следовало соблюдать. Такие случаи будут просто примерами плохой науки или даже фальсификаций, выполненных под маской науки, или попросту предательством науки, совершенным для достижения иных целей, таких как экономическая выгода, престиж, власть и т.д. Все это, однако, не может ни помешать науке быть тем, что она есть, ни устранить тот факт, что ею можно заниматься (и обычно занимаются) в соответствии с ее подлинной природой.
Заметим, что это абсолютно общая ситуация. Например, мы можем согласиться, что демократия – очень ценная форма политического устройства; и это останется истинным, несмотря на тот факт, что во многих конкретных случаях диктаторы заявляли, что соблюдают демократию, на деле проводя политику угнетения, или что господствующие партии в демократически управляемых странах сохраняют свою власть, просто организуя фальсификацию голосования в ходе формально демократического процесса политических выборов. То же можно сказать и о религии, которую можно считать драгоценной духовной силой и для отдельных людей, и для обществ, но которую многие могут также использовать как инструмент получения власти или добывания денег. Более того, подлинный дух религии не будет запятнан, даже если высшие ее представители будут демонстрировать скандальное поведение в полном противоречии с предписаниями их собственной религии. Такого рода примеры легко умножить.
В заключение: учет «контекста занятий наукой» имеет величайшее значение для лучшей оценки «сложной реальности» науки, если только мы не «растворим» науку в ее контексте. Этот учет существен не только для осознания того, что контекст влияет на когнитивный аспект науки, не подрывая ее когнитивной ценности, но также и для признания законности исследования других аспектов науки, связанных с тем, что она является человеческой деятельностью. Эти аспекты невозможно оценить, если рассматривать только индивидуальную деятельность ученых; требуется расширить перспективу, включив в нее
