
Агацци Э. Научная объективность и ее контексты
.pdf
482 Глава 6. Контексты объективности
няют всю свою внутреннюю ценность, изобретательность замысла, хотя нам и в голову не пришло бы использовать их, поскольку современные инструменты гораздо точнее. Однако при ближайшем рассмотрении мы видим, что это возрастание точности связано отчасти просто с техническим прогрессом, а отчасти с тем, что мы перешли к другим областям исследования, в которых старые инструменты больше не нужны (так что здесь проявляется прагматическая сторона науки). Но если мы хотим полностью понять науку определенной эпохи, мы обязаны учитывать ее инструментарий и даже время от времени использовать ее инструменты, чтобы воспроизвести возможные в то время наблюдения и эксперименты. Только вернувшись вновь на этот уровень рассмотрения, сможем мы вернуть науке всю заслуженную ею духовную и культурную ценность. Так же как мы восхищаемся римским правом или статуями Микеланджело, не помышляя о возможности «использовать» их для конкретных надобностей нашего века, так же мы должны относиться и к истории науки. К тому же только таким образом сможем мы оправдать разделяемое всеми нами искреннее убеждение, что такие гении, как Евклид, Архимед, Галилей, Ньютон и Максвелл, находятся на более высоком уровне величия, чем многие наши нобелевские лауреаты, и что они внесли в создание нашей цивилизации не меньший вклад, чем величайшие гении в области искусства, литературы, философии, права и религии. Благодаря осознанию этого мы сможем надеяться, что современная наука сможет сыграть свою роль в строительстве нашей культуры, которую она сейчас не выполняет именно потому, что мы слишком часто рассматривали ее просто как совокупность временных знаний, интересных и значимых лишь постольку, поскольку они практически полезны.
6.3..герменеВтическое.измерение.нАуки.
Теперь мы собираемся более подробно развить некоторые замечания по поводу «гештальтических» предварительных условий создания научных теорий, которые мы уже эпизодически упоминали, особенно в последних разделах8. Мы увидим, что в случае науки эти предварительные условия соответствуют специализации общего понятия «способа представления реальности», когда оно применяется к фактическим – а следовательно, конкретным – когнитивным ситуациям.

6.3. Герменевтическое измерение науки |
483 |
Конкретными эти ситуации делает тот факт, что познающий субъект сталкивается с большим количеством данных в силу их воздействия на его органы чувств в пространстве и времени. Однако эти данные немедленно объединяются, спонтанно и неосознанно, согласно некоторому «способу их представления», который уже организует их в некоторого рода «общую структуру». Этот факт никогда не ускользал от лучших исследователей нашей познавательной деятельности, от Платона и Аристотеля до Канта и психологов школы гештальта.
Эти последние подчеркивали разницу между ощущениями и восприятием – организацией чувственных данных, которая не однозначно содержится в них, а скорее соответствует «оформлению» их согласно схеме (pattern), накладываемой на них неосознанной, но эффективной деятельностью познающего субъекта. Широко известны рисунки, которые могут восприниматься как изображения очень разных объектов (таких как ваза или два противопоставленных человеческих профиля) в зависимости от того, какая часть рисунка воспринимается как фон или как изображение. Не менее знаменит и широко обсуждается в недавней философии науки использованный Витгенштейном пример рисунка, который может восприниматься как голова или кролика, или утки в зависимости от акцента на разных его деталях9.
Во всех этих случаях оказывается, что «видеть» должно расчленяться на «видеть что» и «видеть как». «Видеть что» можно понимать как учет отдельных (и, так сказать, фактуальных и изолированных) компонентов данной когнитивной ситуации, тогда как «видеть как» соответствует способу объединения отдельных компонентов в актуальное представление. Интереснее всего, однако, то, что – вопреки тому, что само собой приходит в голову – «видеть как» предшествует «видеть что», поскольку составные элементы идентифицируются путем анализа представления, а это равносильно признанию, что всякое представление есть уже некоторый способ представлять, и это потому, что одну и ту же вещь можно видеть совершенно по-разному в зависимости от того, какой используется гештальт. Можно также показать, что даже «видеть что» есть некоторая форма, или нижний уровень, некоторого «видеть как», но в данный момент такой анализ нас не интересует. Мы хотим явным образом указать, однако, что в этом «видеть как» или «видеть тем или иным образом (as thus or so)» состоит оправдание перехода от чисто гештальтного, или репрезентационального,

484 Глава 6. Контексты объективности
аспекта теории к ее явной языковой формулировке. Действительно, как убедительно показал Нельсон Гудмен в своей классической работе (Goodman 1968), даже изображение имеет денотативную и предикативную функции, поскольку представление чего-то «тем или иным образом» сводится к приписыванию ему некоторого свойства, и в этом смысле изображение играет роль высказывания. Следовательно, формулировка теории как системы предложений есть только языковая сторона ее гештальтной природы. Мы хотим скорее подчеркнуть, что, как мы уже отмечали, некоторая степень общности присутствует уже на уровне чувственного познания, благодаря присутствию «формы», т.е. гештальта. Действительно, эта форма гештальта является «моделью» организации данных, которой субъект уже обладает и которой он «приносит обратно» данные. Если бы субъект не обладал уже формами вазы, человеческого профиля, кролика и утки (пользуясь прежними примерами), он не мог бы увидеть на представляемых ему картинках ни вазы, ни профиля, ни кролика, ни утки. Это древнее открытие Платона – «познать значит узнать». Оставив в стороне проблему происхождения такой формы, подчеркнем, что она имеет общий характер, поскольку она уже служила для унификации нескольких других комплексов данных; и именно поэтому она может служить унифицирующим инструментом для новых данных, с которыми мы теперь сталкиваемся. Многовековой взгляд состоит в том, что чувственное познание ограничивается частным, тогда как всеобщее – привилегия интеллектуального познания. Но этот взгляд должен смениться (или по крайней мере дополниться) взглядом, более «непрерывностным»
втом смысле, что на каждом этапе нашего познания присутствует отношение между частным и всеобщим. Это так, поскольку всеобщее на некотором уровне становится частным на более высоком уровне, т.е. на том уровне, на котором происходит дальнейшая унификация. Современная философия уже продвинулась по этому пути, поскольку
вбольшинстве случаев заменила дихотомию частное – всеобщее дихотомией данные – конструкция (упомянем только о гуссерлианской трактовке этого вопроса). Выше мы однажды использовали термин «модель», говоря об объединяющей форме гештальта. Мы полагаем, что понятие модели, несмотря на его появление в разных обличьях
всовременной философии науки, еще в полной мере не исследовано с точки зрения его герменевтической функции, которую мы будем здесь подчеркивать. Эта функция будет по существу состоять в обе-
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
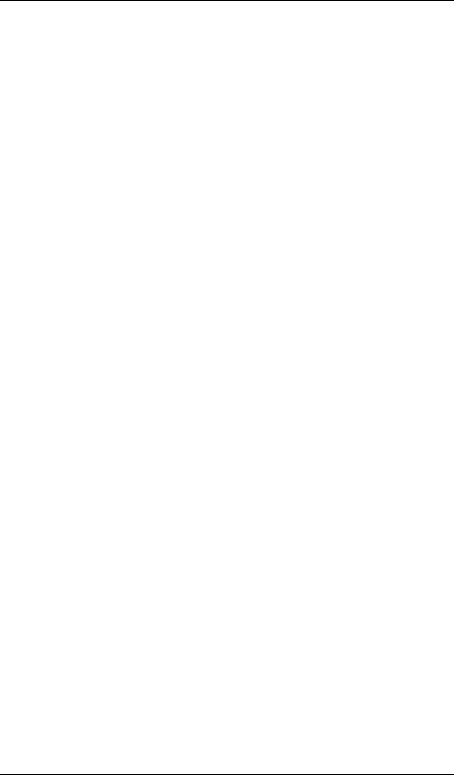
6.3. Герменевтическое измерение науки |
485 |
спечении «способа представления» некоторого данного поля исследования и, тем самым, окажется очень близкой к понятию научной теории. Таким образом, понятие модели будет рассматриваться как интеллектуальное орудие, гораздо более значимое, нежели довольнотаки тривиальное средство «визуализации» сложных ситуаций, которым его зачастую объявляют.
6.3.1. Объяснение, понимание и объединение
Вфилософии науки нет согласия по вопросу о том, что такое научная теория. Но есть достаточно общее согласие по вопросу о том, что одной из основных задач научной теории является объяснение данных10. Но что значит «объяснить»? Философы науки быстро разделались с любыми психологическими значениями этого понятия, исключив его обычные и спонтанные толкования, согласно которым объяснить – значит «вернуть» все неясное и неизвестное к чемуто, что уже ясно и известно. Они предпочли им более философское
итехническое понятие объяснения, согласно которому оно состоит в ответе на вопрос «почему» о том, что эмпирически очевидно. Более того – и этот шаг был решающим, – остенсивное определение такого «почему» было отождествлено с выполнением дедуктивного вывода эмпирических данных из достаточных гипотез. Но дедукция есть типично логическая процедура, применимая к высказываниям, так что в конечном счете научные теории стали рассматриваться как системы гипотетических высказываний, из которых могут корректно дедуктивно выводиться фактуальные высказывания, описывающие данные. Это и есть знаменитый высказывательный взгляд на теории, включающий дедуктивно-номологическую модель научного объяснения, господствовавший в эмпирицистско-аналитической философии науки и вполне согласующийся с «лингвистическим поворотом», характерным для большей части философии XX в.
Впоследние десятилетия этот взгляд подвергся серьезной критике, и к нашему времени он представляется дискредитированным. Однако, по нашему мнению, этот взгляд имеет больше достоинств, чем готовы признать его оппоненты, поскольку позволяет нам анализировать логический и лингвистический аспекты научного знания – аспекты, которые, конечно, нельзя недооценивать, хотя они и не исчерпывают, как мы увидим, природу научных теорий. Другими

486 Глава 6. Контексты объективности
словами, представляется более разумным заметить, что эту концепцию неследуетабсолютизировать,чтобынеупуститьизвидудругиеаспекты научного объяснения, от которых могут зависеть логический и лингвистический аспекты. Мы утверждаем, что объяснение составляет – на интеллектуальном уровне – компонент того процесса, который мы уже видели действующим на уровне чувственного познания, точнее – восприятия. Не будет произвольным утверждать – и когнитивная психология, по-видимому, очень ясно поддерживает этот тезис, – что знание в широком смысле есть объединение и что, в частности, «мыслить – значит объединять», согласно знаменитому утверждению Канта, который, однако, в данном случае выражал взгляд, присущий всей истории философии. Но поскольку согласование эмпирических данных в контексте связной дедуктивной сети есть, конечно, форма объединения, соблюдающая фундаментальный интеллектуальный закон логической связности, ясно, что научное объяснение, как оно «в настоящее время» понимается, есть некоторый конкретный путь удовлетворения фундаментального требования объединения, характеризующее всякое знание вообще. Остается, однако, отрытым вопрос, состоит ли в этом вся роль объяснения, поскольку, безусловно, корректно будет спросить, исчерпывает ли объединение (понимаемое в рассматриваемом до сих пор ограниченном смысле) весь горизонт интеллектуального объединения и, вдобавок, должно ли оно осуществлять еще что-либо сверх того, чтобы просто объединять (т.е. должно ли оно указывать основания, отличные от чисто гипотетико-дедук- тивных выводов, например, каузальной природы).
Помимо и в некотором смысле до объяснения должен иметь место интеллектуальный феномен понимания. К сожалению, отношения между этими понятиями неясны по противоположным причинам. С одной стороны, использование их в обыденном языке делает их практически взаимозаменимыми синонимами; с другой стороны, они использовались для обозначения когнитивных процессов весьма разной природы во время дебатов, разгоревшихся в начале XX в. между некоторыми знаменитыми мыслителями относительно «научного» характера исторических и социальных наук. Некоторые из них рассматривали «объяснение» (Erklären) (которое они понимали как подведение под некоторый закон или законы) как задачу и методологию, типичную для естественных наук, отождествляя достижение «понимания» (Verstehen) с задачей и методологией тех наук, которые

6.3. Герменевтическое измерение науки |
487 |
иногда называли науками «о духе» (Geisteswissenschaften), «о культуре» (Kulturwissenschaften), «социально-историческими» и, в последнее время и в гораздо более широком смысле, «гуманитарными»11.
Было бы ошибкой трактовать это различение как произвольное или вводящее в заблуждение. Если рассматривать его в рамках конкретной исторической дискуссии, в которой оно отстаивалось, оно было вполне полезным и законным. Но оно гораздо менее полезно и меньше разъясняет, если мы сохраним верность ему вне этого конкретного контекста, как если бы им выражалось окончательное и четкое разделение. Поэтому гораздо лучше не противопоставлять друг другу «объяснение» и «понимание», а видеть в них различимые, но взаимосвязанные моменты интеллектуальной познавательной деятельности. Их отношения можно подытожить следующим простым тезисом: «невозможно объяснить то, что не понято».
Этот тезис выражает некоторое концептуальное предшествование понимания по отношению к объяснению, в том смысле, что объяснение должно развиваться в горизонте понимания; и можно рискнуть сказать, что, поняв, каково нечто, мы переходим к попытке понять, почему это так. Но мы не хотели бы создавать недоразумения по поводу этого «предшествования», которое следует понимать не во временно1м, а – что мы подчеркивали – в концептуальном смысле. В этом смысле понимание непрерывно сопровождает объяснение, и второе можно рассматривать как постоянное углубление первого. Более того, это никоим образом не пассивное углубление, поскольку может случиться, что объяснение встретится с такими трудностями, что потребуется существенная модификация рамок референции, предоставленных исходным пониманием, а это означает, что нечто, кажущееся всерьез необъяснимым, может оказаться также и непонимаемым. В этом смысле правильным будет также сказать, что результатом успешного объяснения будет то, что мы в конце концов «понимаем» наш предмет. Было бы наивным понимать это соображение как противоречащее нашему первому утверждению, что понимание «предшествует» объяснению: мы уже указали, что речь идет не о предшествовании во времени, а теперь мы можем более точно указать, что в данном случае (как и в бесчисленном количестве других) мы находимся в ситуации петли обратной связи, в которой начало и конец релятивизированы. В дальнейшем эти соображения станут яснее. Пока же мы просто заметим, что – если дело обстоит так, как мы сказали, –

488 Глава 6. Контексты объективности
понимание и объяснение должны на равных правах входить как в естественные, так и в гуманитарные науки.
То, что мы сейчас обсудили, имеет отношение к понятию модели. Создать себе модель некоторой области реальности значит понять ее, в смысле получения объединенного представления области, которое, объединяя ее, выходит за рамки чисто чувственного опыта. Это объединение представляет собой гештальтизацию второго уровня, предполагающую гештальтизацию первого уровня, обеспечивающую представление, черты которого не чувственно воспринимаются, а мыслятся. И так же, как мы сочли разумным увидеть в корне понимания присутствие фундаментальной интеллектуальной процедуры – дедуктивной аргументации, – так же кажется разумным признать в корне понимания присутствие не менее фундаментальной интеллектуальной процедуры – процедуры интерпретации. Поэтому, если мы соглашаемся назвать измерение логической аргументации логическим, мы можем согласиться назвать измерение интерпретации герменевтическим (имея в виду, что мы используем термин «герменевтический» в строго этимологическом смысле, без неявного подключения дополнительных коннотаций, связанных с различными сегодняшними философскими доктринами); и мы можем заключить, что в любом научном дискурсе присутствуют и логические, и герменевтические измерения и что последнее «возглавляет» (“presides” over) первое. Если теперь вспомнить, что за моделью была признана решающая роль в построении «понимающей» интерпретации, мы можем также заключить, что тем самым модели приписывается неустранимая герменевтическая функция.
6.3.2. Герменевтическая, эвристическая и аналоговая функции модели
Приведенные выше спецификации позволяют понять, почему герменевтическую функцию модели не следует смешивать с довольно тривиальным требованием «визуализации». Действительно, мы можем позволить себе использовать терминологию «ви1дения», не ввязываясь в нежелательные двусмысленности, поскольку мы говорили о проблемах «видеть как» и «видеть что» – двух выражениях, лишь случайно имеющих отношение к материальными образами, произво-

6.3. Герменевтическое измерение науки |
489 |
димыми чувством зрения, поскольку они указывают скорее на интеллектуальное «ви1дение», на «инсайт», имеющий место также и в связи с самыми абстрактными сущими. (В этом смысле мы обычно – и правильно – говорим, что математик способен «видеть» свойства таких сущих, как числа, и т.д.)
С этой более глубокой точки зрения не теряется ничего из эвристической и аналоговой ценности моделей, которая так часто подчеркивалась в специализированной литературе, поскольку мы теперь можем понять истинную основу этих очень важных функций. Действительно, и в тех случаях, когда для того, чтобы исследовать некоторую область объектов, мы строим некоторую модель этой области
врамках другой, уже известной структуры объектов, смысл этой процедуры не состоит просто в возвращении по аналогии к чему-то уже нам знакомому с целью психологически облегчить нам задачу нашего исследования (аналоговая функция). Не сводится эта процедура и к – безусловно не пренебрежимому – использованию структурной аналогии между двумя областями объектов с целью гипотетического переноса на пока еще неизвестную область аналогии {?} с уже известным в уже исследованной области (эвристическая функция). Это вполне респектабельные прагматические мотивации. Они, однако, не объясняют нам, почему из многих возможных моделей нам пришло
вголову использовать именно эту. А причина следующая: в какой-то момент нам показалось, что эта модель может дать нам инсайт, концептуальную точку зрения, гештальтизацию, необходимую для понимания нашей области объектов. Эта гештальтизация – как мы подчеркивали – представляет собой «ви1дение как», которое, именно потому, что оно основано на аналогии, становится «ви1дением как если бы» и, в той мере, в какой аналогия сохраняет свою силу, дает нам эвристический стимул прямо взглянуть на незнакомую область в поисках дальнейших возможных подтверждений этого «ви1дения как». Однако
вто время, как аналоговый смысл и эвристический импульс модели исчезают, когда первоначальные аналогии уже не используются, герменевтическая функция модели может сохраняться гораздо дольше, т.е. пока заключенная в модели гештальтизация – служащая для того, чтобы непосредственно объединять данные исследуемой области объектов, – не вступит в кризис по причинам, внутренним для этой самой области объектов. Как это может происходить, мы увидим позже. А пока что мы можем заметить, что сказанное выше уточняет часто

490 Глава 6. Контексты объективности
защищаемый тезис, что модель есть «преамбула к теории»12. Как мы увидим, теория состоит из системы высказываний, явно выражающих основные черты структуры, содержащейся в модели, так чтобы саму модель можно было испытать, выводя из нее точные высказывания, которые можно эмпирически тестировать.
6.3.3. Модель и построение области объектов
Соображения, касающиеся герменевтического измерения науки и особое значение, получаемое понятием модели с этой точки зрения, поясняют и обогащают общий взгляд на природу научной объективности, которой посвящена эта книга. Теперь мы представим некоторые свидетельства этого и в то же время укажем, как этот подход влияет на наш способ понимания законов и теорий.
Основной тезис концепции научной объективности, отстаиваемый в этой книге, состоит в том, что каждая наука рассматривает реальность с некоторой специфической «точки зрения», с которой связываются некоторые операциональные критерии референциальности, имеющие целью обеспечить эмпирическую проверку того, что говорится о реальности с этой точки зрения. Ясно, что указанные точки зрения уже выражают первую гештальтическую – а значит, герменевтическую – ориентацию, которая поэтому лежит в основе самого построения научных объектов. Это просто начальный момент, направляющий идентификацию данных любой актуальной науки. Однако это также показывает, что любое «данное» само есть конструкция с некоторой точки зрения – первая гештальтическая единица. Такие данные, когда они поступают с некоторым единообразием, объединяются далее в формулировки, которые иногда называются эмпирическими обобщениями и считаются получаемыми путем индукции. Но индуктивисты упускают из вида то, что «ви1дение» этих единообразий отнюдь не является однозначным и автоматическим, потому что оно равносильно открытию нового гештальта, нового объединения и, следовательно, новой модели, вписывающейся в рамки первичной гештальтизации и обобщающей ее. Многие научные законы представляют собой обобщения именно такого рода.
Но и сами законы скоро начинают выглядеть как данные, требующие, чтобы их вписали в более широкий гештальт, или модель, а концептуализация этой модели сама требует вмешательства герме-

6.3. Герменевтическое измерение науки |
491 |
невтического момента. Это – рождение теории, которое, таким образом, совпадает – в свой начальный момент – с предложением некоторой модели, понимаемой как глобальное ви1дение, как некоторый «способ представления» всей совокупности данных и уже открытых законов. Но возможности «понимания» данного множества данных в рамках определенного объединения – как мы неоднократно подчеркивали – многообразны; и каждое объединение добавляет к данным нечто свое, что порождает проблему проверки, не является ли это «нечто» более или менее произвольным. Это все равно что сказать, что теорию надо проверить. Но как это можно фактически сделать?
Ответ состоит в том, что для проверки теории мы должны сделать ее явной и сформулировать ее в языке; а это соответствует переводу ее интуитивного содержания, ее глобального инсайта в конечное множество гипотез, интенция которых – зафиксировать, так сказать, ее наиболее характерные черты. Интересно отметить, что на этой стадии происходит некоторого рода отделение теории от ее модели, поскольку теория, благодаря тому, что она становится языковым переводом модели, фактически отсылает к ней и только через это также и к объектам, которые, как мы знаем, включены в нее.
В этом очень кратком представлении мы можем найти удовлетворительную интерпретацю одного из нескольких смыслов, в которых используется понятие модели, смысла, подразумеваемого в высказывании, что иногда модель действует как «замещение теории» (а не простая «преамбула к теории», как мы отмечали выше). Типичный случай этого рода – модель атома Бора, фактически являющаяся теорией атома. Действительно, если бы мы хотели представить боровскую теорию атома, мы не могли бы сделать ничего, кроме как представить его модель, так что теория Бора есть в конечном счете теория его модели. Если мы понимаем модели уже не как просто имеющие вспомогательную функцию «иллюстрирования» теорий (функцию, которую иногда имеют некоторые модели), но как сущие, которые даже «конструируют» области объектов теорий, и из которых сами теории генетически следуют, последовательность требует сказать, что теория есть теория ее модели. Конечно, можно сомневаться в нашем способе различать модели и теории, а также в том, как мы можем говорить, что теория есть теория некоторой модели. И теория, и модель, даже если они задумываются как различные, говорят о реальности, как это определяется интенцией теоретика (и, в интерсубъективном плане,
