
- •Понятие договора купли-продажи
- •Элементы договора кп.
- •Содержание договора кп.
- •Товар должен быть передан в установленный срок.
- •Продавец должен передать товар со всеми принадлежностями и документами.
- •Продавец должен передать товар в согласованном количестве.
- •Товар должен быть передан в согласованном ассортименте.
- •Товар должен быть передан в соответствующей комплектности или в соответствующем комплекте.
- •Продавец должен передать товар надлежащего качества.
- •3 Правила ст.477 гк рф:
- •Последствия обнаружения в товаре недостатков, за которые отвечает продавец.
- •Продавец должен передать товар, свободным от прав и притязаний третьих лиц.
- •Продавец должен передать товар в надлежащей таре или упаковке.
- •Оплата в кредит (ст.488 гк рф);
- •Предварительная оплата (ст.487 гк)
- •Отдельные разновидности договора кп.
- •§1.Розничная кп.
- •§2 Главы 30 розничной кп посвящен, собственно, п.1 ст.492 гк рф содержит легальную дефиницию данной разновидности договора кп.
- •§2. Договор поставки.
- •§3. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд.
- •§4 Главы 30, который прямо посвящен птдн.
- •§3 Главы 30, потому что это разновидность поставки.
- •§1 Главы 30 гк.
- •§4. Контрактация.
- •§ 5 Главы 30;
- •§ 3 Главы 30 в части, не противоречащей;
- •§ 1 Главы 30 в части, не противоречащей.
- •§5. Энергоснабжение.
- •§6. Продажа недвижимости.
- •§7. Продажа предприятия (самостоятельно).
§2. Договор поставки.
Регламентируется предписаниями §3 Главы 30 в части, не противоречащей специальным правилам, предписания §1 Главы 30.
Легальная дефиниция договора поставки содержится в ст.506 ГК РФ.
Договор поставки - такая разновидность КП, по которой продавец, осуществляющий ПД, обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в ПД или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Признак, который предопределяет выделение поставки в качестве самостоятельной разновидности договора КП это субъектный состав.
Поставка – это феномен, который характерен только для нашего правопорядка. Так уже получилось, что придумали поставку мы. Причем, придумали поставку еще в дореволюционном законодательстве. И в дореволюционном законодательстве поставка выделялась по критерию несовпадения моментов заключения и исполнения. Этот признак был базовым для дореволюционного понимания конструкции поставки, причем, тогда поставка являлась разновидностью КП. В советское время феномен поставки эксплуатировали в совершенно других целях – это был договор, который регламентировал отношения между профессиональными участниками оборота – государственными предприятиями и учреждениями. Поставка выступала как средство доведения до этих участников оборота планов. Причем, она в советское время получала столь специфическое регулирование, что крайне распространенным было мнение о самостоятельном характере договора поставки.
С т.з. сегодняшнего правопорядка система расположения правил о поставке не дает усомниться в том, что это разновидность КП. Причем, именно субъектный признак является сегодня единственно значимым для квалификации договора как поставки.
Исходя из легального определения, ст.506 ГК РФ, сегодня поставка – это, условно говоря, предпринимательская КП. Зачем надо было отдельно регулировать такой договор? Речь идет о взаимоотношениях профессиональных участников оборота. Ввиду того, что, профессионалы должны играть по особым правилам, появилось регулирование, которое воплощено в предписаниях §3. В нашем регулировании договора поставки это регулирование является самым модерновым из всего объема договора КП, потому что, по большому счету, §3 Главы 30 – это переписанная с некими российскими реалиями, с хохломой, Венская Конвенция 1980 года о международных договорах КП. Очень многие институты, воплощенные именно в договоре поставки и почему то не характерные для иных разновидностей договора КП, воплощены именно в §3 Главы 30.
ст.506 ГК РФ устанавливает требования к субъектному составу соответствующего договора, требования, обязательное наличие которых предопределяет возможность квалификации данного договора как договора поставки. В ст.506 сформулированы требования относительно продавца. Чтобы договор мог квалифицироваться как поставка продавец должен быть лицом, осуществляющим ПД. Лицо, осуществляющее ПД это: ИП, коммерческая организация и некоммерческая организация.
Что касается противоположной стороны покупателя, то здесь мы прямых требований к данной фигуре не находим. Законодатель характеризует покупателя косвенным образом, через параметр – цель приобретения. Мы опять сталкиваемся с трихотомическим делением соответствующих целей.


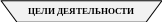

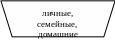
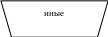
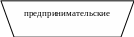
Все цели делятся на предпринимательские; личные, семейные, домашние и иные. Иные: уже не предпринимательские, но еще не личные, семейные и домашние.
Для того чтобы договор квалифицировался как поставка с т.з. ст.506 ГК РФ покупатель должен действовать либо с целью предпринимательской, либо с целью иной, не связанной с предпринимательской деятельностью, но никогда не с целью личного, семейного, домашнего использования.
Получается, что покупателем по договору поставки может быть тот, кто способен принципиально преследовать указанные цели и реализовывать их при приобретении соответствующих товаров. Это, во-первых, ИП, коммерческая организация, некоммерческая организация. При этом, они могут действовать как с целью осуществления ПД, так и с иной целью.
В розничной КП у нас точно также характеризовался продавец – как лицо, осуществляющее ПД и в этом качестве мог выступать ИП, коммерческая организация и некоммерческая организация. И точно также характеризовался покупатель через цель соответствующей деятельности, при этом, цели были трихотомические, и в розничной КП покупатель должен был действовать либо с целью личного, семейного и домашнего использования, либо иного, но никогда не предпринимательского. Если мы попытаемся совместить соответствующие схемы, то мы видим, что у них есть один совпадающий сегмент.
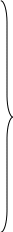
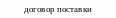
(2) личное, семейное, домашнее использование |
(3) иное использование |
(1) предпринимательская деятельность |
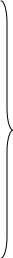
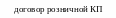
Если покупатель действует с предпринимательской целью – это может быть только поставкой при выполнении соответствующих требований к фигуре продавца.
Если покупатель действует цельюличного, семейного, домашнего или иного использования, при выполнении соответствующих требований к фигуре продавца, это может быть только розничной КП.
Средний сегмент. И получается, что в поставке продавец – это лицо, осуществляющее ПД, а покупатель может действовать с иной целью, и в розничной КП продавец – это лицо, осуществляющее ПД, а покупатель может действовать с иной целью.
Возникает вопрос: в этом среднем сегменте, совпадающем у соответствующих договорных конструкциях, как должен квалифицироваться договор? Если продавец предприниматель, а покупатель действует с иной целью, как должен квалифицироваться соответствующий договор: как поставка или как розничная КП?
Единственное отличие между этими легальными определениями, это то, что характеризуя фигуру продавца, ст.492 ГК РФ говорит, что не просто осуществляющее ПД, а осуществляющее ПД по продаже товаров в розницу. В поставке подобного уточнения нет. Поэтому получается, что единственным способом правильной квалификации ситуации, при которой продавец предприниматель, а покупатель действует с иной целью, единственным критерием правильной квалификации является фигура продавца. Если это лицо, осуществляющее продажу товаров в розницу, то это розничная КП, если же соответствующее лицо, осуществляя ПД, осуществляет продажу иным образом, тогда это поставка.
п.5Постановления Пленума ВАС РФ №18 от 22 октября 1997 года «О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о договоре поставки»: «Если в этой роли выступает лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу (напр., магазин), отношения сторон должны регулироваться нормами о розничной купле-продаже (§ 2 гл. 30 ГК РФ). Если же в качестве продавца выступает иной предприниматель (напр., изготовитель товара) – о поставке (§ 3 гл. 30 ГК РФ)».
Ключевое значение у нас будет иметь способ организации соответствующей ПД продавцом. Если это магазин, значит, розничная КП, ежели это иной способ организации деятельности, например, изготовитель, значит, это поставка. Волне может быть, это не самый лучший критерий. Более того, мы достаточно легко можем смоделировать ситуацию, когда одно и то же лицо одновременно осуществляет ПД по продаже собственных товаров и через магазин, и напрямую через завод. Например, завод-изготовитель офисной мебели. У него есть договорный отдел, и у него при заводе тут же есть магазин, не являющийся самостоятельным ЮЛ. Здесь применение этого критерия будет оказываться достаточно сложным, но, в принципе, все равно возможным, потому что мы будем смотреть, а каким образом заключался договор: через магазин, значит, розничная КП, вне магазина, через договорный отдел – поставка.
Говоря о субъектном составе договора поставки, мы должны отметить, что этот субъектный состав может осложняться за счет появления фигуры получателя. Категория «получатель» используется достаточно часто в §3 Главы 30.
В обычных условия у нас есть две стороны договора: поставщик (продавец) и покупатель.

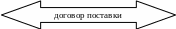

Но может появляться еще фигура получателя. Возникает закономерный вопрос: откуда, во-первых, этот получатель берется? Фигура получателя может быть сразу установлена в договоре, а может появляться на основании отгрузочной разнарядки. Отгрузочная разнарядка – это одностороннее волеизъявление покупателя, определяющее базис поставки, место исполнения соответствующего обязательства по передачи товара, и зачастую лицо, управомоченное на принятие исполнения. А почему покупатель вправе давать такие односторонние указания, обязательные для исполнения поставщика? Потому что они до этого так договорились, об управомоченности покупателя делать такие заявления. Экономически понятно, очень часто покупатель не заинтересован сам в получении этого товара.

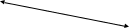







Например, заключив договор в качестве покупателя, он, будучи расчетливым человеком, из нынешнего меркантильного поколения, он уже заключил иной договор. Здесь он покупает соответствующий товар за 20р. (1), а здесь заключил иной договор, сам вступает уже в роли продавца (поставщика) с 3-м лицом, которое в рамках этого договора будет покупателем. И продает тот же самый товар за 50р (2). Он здесь подешевле купил (1), тут подороже продал (2), жизнь удалась. При этом можно дальше с т.з. техники: по первому договору поставщик передает товар сюда (покупателю), покупатель принимает его и по второму договору, действуя уже как продавец, передает товар получателю. Но это увеличивает издержки, связанные с исполнением. Условно говоря, дельта в 30 рублей, она за счет второго договора может в значительной степени сдуться. Поэтому вполне возможно и экономически желательно в подобной ситуации использовать иную схему: договориться о том, что поставщик сразу передаст товар третьему лицу, получателю.
В основе появления фигуры получателя, применительно к взаимоотношениям поставщик - покупатель, всегда лежат какие-то внутренние взаимоотношения. Т.е. почему-то покупателю выгоднее, чтобы товар был получен здесь (поставщик), почему – этот вопрос совершенно другого порядка, который вряд ли имеет ключевое значение. Может быть они аффилированы и для их общего бизнеса необходимо, чтобы товар был получен здесь, может быть он в дальнейшем продал товар (как в случае на рисунке), это не имеет значения. Самое главное, что эти отношения всегда наличествуют, но с т.з. этого договора (1) эти отношения являются внешними и к этому договору не имеют никакого касательства. Отсюда ввиду наличия этих внутренних отношений покупатель либо сразу оговаривает, что местом исполнения будет место нахождения третьего лица получателя, а лицом, управомоченным на принятие исполнения будет это самое третье лицо – получатель. Либо выговаривает себе право установить в будущем посредством отправления отгрузочной разнарядки подобные условия.
Вопрос о правовом положении получателя. Явно, что получатель – не сторона в договоре. Потому что стороной в договоре является тот, кто участвует в его заключении. Раз не сторона в договоре, значит, это 3-е лицо.
Точки зрения:
Получатель – это третье лицо, в пользу которого заключен договор, т.е. это выгодоприобретатель, а соответствующие отношения по договору поставки с участием получателя подпадают под регулирование ст.430 ГК РФ, той базовой статьи, регламентирующей феномен договора в пользу третьего лица.
Получатель – это третье лицо, управомоченное на принятие исполнения. Соответственно, исполнение обязательства по договору поставки с участием получателя охватываются ст.312 ГК РФ – исполнение обязательства надлежащему лицу. Там указано, что исполнение обязательства надлежащему лицу является исполнение кредитору, его представителю или иному лицу, управомоченному на принятие исполнения.
В чем принципиальная разница между этими конструкциями. Главное сущностное различие состоит в том, что если это договор в пользу третьего лица (1), то третье лицо имеет право требовать исполнения соответствующего обязательства. Если же это договор, предусматривающий переадресовку исполнения, а получатель – это третье лицо, управомоченное на принятие исполнения (2), то он может совершить лишь фактические действия, необходимые для принятья исполнения, но правом требовать исполнение он не обладает.
Соответственно, для ответа на поставленный вопрос нам надо искать в тексте §3 Главы 30 тезисы, нормы, которые могли бы нас убедить в том, что получатель имеет право требовать исполнения. Если мы такого не найдем, значит, по умолчанию правильным будет последний подход. Найти такие указания в пользу первой позиции по тексту §3 Главы 30 мы не сможем. Но по тексту §3 Главы 30 мы можем встретиться с иным регулированием. Например, ст.518 ГК РФ, которая регламентирует вопрос о качестве и указывает: покупатель (получатель) вправе предъявлять требования в соответствии со ст.475 ГК РФ. Дальше, ст.519 ГК РФ о некомплектности: требование из ненадлежащего с т.з. данной опции исполнения могут предъявляться не только покупателю, но и получателю. Ст.520 ГК РФ, и таких случаев много. Самый главный вопрос: достаточно ли этих случаев, чтобы утверждать, что получатель имеет право требовать исполнения в свою пользу?
В §3 Главы 30 мы можем многократно увидеть на допустимость предъявления требования из ненадлежащего исполнения, но для нас искомым является увидеть там возможность предъявления требования об исполнении, а такого мы не найдем. То, что, не являясь стороной договора, получатель наделяется возможностью применения тех или иных способов защиты, это всегда можно списать на специальное нормативное регулирование. У нас много ситуаций, при которых право на использование механизмов защиты предоставляется лицу, которое не является стороной договора, и при этом, договор не считается договором, заключенным в его пользу. Только в розничной КП за счет разъяснения ВС мы видели, что лицо, приобретшее имущество у потребителя, наделяется возможностью использования соответствующих способов защиты по ст.503 ГК РФ. Но от этого оно не становится стороной договора. От этого становится оно 3-м лицом, в чью пользу заключен договор? Тоже не становится. Вот эти возможности использования способов защиты – это легко списываемо на специальные законодательные указания. Поэтому никаких весомых аргументов в пользу 1 позиции в тексте §3 Главы 30 нет. Следовательно, мы должны воспринимать получателя именно как 3-е лицо, управомоченное на принятие исполнения,а в отдельных случаях, прямо предусмотренных законом, и наделенное возможностью использования тех или иных способов защиты.
Именно такой подход к пониманию фигуры получателя, к пониманию правового положения получателя является на сегодня господствующим и с позиций доктрины, и с позиций правоприменительной практики.
Следующая особенность, которая достаточно часто выделяется в литературе как присущая договору поставки – это специфика предмета. Здесь необходимо еще раз обратиться к ст.506 ГК РФ. Характеризуя договор поставки в ст.506 ГК РФ, законодатель указывает, что предметом поставки могут выступать производимые или закупаемые поставщиком товары. Из этой фразы некоторые исследователи делают вывод о том, что только лишь производимые или закупаемые поставщиком товары могут являться предметом данного договора. Однако такая позиция некорректна, потому что основание приобретения этого товара вряд ли играет какую-либо роль при квалификации договора. Тогда что будет получаться? Что если те же самые товары получены в результате универсального правопреемства, т.е. при реорганизации – преобразовании, то тогда они уже не могут быть предметом договора поставки, и тогда заключенный по поводу таких товаров договор не может быть квалифицирован как поставка? Понятное дело, что не вкладывает законодатель в ст.506 ГК РФ смысл ограничить возможные предметы. Смысл этого указания состоял, на взгляд А.А., в том, чтобы показать здесь принципиальную допустимость формата ст.455 ГК РФ, т.е. допустимость заключения договора поставки как по поводу товаров, которые имеются в наличии, так и по поводу товаров, которых в момент заключения нет. Просто сделано это было за счет не самых удачных формулировок. Буквальное толкование является с т.з. сегодняшней догматики маргинальной позицией, никакие более или менее серьезные исследователи такого подхода не поддерживают. Но вывод об особости предмета договора поставки раздается достаточно часто.
Например, очень часто в литературе встречается указание на то, что предметом поставки могут выступать только родовые вещи. В подтверждение этой позиции, ссылаются на предписания прежнего законодательства – законодательства советского периода. Однако это утверждение и соответствующая отсылка являются спекулятивными, потому что с т.з. статистической – да, в большинстве случаев предметом договора поставки выступают родовые вещи, но это всего лишь статистика. Означает ли это, что предметом договора поставки не может быть индивидуально-определенная вещь? Никаких прямых или косвенных запретов на подобное мы в рамках §1 Главы 30 не найдем. Кроме того, единственным квалифицирующим признаком, предопределяющим вывод о том, что перед нами договор поставки, является субъектный состав. В этой связи все остальные признаки индифферентны для правильной квалификации соответствующего договора.
Поскольку у нас нет никаких ограничений в рамках §3, мы можем констатировать, что предметом договора поставки способно быть все то, что может быть предметом договора КП.
Два достаточно дискуссионных вопроса, относительно недвижимости и относительно имущественных прав. Мейнстрим современной отечественной доктрины отрицает возможность заключения договора поставки, если предметом такого договора является недвижимость или имущественные права. Причем, аргументы, которые здесь приводятся, они совпадают с той аргументацией, которая также отрицает возможность заключения по поводу данных предметов договора розничной КП. Аргументация эта, она вряд ли может быть признана исключающей помыслить иной вариант ответа.
По поводу недвижимости - есть отдельный §, но мы уже об этом говорили: есть отдельный параграф. Но смысл не в том, что если поставка недвижимости будет возможна, то она уйдет из регулирования §7. Данные договорные конструкции выделены по разным квалификационным критериям. А, следовательно, если поставка недвижимости возможна, то к такому договору одновременно будет применяться и §7, регулирующий продажу недвижимости, и §3, регулирующий поставку. Очевиднейший плюс в таком регулировании состоит в том, что мы сохраним систематику. Для чего поставка? Для того чтобы регламентировать отношения высшей лиги. Предприниматели играют по своим гамбургским правилам, которые не должны использоваться для отношений непрофессиональных субъектов. Если это так, тогда вопрос: если предметом выступает движимая вещь, они должны играть по особым правилам, это должно быть высшей линией, а если предметом является недвижимость, то они должны спускаться на уровень КФК [коллектив физической культуры – название, принятое в СССР для любительских спортивных команд] и играть по дворовым правилам? Отсутствует просто систематика. В конце концов, вся аргументация в пользу того, что предметом договора поставки не может, например, быть недвижимость, он сводится к следующему. У нас на кафедре полное соответствие современной отечественной доктрине, подавляющее представителей кафедры ГП считают, что предметом недвижимость быть не может. Вся дискуссия на сей счет заканчивается очень простым аргументом с той стороны: «Ну пойми же, недвижимость поставляться не может». Так не надо к словам придираться. Причем тут недвижимость не может поставляться? Имеется в виду не то, что его взяли, погрузили на вагон и повезли. Никто не говорит, что доставка является обязательным элементом отношений поставки. Поэтому при всем отрицательном отношении доктрины к этому вопросу, аргументов, которые исключали бы саму возможность спора, здесь не приведено.
Точно также с имущественными правами. Начинается: «Но ведь подавляющее большинство норм §3 Главы 30 к этим отношениям будут неприменимы. Как нам выборку имущественных прав осуществить? Как нам применить правила о периодах поставки и т.д.?» Отрицательный ответ на этот вопрос можно было бы дать только в том случае, если бы ни одна из норм не могла бы быть применена. А то, что не могут быть применены некоторые их них, это не предопределяет ответ. У нас, в конце концов, предметом договора КП могли быть имущественные права, в этом нет никаких сомнений, но там тоже очень многие нормы: о таре и упаковке, никак не применяются, но это не смущало нас в выводе о том, что предметом договора КП вообще могли быть имущественные права. Нас даже не смущало, что в самом легальном определении ст.454 ГК РФ написано: по договору КП продавец передает имущество в собственность. Понятное дело, что по отношению к имущественным правам категория «собственность» не употребима. Поэтому неприменимость отдельных положений всегда можно списать на специфику предмета, и только если ни одна из норм не будет применима, тогда вывод может быть справедливым. Поэтому мы должны знать современное состояние доктрины в этом вопросе.
Пример, в связи с характеристикой предмета договора поставки иногда появляются инсинуации, противопоставляющие поставку розничной КП, противопоставляющие таким образом, что поставка – это оптовая КП. Отсюда делается вывод, что количество имеет значение для квалификации договора. На самом деле это не так, у нас нет количественного показателя как квалифицирующего признака розничной КП и признака поставки. Но специфика предмета в целом ряде судебных решений выполняет фактически роль критерия разграничения. В прошлом году в Ленинградском областном суде был чрезвычайно занимательный пример. Дяденька-ИП купил изотермический фургон, который оказался некачественным по полной программе (11 существенных недостатков). Дяденька, недолго думая, на основании ст.18 ЗПП предъявляет соответствующие требования в суд. Перед судом стоит ключевой вопрос: как квалифицировать соответствующий договор? Понятное дело, что при определенном аспекте он мог бы быть квалифицирован по ЗПП, хотя А.А. такой аспект представить сложно, поскольку он его приобретал как ИП. По первым инстанциям в пользу дяденьки выносились решения. В итоге, Ленинградский областной суд прекратил производство по делу за неподведомственностью соответствующего спора СОЮ, т.е. по сути дела признал, что соответствующий договор не является договором розничной КП, тем более не подпадает под действие ЗПП. Вроде бы главным жупелом в этом тексте Постановления Леноблсуда выступало то обстоятельство, что изотермический фургон является таким товаром, который не может быть использован в целях личного, семейного, домашнего или иного использования. Этот вывод сам по себе взятый не совсем справедлив. Нам достаточно легко смоделировать вариант, при котором изотермический фургон будет для личных, семейных и домашних целей использоваться. Классическая детская книжка: «Папа, 8 детей и автомобиль». Вроде бы вывод базируется на невозможности предмета для договора розничной КП, а по сути дела получается, что предмет предопределяет квалификацию договора. Но на самом деле дяденьку сгубило другое. Когда дядя доказывал по 1 инстанции моральный вред, который ему был причинен, который он на основании ЗПП требовал, он сказал: 5 контрактов неисполненных, в связи с тем, что автомобиль некачественный. 5 контрактов – что уже показывало, что соответствующий товар исходно после приобретения используется именно для его целей деятельности как ИП. И странно, почему не за это зацепился суд. Может быть, это в итоге предопределило формирование мысли, но это очень относительно указано в самом Постановлении. Поэтому само по себе решение суда в этом примере правильное, но только мотив должен быть – не особенность предмета, а цель приобретения, которая косвенно доказывалась даже через те документы, которые представил в дело сам истец.
Договор поставки, как правило, опосредует длительные хозяйственные связи, поскольку для него характерно несовпадение моментов заключения и исполнения договора. Это несовпадение характерно чисто статистически. Т.е. в подавляющем большинстве случаев договор поставки заключается и исполняется в разные моменты времени, но с позиций сегодняшнего правопорядка несовпадение не является квалифицирующим признаком. Единственный квалифицирующий признак поставки – субъектный состав.
Договор опосредует длительные хозяйственные связи, и в этой связи особое значение для договора поставки приобретает срок. Вопрос о значении срока для договора поставки является вопросом дискуссионным. В рамках доктрины подавляющее большинство исследователей полагают, что условие о сроке является существенным условием договора поставки. И напротив, судебная и арбитражная практика в своем подавляющем большинстве рассматривает условие о сроке как несущественное условие. Вопрос о значении срока – это пример того, когда раздел происходит: доктрина против практики.
Исходным мотивом для отношения практики к соответствующему вопросу послужило разъяснение ВАС, которое содержится в п.7 Постановления Пленума №18: «В случаях, когда моменты заключения и исполнения договора не совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара и из договора не вытекает, что она должна осуществляться отдельными партиями, при разрешении споров необходимо исходить из того, что срок поставки определяется по правилам, установленным ст.314 ГК РФ (ст.457 ГК РФ)».
ВАС был далек от мысли универсальным образом утверждать: срок не является существенным условием договора поставки. ВАС сказал всего-навсего, что в случаях, когда речь идет об одновременной поставке, т.е. нет партий, только в этом случае, при том, что договор не должен исполняться в момент заключения по его условиям, срок не является существенным условием. Судебная практика стала стабильно читать это разъяснение без первых уточнений: «В случаях, когда моменты… отдельными партиями…». Это почему-то куда-то опустилось и все стали читать: в договоре поставки срок не является существенным условием и может быть определен в случае его отсутствия общей восполняющей нормы ст.314 ГК РФ. Хотя ВАС РФ в этом разъяснении был далек от мысли сделать универсальный вывод относительно договора поставки вообще. Это первое обстоятельство, которое предопределило остроту соответствующего спора.
Обратимся к противоположной позиции, которая объясняет нам, почему срок – это существенное условие договора поставки. Самое распространенное объяснение базируется на предписаниях легального определения, ст.506 ГК РФ. Очень часто можно встретить вывод, что раз в ст.506 ГК РФ написано: «в обусловленный срок», значит, тем самым, для поставки уже срок становится существенным условием. А.А. кажется, что этот аргумент достаточно наивен и некорректен. Само по себе упоминание того или иного параметра в легальном определении вряд ли может предопределить вывод о существенности или несущественности условия. Самый показательный пример: в легальном определении договора КП у нас упоминается такой параметр как цена: «…а покупатель должен принять и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)…». Становится ли от этого указания условие о цене существенным в договоре КП? Явно не становится, потому что у нас есть общее правило, касающееся любых возмездных договоров, которое действует всегда, когда не установлено никаких изъятий. Если мы возьмем легальное определение договора аренды – ст.606 ГК РФ, то увидим там указание и на арендную плату, и на срок. При этом ни первое, ни второе к числу существенных условий аренды не относится, и анализ правил Главы 34 это доказывает.
Поэтому нет никакого зависимости между упоминанием того или иного параметра в легальном определении и выводом о том, что это условие является существенным. В легальном определении упоминаются определенные параметры, которые значимы с т.з. понимания сущности, понимания модели договора, но это не делает эти параметры существенным условием автоматически. Поэтому это самое распространенное утверждение, в пользу того, что срок – это существенное условие, он наивен и не имеет под собой никакого серьезного анализа.
Есть ли иные аргументы в пользу того, что срок – существенное условие? Они есть и куда более серьезного порядка. В частности, если мы скажем, что срок – это не существенное условие, то у нас станут невозможными к применению целый ряд ключевых правил для договора поставки. В частности, ст.508, 511 и 521 ГК РФ.
Ст.508 ГК РФ, говорит нам о периодах поставки и предусматривает в п.1 общую презумпцию: если периоды поставки в договоре не предусмотрены, поставка должна осуществляться равномерными партиями в течение всего срока действия договора. Если в подобной ситуации срок – не существенное условие, то у нас нет делителя. Мы не можем определить базовую величину, которую на равномерные части будем раскладывать.
Ст.511 ГК РФ содержит правило о восполнении недопоставки. Поставщик, допустивший недопоставку, должен восполнить недопоставленное в следующем периоде в пределах срока действия договора. Ст.511 ГК РФ однозначно толкуется и в судебно-арбитражной практике, как прямое изъятие из правил ст.425 ГК РФ. Из курса общей части мы знаем, как влияет срок действия договора на обязанности из этого договора вытекающие? Никак не влияет, они не прекращаются. Но ст.425 ГК РФ устанавливает данное регулирование только лишь как общее правило, иное может быть предусмотрено законом или соглашением сторон. Ст.511 ГК РФ воспринимается и догматикой, и правоприменительной практикой как исключение из правил ст.425 ГК РФ. Здесь считается, что если есть срок действия договора, и получается, что в этом промежутке должен поставить 10, фактически поставляет 9, этот 1 должен поставить в следующем периоде. Должен поставить в следующем периоде, т.е. если там тоже 10, то уже должен поставить 11. В следующем периоде, но в пределах срока действия договора. Считается, что если допустим, в этом периоде вместо 11 поставлено 7, эти 4 недопоставлено, то после истечения срока действия договора требовать исполнения обязанности в натуре уже невозможно, потому что истечение срока действия договора прекращает обязанность по передачи товара. Это не значит, что, допустим убытки, причиненные недопоставкой нельзя взыскать – можно, но требовать передачи после истечения срока договора принципиально недопустимо. Как раз, ст.511 ГК РФ: обязан восполнить в следующем периоде, но в пределах срока действия договора. Раз договор закончился, значит, уже фактически восполнять ничего не обязан. Получается, если у нас нет срока действия договора, как данное правило можно применить? Если срок – это не существенное условие, то формула ст.511 ГК РФ накрывается медным тазом. А она – один из базовых показателей. Не случайно, она – одно из немногих нормативных исключений из правила ст.425 ГК РФ.
На той же логике базируется и ст.521 ГК РФ, которая устанавливает механизм взыскания штрафных санкций за недопоставку, и там точно также говорится: поставщик, допустивший недопоставку, обязан уплатить неустойку, если таковая предусмотрена договором, но обязан уплатить эту неустойку только в пределах действия договора.
Получается, что если за недопоставку установлена неустойка, то эта неустойка будет исчисляться только до момента срока действия договора. Истечение срока действия договора заморозит величину соответствующей неустойки, исчисляться дальше она не будет, взыскать ее возможно, но исчисляться дальше она не будет, потому что неустойка за недопоставку, а обязанность по поставке прекращается истечением срока действия договора. Получается опять, что если срок – несущественное условие, то применить правила ст.521 ГК РФ, применить правила о периоде, за который будет начисляться неустойка, оказывается принципиально невозможной.
В итоге получается, что целый ряд ключевых, достаточно значимых с т.з. формулы поставки правил не может быть применен, если предположить, что срок – несущественное условие договора. Из чего, от противного мы получаем вывод, что срок – существенное условие.
Если мы с т.з. данного аргумента еще раз взглянем на исходную позицию ВАС, не в извращенном нижестоящими звеньями виде, то увидим, что она – зло. Потому что также правила ст.511, 521 подвисают, но она зло, достаточно незначительное, потому что проблемы ст.508 ГК РФ там нет, потому что ст. 508 ГК РФ рассчитана на передачу товара по частям, а исходное разъяснение ВАС РФ этой ситуации вообще не касалось.
Единственное, что сейчас этот спор в значительной степени нивелирован, но нивелирован не потому, что кто-то из противоборствующих сторон уступил. Он нивелирован за счет принципа непротиворечивого поведения, который последовательно проводит судебно-арбитражная практика. Принципу, который исходит из того, что исполненное не может быть незаключенным. Т.е. если произошло исполнение, то ставить вопрос о незаключенности соответствующего договора принципиально невозможно. Последовательное проведение судебной практикой в жизнь этого принципа, градус спора по вопросу о том, является ли срок существенным условием договора поставки, в значительной степени снимает, потому что если исполнение произошло, т.е. товар передан и принят покупателем, то дальнейшая постановка вопроса о существенности этого условия или несущественности принципиально невозможна. Невозможна не потому что срок – несущественное условие договора поставки, а потому, что раз стороны стали исполнять этот договор, значит, никаких недопониманий с т.з. его регулирования в этой ситуации не имеют. Данный тренд является единственным спасителем соответствующей ситуации, потому что стороны исчерпали все аргументы в этом споре, а дальше только рукопашное решение.
Специфика регулирования вопроса о заключении договора.
Договор поставки в нашей отечественной интерпретации воплощает в себе самое новейшее регулирование, характерное для мирового торгового оборота. В поставке появляются институты, которые, к сожалению, нигде больше в нашем правопорядке не встречаются. Один из таких институтов регламентирован ст.507 ГК РФ. Она говорит о том, что оферент, получивший на свое предложение о заключении договора встречную оферту, обязан к активному поведению. Т.е. получив на свое предложение о заключении договора встречную оферту, исходный оферент должен либо акцептовать ее, либо направить контроферту, либо направить указание об отказе от акцепта, но никогда по ст.507 ГК РФ исходные оферент не может промолчать в ответ на полученную встречную оферту. Это регулирование есть ничто иное как воплощение принципа преддоговорной ответственности. В данном случае ответственность за недобросовестное ведение переговоров. Т.е. если ты инициировал переговоры, ты должен вести себя подобающим образом, никто не обязывает тебя к заключению договора, ты не обязан, получив встречную оферту, ее непременно акцептовать и заключить договор на тех условиях, которые тебе предложили, но ты, инициировав переговоры, должен вести себя активно, должен вести себя в канве предшествующего поведения. Ты не можешь взять и просто так из переговорного процесса выйти, не обозначив свою позицию. Если ты так поступаешь, то ты недобросовестно ведешь переговоры, и ст.507 ГК РФ говорит о том, что ты можешь стать обязанным к возмещению причиненных другой стороне убытков.
Нормы ст.507 ГК РФ, заслуживают самых лестных оценок. Возникает другой вопрос: почему в договоре поставки эта норма содержится, почему к другим гражданско-правовым институтам такое регулирование не применимо? Аргумент в пользу того, что поставка – это предпринимательский договор вряд ли срабатывает, потому что у нас из 26 поименованных конструкций только 1 не может быть предпринимательской - дарение, все остальные в формат предпринимательских договоров вписываются. Чем так была замечательна именно поставка, что там вопрос о договорной ответственности поставлен и разрешен, а для других договоров нет? Явно, что эта норма ст.507 ГК РФ не в §3 Главы 30 должна быть, она должна быть в общих положения о договорах, в общих положениях об обязательствах, в Части 1 ГК РФ.
Специфика содержания договора.
Обязанности поставщика (продавца) по передаче товара.
Ст.508 ГК РФ, воплощает регулирование, достаточно часто статистически встречающееся в рамках отношений поставки. Чрезвычайно часто в договоре поставки, исполнение этого договора происходит не единовременно, а по частям. В этой связи ключевое значение приобретают такие категории как периоды поставки и график поставки.
В ст.508 ГК РФ есть правила, относительно регулирования периодов поставки, т.е. если они в договоре прямо не указаны, то равномерными партиями ежемесячно. Также обратить внимание на специфическое регулирование по сравнению с общими правилами, которое содержится в п.3 ст.508 ГК РФ, где речь идет о досрочной поставке. В этой связи необходимо вспомнить общее правило ст.315 ГК РФ. Как решался вопрос о досрочной поставке в ст.315 ГК РФ? В обязательствах, связанных с осуществлением ПД, общее правило - недопустимость досрочного исполнения, иное может быть предусмотрено законом или договором. А в ст.508 ГК РФ вводится более гибкий инструментарий – согласие. Т.е. вполне возможен формат, при котором в самом договоре никакого регулирования, относительно досрочной поставки не было, но она возможна, если покупатель дал на то согласие. Это регулирование куда более удачно, чем исходная формула ст.315 ГК РФ, где изменить исходное правило о недопустимости можно было только соглашением. Здесь же куда более гибкое регулирование в виде согласия. Причем, раз у нас указана категория согласия, то мы должны понимать, о каком согласии идет речь: о предварительном или о последующем? Правильный ответ: о любом. Вообще термин «согласие», он уже в себя имманентно включает как согласие предварительное, так и согласие последующее.
Ст.514 ГК РФ, посвящена такому феномену как ответственное хранение. Вопрос об ответственном хранении возникает в ситуации, когда у покупателя есть в силу закона или договора право отказаться от принятия товара. Если мы вспомним общее регулирование вопросов о передаче товара, то можем попутно вспомнить, что практически все нарушения так или иначе дают покупателю право отказаться от товара. Например, если нарушение ассортиментное, покупатель вправе отказаться от товара. Если нарушение количественное, тоже при определенных условиях покупатель вправе отказаться от товара. Если нарушение качественное, тоже в ряде случаев покупатель вправе отказаться от товара и т.д. Т.е. таких случаев, когда как механизм защиты покупатель в праве отказаться от принятия товара, достаточно много.
Во всех этих случаях, применительно к договору поставки, ст.514 ГК РФ говорит: если покупатель вправе отказаться от товара, он тем не менее, должен принять его на ответственное хранение.
Не стоит воспринимать данные правила как нивелирующие ту защиту, которая предоставляется покупателю. Смысл ответственного хранения состоит в том, что реализуя свой способ защиты, покупатель должен позаботиться об интересах противоположной стороны, пусть неисправной стороны, пусть нарушившей определенным образом обязательство, вытекающее из договора КП, но, тем не менее, такого же профессионального участника оборота, как и он сам. Речь идет о том, что использование покупателем способа защиты в виде отказа от товара должно происходить с минимальными потерями для продавца. В полном соответствии с этой идеей ст.514 ГК РФ: вправе отказаться – отказывайся, но фактически ты должен принять товар на ответственное хранение, обеспечить его сохранность и возможность распоряжения со стороны продавца. Никто не говорит, что эти действия должны совершаться бесплатно. П.3 ст.514 ГК РФ прямо указывает, что все издержки, связанные с ответственным хранением, должны быть продавцом покупателю компенсированы. Но речь идет о нахождении разумного баланса между интересами покупателя, нуждающегося в защите, и пусть неисправного, но такого же профессионального участника оборота – продавца.
В общем и целом этот феномен соответствует принципу добросовестности, который сегодня является одним из ключевых принципов и современного отечественного ГП вообще. И явно является одним из лейтмотивов регулировании на уровне международных унификаций, его частное воплощение в положениях ст.514 ГК РФ. Причем, ты (покупатель) должен обеспечить сохранность соответствующего товара, что выражается в терминологии «ответственное хранение». Т.е. ты говоришь: я принимаю только для того чтоб сохранить. Не случайно, что к отношениям, связанным с обеспечением сохранности, к отношениям, связанным с ответственным хранением по ст.514 ГК РФ в соответствующей части будут применяться правила Главы 47 о договоре хранения. Соответственно, вопрос об ответственности за несохранность будет решаться по правилам Главы 47.
Особенности прекращения договора поставки.
Ст.523 ГК РФ регламентирует односторонний отказ от договора поставки.
Ключевое значение имеет п.1. Правило состоит в том, что при существенном нарушении договора поставки другой стороной возможен односторонний отказ от договора. В данном случае в качестве способа прекращения используется именно внеюрисдикционный способ – односторонний отказ, в этом принципиальное отличие ст.523 ГК РФ от общих правил ст.450 ГК РФ, где на основании существенного нарушения устанавливалась возможность прекращения договора в юрисдикционном порядке – предъявлением соответствующего требования в суд. Здесь же (ст.523 ГК РФ) односторонний отказ.
Теперь обратим внимание на правила п.2 и п.3 данной статьи. В случае однократного нарушения сроков поставки возможен ли односторонний отказ от такого договора со стороны покупателя? В п.2 и п.3 не дается исчерпывающего перечня оснований для одностороннего отказа. П.1 - при всяком существенном нарушении возможен односторонний отказ. П.2 и п.3 - для ряда случаев нарушение презюмируется существенным. А в иных случаях существенного нарушения, кроме как п.2 и п.3 возможен односторонний отказ? Да, возможен, потому что это подпадает под действие п.1.
Установление п.2 и п.3 вызвано необходимостью фразы «… предполагается существенным…». Поэтому если речь идет о нарушении, которое не поименовано в п.2 или в п.3, и такое нарушение является существенным, односторонний отказ возможен в силу п.1. Но в случае спора о правомерности или неправомерности этого одностороннего отказа, существенность нарушения будет доказывать продавец или покупатель, т.е. тот, кто отказывается.
Если возникает спор, допустим, в случае однократной просрочки поставки, если таковое нарушение является существенным, то возможен односторонний отказ со стороны покупателя. Но в случае, если возникает спор: правомерным или неправомерным был односторонний отказ, покупатель должен доказать, что нарушения являлось существенным, т.е. соответствует всем 5 условиям ст.450 ГК РФ. Если он докажет, значит, его односторонний отказ был абсолютно правомерным и прекратил договорные отношения. Если же речь идет о нарушении конкретно поименованных в п.2 или п.3, бремя доказывания существенности этого нарушения, т.е. бремя доказывания все 5 условий существенности, обозначенных в ст.450 ГК РФ, на отказавшейся стороне не лежит, ибо сам закон говорит, что это нарушение презюмируется как существенное.
Смысл п.2 и п.3 состоит не в том, чтобы ограничить допустимость отказа только 4-мя случаями: 2 в .2, и 2 в п.3, а только чтобы избавить на случай отказа по такому основанию от необходимости доказывания существенности нарушения. Но всякое иное нарушение тоже может быть поводом к одностороннему отказу, если оно является существенным нарушением. Ведь существенность – оценочная категория, которая имеет свои признаки, обозначенные в ст.450 ГК РФ. Поэтому не надо истолковывать ст.523 ГК РФ так, как это делает судебно-арбитражная практика. Они, видимо вслед за нами, однократного нарушения срока поставки в п.2 не фигурирует, значит, односторонний отказ невозможен. Неправда. Возможен. Просто в случае спора надо доказать, что это нарушение (однократная непоставка) носило существенный характер, т.е. в значительной степени лишало того, на что вправе был рассчитывать при заключении договора. Если доказал, значит, твой отказ был абсолютно правомерным, прекратил договорные отношения, и дальнейшее твое поведение по непринятию товара не может влечь за собой негативных последствий.
Специфика ответственности по договору поставки.
Регламентируется ст.524 ГК РФ. Смысл ст.524 КГ РФ состоит в том, что убытки, причиненные расторжением договора, могут исчисляться конкретным или абстрактным способом.
Прежде чем мы приступим к анализу этих правил, необходимо подчеркнуть бессистемность регулирования, потому что данное правила вряд ли характерно только для договоров поставки. Нет в поставке какой-то специфики, которая допустила бы возможность исчисления убытков абстрактным способом, а в других договорах такой предпосылки бы не было. На самом деле, это правило, конечно, должно находится в 1 части ГК РФ, в общих положениях об ответственности. Проект изменений в ГК предполагает подобное, а до него, по всей видимости, по аналогии закона следует применять правила ст.524 ГК РФ и к иным договорам. По крайней мере, к иным предпринимательским договорам однозначно.
П.1 и 2 ст.524 ГК РФ посвящены конкретному способу исчисления убытков, при котором объем возмещаемых убытков представляет собой разницу между ценой неисполненного и расторгнутого договора и ценой договора, заключенного взамен.
Есть у нас поставщик, есть покупатель. Поставщик должен передать некий товар, но свою обязанность не выполняет, в результате чего покупатель, устав ждать, пользуется своими правовыми возможностями и прекращает договорные отношения. Конкретный метод исчисления убытков состоит в том, что если в договоре 1 соответствующий товар стоил 5 рублей, и покупатель заключает заменяющую сделку и приобретает этот товар по цене 10 рублей, то разница между ценой заменяющей сделки и ценой расторгнутой неисполненной сделки и будет составлять убытки покупателя – 5 рублей. Убытки, исчисленные конкретным способом, т.е. это разница между ценой замещающей сделки и ценой сделки исходной.
В ст.524 ГК РФ по поводу конкретного способ исчисления убытков два разных правила для двух разных ситуаций. Ведь возможна и противоположная картина, когда поставщик должен передать товар по 5р., покупатель должен этот товар оплатить и не оплачивает, и уже поставщик расторгает в связи с неоплатой договор. Но поскольку соответствующий товар ему не нужен, поставщик заключает заменяющую сделку с покупателем №2, но поскольку рынок проседает, ему удается заключить соответствующую сделку только по цене 2р. Разница между исходной базовой и ценой замещающей сделки в данном случае составит 3р. убытков, исчисленных конкретным способом, но теперь уже убытков, причиненных поставщику.
Получается, что и в п.1 и в п.2 исчисление убытков производится конкретным способом, потому что обязательным параметром для исчисления убытков является совершение заменяющей сделки. Разница между заменяющей и первоначальной по модулю и будут составлять убытки, а ином случае покупателя, в другом случае продавца.
Весь смысл регулирования в ст.524 ГК РФ - это одновременное установление в п.3 возможности исчисления убытков абстрактным способом. При исчислении убытков абстрактным способом, что допускается п.3 ст.524 ГК РФ, заменяющая сделка не является обязательной, а базовым показателем для исчисления убытков выступает текущая цена на соответствующий товар.
Т.е. в данном случае покупатель, который должен был купить товары по 5р., заключил соответствующий договор с поставщиком, поставщик товар не передал. В результате чего покупатель в одностороннем порядке отказался по ст.523 ГК РФ. Начальные пп. ст.524 ГК РФ говорят: ты можешь совершить заменяющую сделку и на основании ее исчислить убытки, п.3 говорит о том, что ты не обязан заключать заменяющую сделку, ты можешь взять в качестве базового показателя текущую цену, и она будет твоим параметром для исчисления. И убытки абстрактным способом – это разница по модулю между текущей ценой и ценой расторгнутой сделки. Т.е. посмотрел мировые индексы на пирожки, сегодня они 10р., ты не должен заключать в обязательном порядке сделку на условиях 10р., ты можешь взять показатель текущей цены и получить соответствующие убытки по модулю. Это ситуация, при которой базовым показателем для исчисления убытков является текущая цена на товар, а само заключение восполняющей сделки, сделки, взамен расторгнутой, не является обязательной, это правило, воплощено в п.3 ст.524 ГК РФ и называется абстрактным способом исчисления убытков. Ради этого абстрактного способа исчисления убытков ст.524 ГК РФ и была написана, потому что здесь уже нестандартное идет исчисление.
Эти два способа: конкретный способ исчисления убытков и абстрактный способ – это и имплементация в российское законодательство тех правил, которые зафиксированы в Венской конвенции. Возникает вопрос: почему в поставке можно исчислить убытки абстрактным способом, а во всех других договорах, ввиду того, что правила ст.524 ГК РФ только в §3 Главы 30 расположены, то во всех других ситуациях таким абстрактным способом исчислить убытки нельзя? Разумного ответа на этот вопрос нет.
