
- •Об основах режиссёрской композиции (учебное пособие для студентов специализации «режиссура»)
- •От автора
- •В процессе генерации идей важно не качество идей, а их количество.
- •В ходе творческого процесса всяческая критика запрещена.
- •Третье правило гласит – свободно высказывайте всё, что придёт вам в голову, даже если вы считаете это заведомой глупостью.
- •26. Не гонитесь за наградами. Не делайте этого. От них один вред.
- •Принцип динамизма.
- •План режиссёрско-постановочного проекта зрелищной композиции
- •2.Историко-ретроспективный анализ социокультурных
- •3. Авторско-режиссёрский замысел праздничной композиции.
- •4. Элементы зрелищной композиции.
- •5.Структура зрелищной композиции.
- •Фактическая смета расходов
- •Художественно-творческие работы
- •Художественно-творческие коллективы и исполнители
- •Художественно-постановочные затраты
- •Административно-художественно-постановочные службы фестиваля и праздника г. Мозыря
- •Транспорт, командировочные и прочие расходы
- •Налоги и отчисления
- •8. Приложения
- •Словарь режиссёра
- •Хрестоматийная информация
Вячеслав ПАНИН
ТЕЛ +З75 29 671 60 40
Об основах режиссёрской композиции (учебное пособие для студентов специализации «режиссура»)
СОДЕРЖАНИЕ
От автора………………………………………………………………………2стр
Ода празднику…………………………………………………………………3
Режиссёрский анализ………………………………………………………….14
О действии……………………………………………………………………...22
Работа над замыслом…………………………………………………………..27
Брюс Мау «Неполный манифест творческого роста»……………………….29
Сценарий………………………………………………………………………..41
Композиционный проект………………………………………………………45
Построение композиции……………………………………………………….65
Основные принципы композиционного построения…………………………66
Золотое сечение…………………………………………………………………70
Средства гармонизации художественной формы…………………………….85
План режиссёрско - постановочного проекта праздника…………………….87
Словарь режиссёра……………………………………………………………...97
Хрестоматийная информация:
-Станиславский К.С. ....………………………………………………………139
-Немирович-Данченко В.И. ………………………………………………….142
-О системе Станиславского…………………………………………………..147
Режиссеры бывают трех видов: умные, изобретательные и большинство.
Жан Кокто
Режиссер должен обладать душой поэта и волей капрала.
Анджей Вайда
Абсурд-это способность познавать истину, минуя разум.
От автора
Изначально «сей скорбный труд» задумывался как необходимый материал для студенческого пользования мыслями и опытом Автора, а если скромнее, то просто как методическое пособие для студентов-режиссёров праздников и зрелищ. Но………………………………………………………….
Стоя в ряду специалистов, изрекающих мудрые советы, Автор тихонько почитывал книжки ещё более мудрых и наткнулся у великого Артура Шопенгауэра на высказывание: «…обычно учёные изучают науки с целью получить возможность учить и писать. Поэтому их головы можно сравнить с желудком и кишками, из которых кушанья уходят непереваренными. В этом и заключается причина того, что от их преподавания и писания так мало пользы. Питать других можно только молоком, которое выделилось из собственной крови, а не тем, что организм выбрасывает, не переваривши».
Умри, лучше не скажешь! Поэтому Автор двумя руками подписывается под цитатой и категорически настаивает на том, что его работа не является руководящим пособием по режиссёрской безработице, а скорее наоборот служит руководством к действию обратно пропорциональному научному теоретизированию. И, цитируя дальше, Автор словами Шопенгауэра утверждает, что «ещё менее, чем где бы то ни было стремлюсь я здесь к полноте: в противном случае мне пришлось бы повторить те многочисленные частью превосходные житейские правила, какие предложены мыслителями всех времён…; причём мне нельзя было бы также избежать многих общих мест, уже получивших широкое распространение. Но вместе с полнотой материала большей частью исчезает также и его систематическое распределение.
При недостатке полноты и системности пусть читателя утешит то обстоятельство, что в подобного рода вещах качества эти почти неизбежно ведут к скуке. Я дал просто лишь то, что мне самому приходило в голову, казалось достойным сообщения и, если мне не изменяет память, ещё не было высказано, по крайней мере, во всей полноте и в такой форме. Иными словами – здесь только добавление к тому, что уже собрано в этом необозримом поле другими». На этом краткое авторское вступление плавно перетекает в меру продолжительное повествование.
ОДА ПРАЗДНИКУ
Праздник потому и праздник, что это содружество праздных людей.
Это сотрудничество ради бессмысленности.
Это деяние ради бесцельности. Это любовь к безумию.
Это стремление к придурковатости.
И бесконечное смещение смыслов утилитарности ради осмысленности безумия.
Человечество растёт, прогрессирует, гибнет, возрождается, любит,
мирно строит и радостно воет от одиночества.
И все эти события сопровождает одним - всегда неизменным ПРАЗДНИКОМ!
Праздник мира!
Праздник любви!
Праздник победы!
Праздник одиночества!
И шумное сообщество мирных придурков!
Vivat праздничное содружество! Vivat любовь к безумию!
Vivat! Vivat!
И другой взгляд. Тоже славянский.
Близкий по сути, и абсолютно противоположный по смыслу.
Праздник по белоруски - “свята”.
Сколько в этом уважения и уверенности.
Сколько любви и заботы. Сколько величия.
Свята!
Святой! Священный! Священодействие - вот смысл этого значения!
Предназначение этого человеческого деяния –
приобщение к чему-то высшему, светлому, священному.
Это тоже праздник.
Праздник - это священно!
Праздные люди - это убого!
Праздные боги - это торжественно!
Праздничные люди - это божественно!
Человек приобщается к божественному,
когда он свободен от обыденности, от забот за выживание,
забот о заботах, забот о хлебе насущном.
Хлеба и зрелищ!
В зрелищах и празднествах освобождается дух от бытового рабства
и следует божественному своему предназначению.
В празднике дух свободно витает в своей первозданности.
И человек превращается в сатира, в свободно хохочущего шута.
И так становится полубогом, приобщаясь к святыням
и высмеивая своё ежедневное рабство.
Праздник пришёл!
Кто задумывался над этим?
Будни кончились!
И мы все свободны, мы все праздны и радостны.
Мы желанны друг другу.
Мы играем в мир,
в мир невиданный доселе,
необычный, нежный и яростный, пёстрый, рваный и яркий.
Но ни в коем случае не серый.
Праздничная обыденность необычна.
Она ошеломляюща, сбивающа с ног, будоражеща,
но не обычна.
Обычность - удел буден!
Будничность не празднична, не священна! Она правильна...
А праздник - урод! Смешной, пёстрый урод и святой дурак,
громко орущий о своей глупости.
Да здравствует праздничная глупость!
Она гениальна!
Человек входит в праздник как в свою привычную главную жизнь.
Он распахивает его врата ударом ноги.
И все святые пляшут на этом празднике жизни.
После праздника человек играющий “умирает”
и переходит в царство обыденных теней.
В этом «аду» он пребывает до следующего праздника,
до следующего своего реального святого рождения.
Именно в празднике рождается человек-личность.
Именно в празднике он обретает самасвядомасць.
Именно в празднике получают применение все его таланты и умения.
В текущей жизни человек - Функция!
В празднике человек - Творец! Человек-свобода!
«Мистер свобода» -так сказал бы американец.
А мы скажем:
«В празднике царит человек-бог!»
Не случайно мы начали с праздничного панегирика. Праздник - наше ремесло. Законы суровы для всех, кто их не знает. Но законы творчества имеют одну особенность, они подчиняются сильной руке творца. Вернее, творец и есть закон для своего произведения, будь то спектакль, зрелище или праздник. Мы все подданные его величества Действия. Действия во всём его многообразии и многоформии, во всей его хрупкости и утончённости. И поэтому, клянясь ему в верности, не должны забывать, что клятвопреступник будет сурово наказан за покушение на его истинность и правдивость по всем законам творческой вендетты, которую вот уже несколько тысячелетий ведут Творцы со своими Творениями. Но побеждает всегда Зритель. Он празднует победу над побеждённым, восхищённо аплодируя или злорадно освистывая поверженного.
Композиция – это тот приём, та конструкция, то сооружение, которое помогает перевести язык ТВОРЧЕСТВА на язык ВОСПРИЯТИЯ. Творчество всегда ложь правдивого человека. А зритель всегда обманываться рад. Его «дурят» в открытую, он это знает и ещё платит деньги. Но это не наивность или глупость, это данность. Так было, так есть, и так будет.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ - ЭТО ФАНТАСТИЧЕСКОЕ СООРУЖЕНИЕ ИЗ НЕФАНТАСТИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,
СОЕДИНЁННЫХ ВОЛЕЙ ХУДОЖНИКА МЕЖДУ СОБОЙ НЕСУЩЕСТВОВАВШИМИ РАНЕЕ ОТНОШЕНИЯМИ,
И В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ЯВЛЯЮЩИХ НОВОЕ УНИКАЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННО КАЧЕСТВО.
Запомнить с первого раза невозможно, тем более что слегка смущает излишняя эмоциональность и недостаточная информативность подобной формулировки. Но, как говорится, хозяин-барин, и мы к ней (к формулировке) ещё вернёмся позднее.
Волков утверждает, что композиция существует для подачи смысла. Очевидно, это так, но всё же что-то настораживает в этом утверждении. Какая-то упрощённость. Какая-то утилитарность и обыденная категоричность. Не так всё просто. В ней (в композиции) и бессонные ночи и муки невысказанности и следы неудовлетворенного самолюбия, и невозможность говорить то, о чём тебе хочется орать во всё горло. И самое главное в ней то, чего нет нигде больше в мире, в ней сам художник со всем своим несовершенством и гениальностью. Когда Пикассо спросили, в искусстве важнее - ЧТО или КАК, он, не задумываясь, ответил: в искусстве важнее всего - КТО!
Поэтому композиция, прежде всего, отпечаток личности Художника, отпечаток его предпочтений, его приоритетов, его мировоззрения и мироощущения, его ума и бездумности, его славы и бесславия, его умений и беспомощности. Композиция это весь Художник со всеми его потрохами, а потом уже «подача смысла».
В искусстве важнее всего то, чтобы суметь соприкоснуться с внутренней жизнью собственного существа. Причём, сделать это надо непосредственно, напрямую, не прибегая к чему-то внешнему или привнесённому. Поэтому искусство отбрасывает всё, что хоть немного напоминает внешний авторитет, и безгранично доверяет всему, что составляет внутреннюю жизнь человека. Поскольку единственный авторитет в искусстве – это наша внутренняя природа.
Такова конечная истина!
Но поиск её всегда многотруден и часто идёт по пути заблуждений и ошибок, которые, собственно говоря, и составляют часть этой истины. Если постараться отделить правду ото лжи, а чистоту от грязи, а честность от подлости, то сразу начнёшь грешить против искомой тобой же истины. Ибо это не только, правда, но и ложь.
Весь комплекс правды и лжи – вот что такое истина.
А надёжное знание, к которому так стремятся здравомыслящие, в конце концов, подтверждает только надёжность нашей памяти. То, что найдено другими, не может быть истиной. По крайне мере, так в искусстве. Истинно только то, что ты открываешь собственными усилиями. Надёжное же знание, как правило, приобретается за счёт чужих умов, пусть даже светлых, но чужих. В творчестве истина – это сам художник, его мир, его воззрения, его ощущения, желания и стремления. Чувства, наконец, которые, собственно, и составляют суть любого искусства. Этим искусство отличается от науки. Наука – это апелляция к разуму, искусство – к чувству. Нам интересно, что чувствует художник, что его, волнует и беспокоит. О чём он думает, нам интересно настолько, насколько эта мысль пробуждает высокое чувство, насколько она приближает момент катарсиса. Древние хорошо понимали это. Стоит почитать «Поэтику» Аристотеля. Сегодня мы разучились сопереживать и сочувствовать. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». Нас всё больше интересует, что хотел сказать художник, а не какие «чувства он лирой пробуждает». И это потому, что алчное стремление к надёжному, приносящему сегодня доход знанию, закрывает нам яркий путь поиска Истины. Мы уступаем себе в благородстве, когда изменяем Истине со Знанием. Знание - только сила. Истина – это ещё и всё остальное.
Искусство нам дано, чтобы не умереть от правдоподобия. В тот миг, когда мы пытаемся истолковать природу искусства, а не любим его, мы перестаём понимать его. Искусство бесконечно и находится вне пределов досягаемости разумом. Тот же Аристотель сказал: « Нет ничего в разуме, чего ранее не было в чувстве». Об этом прозрачное стихотворение Поля Верлена «Искусство поэзии»:
Сначала – музыку созвучий!
Дай лёгкий строй словам твоим,
Чтоб невесом, неуловим,
Дышал и таял стих певучий.
Строфу напрасно не чекань,
Пленяй небрежностью счастливой,
Стирая в песне прихотливой
Меж ясным и неясным грань.
Так взор манит из-под вуали,
Так брезжит в мареве заря,
Так светят звёзды ноября,
Дрожа во мгле холодной дали.
Ищи оттенки, не цвета,
Есть полутон и в тоне строгом.
В полутонах, как флейта с рогом,
С мечтой сближается мечта.
Беги рассудочности точной,
Вульгарной удали острот,-
И небо в ужас приведёт
Дешёвой кухни дух чесночный!
Сломай риторике хребет!
Чтоб стих стал твёрдым, но покорным,
Поставь границу рифмам вздорным,-
Куда ведёт их буйный бред?
И кто предскажет их проказы?
Глухой ли мальчик, негр шальной,-
Кто создал перлы в грош ценой,
Стекляшки выдал за алмазы?
О музыке всегда, везде!
Пусть будет стих твой окрылённый
Как бы гонцом души влюблённой
К другой любви, к другой звезде!
И если утро встанет хмуро,
Он, пробудив цветы от сна,
Дохнёт как ветер, как весна.
Всё прочее – литература!
Художник в отличие от других профессионалов мыслит образами, метафорами, символами, другими словами - художественными формами. И в этом коренное отличие его способа мышления. Поэтому так неправомерен вопрос, задаваемый художнику - что вы хотели этим сказать? Ни один художник не в состоянии вразумительно удовлетворить подобный интерес с пристрастием… Смысл творения гораздо шире его толкования и выражается только на языке художественных форм.
Нет взгляда более правильного для нас, чем наш собственный, нет мнения более любимого нами, чем наше личное, и это справедливо. Особенно, когда речь идёт о профессии режиссёра. Этой профессии нет, если мы не верим себе, и не любим своего мнения.
Весь мир через нас, тогда это творчество. Наш взгляд - наше кредо. И плевать, соответствует ли он общепринятым стандартам, важно, что мы сами верим в это. В этом истина. Неверие в себя - самоубийство. По крайней мере, в творчестве.
Жизнь каждого профессионала делится на три периода.
Первый - когда ты знаешь о профессии всё. Абсолютно!
Второй - когда ты уже ничего о ней не знаешь и ничего в ней не понимаешь.
И третий, когда ты начинаешь потихоньку постигать азы своего дела.
И это не пустое кокетство. То, что в молодости давалось одним махом твоих шальных устремлений, позднее путём долгих расчётов, теперь приходит пониманием основ и чувством профессионализма.
Профессиональное чувство приобретается не знаниями и опытом. Знаниями приобретается профессиональное начётничество, опытом - профессиональные штампы. Чувство приобретается ощущением смысла профессии.
Но смысл профессии гораздо шире простого процесса освоения профессиональных приёмов. Перефразируя великого писателя, позволим себе воскликнуть: “велик и могуч профессиональный язык.” Язык образов и метафор, символов и афоризмов, язык, на котором тебя поймут в любой точке земного шара.
Можно было бы долго говорить о значимости, о значительности профессии режиссёра, о её важности и необходимости, но она существовала ещё задолго до того, как мы поняли, что она такова. Режиссура в роду древнейших профессий не последняя, даже по необходимости торговать своим талантом. Но смысл её в другом, не в торговле...
Всё гораздо проще и значительно сложнее. Проще потому, что понимание, а не назидание в основе осмысления, а сложнее - потому что понять профессию, значит понять себя. А это, пожалуй, самое непростое.
Вот вам первый постулат - постижение профессии начинается с себя. Поймёшь, на что ты способен, уже половина дела.
Творческая свобода - измышлённая свобода. Но не умом раба, а свободным гением человека-творца. И её ограничения - это шаги к ещё большему освобождению, потому что ничто так не освобождает от мелочей бытия, как сильная привязанность к чему-то Единому. И тогда всё меркнет перед этой привязанностью, всё становится незначительным и ненужным.
Острая привязанность к Единому освобождает от зависимости ото Всего. И в этом парадокс Свободы.
В творчестве человек сбрасывает с себя все мирские условности. И у него возникает только одна обязанность - стать и быть свободным. И вот от этой обязанности он не способен избавиться никакими силами. Творческая страсть вырывает его из объятий обыденности, и художник, становясь рабом своей свободы, становится свободным от рабства всеобщей необходимости.
Вопрос: что в профессии истинно?
Истинно всё. И правда и неправда. И победы и поражения, и знание и незнание. Истинно всё, но не само по себе, а всё вместе составляет истину о профессии.
Истина - это весь комплекс правды и лжи о предмете, факте, явлении или событии.
И да здравствует правдивое враньё! И да здравствует лживая правда, потому что истина - это жизнь. А жизнь,- как сказал Герман Гессе,- всегда права!
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Режиссура– проклятая профессия. Бесовская.
Ни слова правды, но лжи не терпит.
Посвятивший себя ей, себе не принадлежит.
Да, не актёрство!
Профессия в достаточной степени независимая и это угнетает. Ответственность за всё – вот основной отличительный признак.
Режиссёр не имеет права на слабость, на незнание, на малодушие. Лидерство – основной видовой признак режиссёра.
И горлопанство.
За криками режиссёры часто скрывают свое безволие
или неумение, или просто бездарность.
Режиссёр в переводе с французского – «управляющий».
Но не всякий управляющий, а особый, уникальный, каких мало.
Он управляет единственным в мире процессом,
которого нет в природе –
процессом, во время которого Ничто превращается в Нечто.
Режиссёр подобен Богу.
На первый день он сотворил…
Дальше кощунство.
И кощунствуем. Знаем, что кощунствуем, но это как наркотик.
Кто вкусил однажды, будет проклят и умрёт в муках неудовлетворённого таланта.
А что ещё страшнее – в муках неудовлетворённого тщеславия.
Режиссура не профессия, а страсть.
«Всё прочее – литература»
Во всём многообразии режиссёрских проблем главная – это построение композиции. Все остальные подчинены этому главному делу, которое осуществляет автор-режиссёр. Однако решение этой главной проблемы осуществляется путём разрешения различных профессионально-технологических задач, решение которых приводит его к конечной цели творческого процесса. Если рассматривать этот процесс глобально, то режиссер, прежде всего, должен:
-Проанализировать обстоятельства, в которых будет
разворачиваться композиция, чтобы определить параметры, которые будут влиять на процесс её построения.
-Разработать замысел, то есть, с учётом главной функции постановки определить своё художественно-эмоциональное отношение к данному факту.
-отобрать элементы композиции, которые, как вам, кажется, наиболее точно соответствуют вашему замыслу.
-построить из них композицию, другими словами, найти наиболее оптимальную художественную форму для выражения вашего замысла.
-разработать оргплан реализации своего замысла, то есть, определить наиболее рациональные пути построения композиционной художественной формы.
Перефразируя Ницше можно сказать, что «композиция – это лишь тоненькая яблочная кожура над раскалённым хаосом». Всё что вне композиции - хаос, всё, что внутри - строгая упорядоченность, обусловленная, прежде всего, жизненной концепцией Художника. Обусловленная, но пока ещё не рожденная. Композиция рождается тогда, когда эта «концепция» сталкивается с реальностью. И «холодный расчёт» творящего разума остужает поверхность «кипящего хаоса», и покрывает его тонкой корочкой упорядоченности. И упорядоченность эта несёт как отпечаток разумности, так и хаотичности. Причудливые нагромождения, сталкиваясь, застывают в причудливых формах, а ровный регламент упорядочивает их как во времени, так и в пространстве. И упаси боже, попытаться искусственным путём загладить причудливые формы, искусственным путём подогнать их друг к другу, или пустить процесс сложения этой застывшей лавы на самотёк. В первом случае мы получим строго геометрическое нагромождение полированной бессмысленности, а во втором - мёртвое сооружение застывшего хаоса. Вывод прост – баланс усилий и учёт обстоятельств. Другого пути нет.
Отдельный элемент сам по себе в своей единичности не существенен для всей композиции, и с лёгкостью может быть заменён другим однородным или подобным элементом. Существенным в композиции выступают те отношения, в которые элементы вступают в системе. Отсюда главный принцип построения композиции: «примат отношений над элементами в системе».
Но установление отношений между элементами начинается с определения главной композиционной интегрирующей доминанты, которая, собственно говоря, и определяет критерии отбора, как элементов, так и связей между ними. Не вдаваясь пока в технологические подробности, отметим, что доминанта легко обнаруживается нами среди уже известных нам уровней действенной структуры. Таким образом, устанавливается область доминантного определения:
-композиция – носитель культурной информации,
-композиция – средство выражения ценностных ориентаций,
-композиция – эвристический инструмент,
-композиция, как средство коммуникации,
-эстетическая функция композиции.
Ко всему сказанному хочется добавить, что исходным в творчестве режиссера являются закономерности композиционного формообразования, основанные на цельности его образного мышления и его способности соединять воедино и регулировать взаимоотношения между отдельными композиционными составляющими. И тогда на место хаоса художественных форм приходит упорядоченная система в виде режиссёрской композиции.
Красной нитью через весь опыт режиссуры проходит мысль, что режиссер выступает, прежде всего, в роли интегратора, координатора и организатора усилий разнородных специалистов, совокупный труд которых способен породить новую гармонически организованную композиционную структуру.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, КОМПОНОВКА, СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ, СУЩЕСТВОВАВШИХ РАНЕЕ ОТДЕЛЬНО И ИЗОЛИРОВАННО ДРУГ ОТ ДРУГА, В ОБЩУЮ КОМПОЗИЦИЮ - ВОТ ОСНОВНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД РЕЖИССЕРА ПРАЗДНИКА.
Цельность через многообразие – вот тот принцип, который должен быть положен в основу построения художественной композиции.
Говоря о праздничной режиссуре, подчёркивая её проектную сущность в современных условиях, необходимо отметить в первую очередь, что подход к проектированию праздника только как к художественному процессу неправомочен. В силу того, что праздничная композиция по своей структуре явление сложное и далеко неоднозначное. С одной стороны – праздник по своей основе глубоко социальная субстанция, а с другой – уникальное художественное явление. Эта двойственность соответственно диктует особые уникальные подходы к праздничному проектированию. Если театральный спектакль, это режиссура последовательно развивающегося сценического действия, то праздник – это режиссура многих параллельно сосуществующих в одной композиции видов праздничной деятельности. Режиссёр праздника, выступая в роли интегратора усилий различных специалистов, организуя и руководя их деятельностью, является в первую очередь а в т о р о м собственной композиции. Если замысел театрального режиссёра зиждется на анализе драматургического материала, написанного другим автором, то свою работу режиссёр-автор праздничной композиции начинает с историко-ретроспективного анализа и анализа той социо-культурной среды, в которой разворачивается праздничное событие. Соответственно этот анализ строится по другим законам, нежели анализ драматургического материала.Говоря же о праздничной композиции, как об окончательном
продукте творческой деятельности режиссёра, мы должны подчеркнуть, что сложность праздничного формообразования обуславливается как особенностями элементов, складывающихся в структуру праздника, так и их неоднородностью и функциональной непохожестью друг на друга.
И поэтому, перефразируя Хайзинге, мы утверждаем:
Первое - всякое празднество - свободная деятельность.
Второе- праздник - это особая коммуникативная среда, которая удовлетворяет идеалы коммуникации. Место праздника в сфере белее возвышенной, нежели чисто биологический процесс добывания пищи, спаривания и самосохранения.
Третье- праздник сразу фиксируется как культурная форма. Однажды устроенный, он остается в памяти как некое духовное творение или ценность, передается далее, как традиция и может быть повторен в любое время.
Четвертое - празднику отводится определенное праздничное время и пространство. Внутри этого праздничного пространства царит собственный безусловный порядок отличный от обыденного течения событий. Эта временная отмена “обыденной жизни” делает праздник уникальным явлением в жизни общества
. Но возникает вопрос, искусство ли праздник?
Утвердительный ответ порождает сомнение, отрицательный - подтверждает его.
Праздник не обыденная жизнь и не искусство. Праздник ни то, ни другое по отдельности, но и то и другое, если они вместе. Праздник - “кентавр”.
Аrt longa vita brevis est. Кратковременная жизнь и вечное искусство. Они породили новую форму социально-художественного существования - краткие мгновения вечности! Праздник - вспышка бесконечности на сером неосвещённом небосводе обыденного человеческого существования.
Любая культура зиждется на двух китах - язык и праздник. И если язык даёт понимание жизни, то праздник её осмысление. Праздник придаёт смысл жизни. Праздник ориентирует социум на определённые ценности и генерирует их. Генератор ценностных ориентаций общества - вот главное предназначение праздника. Без праздника общество слепо. Здесь в ритуальных действиях поднимаются на щит общественные приоритеты. Здесь торжествует слава народа, его победы и достижения. Народ ликует, в отличие от пушкинского - “народ безмолвствует”.
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Прежде всего, веруй в Себя и Своё Дело.
Ко всем вещам относись так, чтобы не возникло и тени сомнения в том, что ты не уважаешь то дело, которому служишь, и так, чтобы никто не мог упрекнуть тебя в превознесении своего дела надо всем остальным в этом мире. Скромность, говорят, кратчайший путь к неизвестности. Добавим –
за славой следует забвение.
Человек, профессией которого является творческое мышление, прежде всего, должен думать, а только потом – действовать во славу своей профессии. Он не должен бесчестить свое имя, слишком дорого оценивая то, что он творит.
С другой стороны, считать своё дело не более чем пылью и прахом – значит заслужить недостойную репутацию среди коллег.
Если режиссёр стоит перед выбором принимать решение
или его не принимать,
то необходимо его ПРИНЯТЬ.
Принятое решение в нашей профессии всегда правильное, а правильное,
но не принятое – всегда ошибочно. Такова природа профессии.
От режиссёра зависит всё, и, прежде всего, те, кто связал свою судьбу
с ним.
Поэтому нельзя делать ни единого лишнего движения и говорить ничего такого, что может повредить окружающим.
Во всех своих делах на первое место обязательно следует ставить человека
и никого не подвергать осмеянию.
Напротив – похвала за малейшее достижение помогает обретать крылья, которые возносят к высотам Искусства.
Режиссёр должен стать опорой для других и всячески вселять в них уверенность.
Человек, профессией которого является искусство, должен
усмирить свой разум и вглядеться в глубины других людей.
В этом и будет заключаться наивысшее из искусств.
Если ты считаешь советы окружающих неуместными
или назойливыми,
если этим советам даже недостаёт мудрости и квалифицированности,
ты всё равно должен им следовать, иначе ты свернёшь с Пути творчества,
на который ты встал.
Если ты будешь ТОЛЬКО СЛЕДОВАТЬ этим советам,
ты никогда не встанешь на Путь,
которому должен следовать.
То, что надо чтить авторитеты в своей профессии,
наверное, известно каждому человеку и не нуждается в повторении.
Однако следует помнить, что авторитеты это не идолы,
которым бездумно надо молиться, а опыт прошлого,
который складывался из бесчисленного ряда проб и ошибок.
Другими словами, авторитет это то, что убережёт тебя
от банального опыта прошлого,
но никогда не спасёт от собственных заблуждений.
ТВОРЧЕСТВО – ЭТО ЦЕПЬ ГЕНИАЛЬНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ.
Говорят: пути Господни неисповедимы.
Самый из них неведомый – это Путь Искусства.
Но это Путь для всех.
Тот, кто это забывает, уподобляется улитке, ползущей поперёк дороги.
Восточная мудрость гласит: «воина могут обозвать собакой или зверем; главное для него – победа» .
Режиссёр подобен воину.
Но, упаси Боже, если ради победы режиссёр становится
или собакой, или зверем.
Режиссёрский подход к проблеме –
пять помноженное на два даёт десять,
если же сложить пять и два получишь только семь.
Творческое воображение – цветок непростой.
Есть много примеров тому,
как цветок распускается, но не плодоносит.
К великим событиям относись с лёгким сердцем.
Всё делай терпеливо.
Начинать в творчестве можно с чего попало. Главное начать.
Лао Цзы сказал: «Путешествие в тысячу миль начинается с одного-единственного шага».
Всё это не должно подлежать никакому сомнению.
В строках: «Под глубоким снегом в последней деревне в прошлую ночь зацвели многочисленные ветки сливы» избыточное сочетание «многочисленные ветки» было заменено на «одинокая ветка».
В результате получилось :
«Под глубоким снегом в последней деревне в прошлую ночь зацвела одинокая ветка сливы»
Этот образ точнее.
РЕЖИССЁРСКИЙ АНАЛИЗ.
В Евангелии сказано, «многая мудрость умножает печаль». Счастлив тот, кто ничего не знает. Он не знает ни бед, ни горестей, ни мучений. Он счастлив своим существом. В этом мире нет для него препон. Но вот он счастливый сталкивается с первой трудностью, неприятностью, препятствием. Он задумывается, что это? Он пытается понять, что мешает ему быть счастливым? Так рождается анализ.
Напряжённо работающая мысль. Над чем она трудится, что сортирует, что отбрасывает, что утверждает, в чём убеждается, а в чём разочаровывается?
Нечто целое проявляет себя неким образом. Круглое катится.
Почему?
По чему?
Но прежде всего, ЧТО или КТО это круглое? Ответ на этот первый вопрос даёт направление поиска. Если круглое – мяч, то это одно направление, если – Колобок, то другое.
Если мяч, то, ЧТО он делает? Он пассивен и подчиняется силе направляющего удара.
Если Колобок, то он подчинён собственной воле – он убегает.
И при этом сравнении сразу возникает новый вопрос, а делает ли мяч что-нибудь? Он ведь пассивен. Он подчинён воле другого действующего лица, игрока. То есть, мы можем с уверенностью утверждать, что отсутствие
в о л и в действенном процессе автоматически вычёркивает участника этого процесса из списка действующих лиц. Мяч нам становится неинтересен.
Всё наше любопытство теперь сосредоточено только на Колобке. Именно любопытство, потому что оно и только оно является движущей силой нашего аналитического процесса. Конечно, у этого процесса есть определённая цель, но исходным толчком является всё же обыкновенное человеческое или профессиональное любопытство. Вспомните свои первые детские аналитические попытки. А что там внутри у заводной игрушки? И ваше знание тут же вознаграждается материнским неудовольствием. Плач начинающего аналитика лишний раз подтверждает библейскую мудрость.
А что же наш Колобок? Он УБЕГАЕТ!
А теперь уясним, ГДЕ происходит это событие? Однозначный ответ «в лесу» или «в деревне» не даёт достаточной пищи нашему профессиональному любопытству. На вопрос ГДЕ? мы должны ответить не односложно, а описать место действия таким образом, чтобы понять,
как это место характеризует процесс убегания.
То есть, местность изрыта оврагами, или покрыта толстым слоем снега и т.д. В нашем случае – это гладкая просёлочная дорога, светит яркое солнце, гуляет лёгкий летний ветерок. Ничего не предвещает трагической развязки. Таким образом, мы плавно переходим к ответу на вопрос, КОГДА происходит анализируемое событие?
Итак, яркий погожий летний день. Желательно, утром, но, однако, в то самое время, когда пора уже завтракать. Это ключевой ответ на вопрос КОГДА?
И тут мы задаёмся следующим вопросом КАК? Как убегает Колобок? Опрометью, не оглядываясь, ошалев от страха, или беспечно бежит себе по накатанной дороге, радуясь погожему летнему дню. Последний вариант внушает нам предпочтение.
Но если учесть, кто такой Колобок, то можно прийти к другому выводу. Шар-голова катится по дороге, естественно, ничего не видя, голова идёт кругом. Где уж тут остановить на чём-нибудь свой взгляд. Впору разобраться кто перед ним? А ещё это чудовище грозит: Колобок, я тебя съем! Замечаете, уже в самом процессе анализа заложены зачатки режиссёрской трактовки, потому что это единый процесс.
Вернее анализ и есть процесс формирования режиссёрского замысла.
Это единственно правильная точка зрения. Иначе, анализ превращается в схоластическое декларирование идеологических постулатов, не имеющих к искусству никакого отношения. Но пойдём дальше.
Итак, мы уяснили себе, как Колобок убегает. Но остаются ещё два вопроса, ответы на которые проясняют нам окончательную картину.
ЗАЧЕМ и ЧЕМ ? То есть, цель-мотив побега, и средства какими пользуется Колобок в процессе убегания. Что касается второго ответа, то он прост. Никакими средствами кроме своих круглых боков Колобок не пользуется. А вот ЗАЧЕМ? Да особенно, как кажется, и незачем было. Так, прогуляться захотелось. Надоело лежать на окошке, студится. А день-то был великолепный. С окошка на лавочку, с лавочки на дорожку и покатился.… Вот ЗАЧЕМ? Проанализировав, таким образом, поведение главного персонажа, мы точно также разбираемся с другими действующими лицами нашей «драмы».
Однако, всё начинается с удивления, с восторга перед явлением. Художник горит желанием создать необыкновенную форму, и вот тут включаются все его внутренние механизмы. Вымысел не искажение, он вычленение, укрупнение, обнаружение правды там, где все уже давно отчаялись её найти. Вымысел не измышление, он осмысление и утверждение. Так возникает художественная концепция.
Известен анекдот о том, как некий тиран заказал свой живописный портрет. Тиран был кривой на левый глаз и не имел руки. Первый художник, решив польстить тирану, нарисовал его красавцем и с двумя руками. Тиран велел казнить художника. Так, говорят, родился романтизм.
Другой художник изобразил тирана во всём великолепии его недостатков. Он тоже был казнён. Так родился критический реализм.
А третий, ничтоже сумняшеся, нарисовал тирана верхом на коне, в профиль. Отсутствующая рука и кривой глаз в таком ракурсе не были видны. Его-то тиран и пожаловал наградой. Так, говорят, родился социалистический реализм.
При всей ироничности анекдотического рассказа, он, тем не менее, даёт достаточно ясную картину понимания проблемы трактовки.
В трактовке проявляется субъективная художническая позиция творца. Из чего она складывается? Прежде всего, информированность художника, его предпочтения и приоритеты, т.е., ценности, которые составляют суть мировоззрения. Эвристический потенциал художника, т.е., его способность творчески, нестандартно решать стоящие перед ним художественные задачи.
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
ФАБУЛА – ряд действенных фактов,
на основе которых, образуется событийный ряд.
ДЕЙСТВЕННЫЙ ФАКТ- это то, что меняет поведение персонажей в событии.
СОБЫТИЕ-отрезок совместной драматургической жизни персонажей, возникшей на основе одного действенного факта.
СЮЖЕТ-всё многообразие событийных перипетий
вместе с интригой, героями и обстоятельствами – вот тот длинный перечень страстей, который мы называем кратким словом сюжет.
ИНТРИГА – интрига ещё проще – это манипуляция информацией.
Мы скрываем информацию, искажаем, подаём под необычным «соусом» - всё это и есть манипуляция.
А цель одна - одурачить партнёра и получить от этого выгоду. Следовательно, интриговать подло, но выгодно.
Продолжая наш разговор о позиции, заметим, что эстетическая позиция также играет значительную роль в процессе формирования художественной трактовки. И последнее – профессиональные средства выражения своей художнической позиции, т.е., набор профессиональных приёмов, которым и владеет мастер.
Всё это составляющие художественной позиции творца.
В трактовке эта художественная концепция проявляется в полной мере. Поэтому мы можем уверенно утверждать, что трактовка – это результат взаимодействия художнической позиции с фактом, по поводу которого эта позиция проявляется.
Если вдохновение – это вдох без выдоха, то трактовка – это выдох без вдоха. Настолько это моё субъективное. И коль это так, то трактовка это отражение моего взгляда от факта. И так, только так возникает иллюзия второй реальности – искусство.
Моя личная информированность высекает из факта определённое количество битов информации, моя оценка сверкает лучом моих ценностей только под Мне определённым Богом углом. Я своим грубым умением могу только так проявить моё понимание жизни. И вкус мой завершает этот процесс, несмотря на то, что находится у самых его истоков.
Теперь вплотную к драматической композиции. Мы говорили, что основа зрелищных искусств – действие. Но как из множества персональных поступков складывается большая композиция драматической борьбы? Очевидно, есть какие-то законы построения этой композиции. Несомненно. Они в самих поступках героев. Но прежде всего – п р е д м е т. Из-за чего вся эта круто замешанная заварушка? Предмет любой борьбы лежит в сфере общих интересов партнёров.
Кто из нас не конфликтовал? Практически таких людей на земле нет. Речь может идти только о степени конфликтарности или о качестве конфликта. Иногда о характере конфликта. Но всегда конфликт подразумевает под собой столкновение неких разнополярных интересов, мнений или точек зрения. Как назвать не столь суть важно. Важно другое - понять, как возникают и развиваются конфликты. Ибо основа любой драмы – это конфликт... Он двигатель драматического действия, он нерв театрального процесса. В конфликте проявляются характеры героев, в конфликте укрупняется проблема жизни, играемой на сцене. И нет бесконфликтных ситуаций, есть ситуации с не проявленным конфликтом. Так что же проявлять в конфликте, когда пытаешься проанализировать природу сценического действия? Прежде всего, надо уяснить из-за чего произошло столкновение? То есть определить предмет борьбы, яблоко раздора.
«Добиваясь определённого течения борьбы, режиссёр устанавливает, из-за чего в каждой сцене она происходит. А это зависит от того, как он понимает ГЛАВНЫЙ ПРЕДМЕТ борьбы, то есть, единую тему всей пьесы. В каждой пьесе мы обнаруживаем столкновение действия и контрдействия, значит в ней возможны не менее двух тем и двух предметов, претендующих на главенство.» (П.Ершов «Режиссура как практическая психология.»)
Но всякая борьба начинается с проявления ИНИЦИАТИВЫ. Проявление инициативы – первое обязательное условие возникновения какой-либо борьбы. За инициативу можно бороться, инициативой можно владеть, инициативой можно распоряжаться.
Распоряжается инициативой всегда СИЛЬНЫЙ, владеет, тот, кому этот сильный позволил, а борются за инициативу те, кто пока ещё не выяснил свою силу по отношению к партнёру.
Более подробно и обстоятельно об измерениях (так их называет автор) можно прочесть в книге П.Ершова «Режиссура как практическая психология». Здесь же мы лишь пунктирно очертим те параметры, которые непосредственно влияют на построение драматической композиции.
Но всякая борьба подразумевает обнажение целей борющихся. Иногда сокрытие которых является тактическим приёмом конфликтующих.
Причём пользование инициативой будет считаться наступлением, отказ от инициативы по отношению к партнёру – обороной, а постепенный переход от наступления к обороне – отступлением.
Если в природе совершается действие, то оно совершается с необходимыми наименьшими энергетическими затратами, то есть, ЭКОНОМИЯ СИЛ, как главный энергетический признак действенной выразительности.
В борьбе всегда определяются дела и взаимоотношения борющихся. Если столкновение происходит за какой нибудь предмет, факт или событие, то такая борьба называется ДЕЛОВОЙ. Борьба за дело характеризуется безличностным отношением борющихся друг к другу. Но если борьба происходит за взаимоотношения, то тут на сцену выступает весь комплекс личностных симпатий и антипатий. При этом унижение, приближение к себе партнёра или удаление, его возвышение или уничижение входят в разряд технологических «борцовских» приёмов. П.Ершов пишет: «В борьбе за взаимоотношения предметом и темой её являются не поступки партнёра, а общая исходная позиция – та, которую он должен занимать, но которую он не занимает» Другими словами деловая борьба протекает за изменение поведения партнёра, а позиционная или борьба за взаимоотношения – за изменение сознания партнёра.
Среди целей любого человека существуют те, которые отличают его от другого и те, которые объединяют его с другими. Дружба начинается с представления об общности интересов, а вражда с представления о их разности. Как в том анекдоте – «против кого дружите, ребята?» Или, как говорил Ч.Айтматов:» Все мы атеисты. Но одни атеисты – мусульмане, а другие – христиане»
Короче – антагонистичность порождает ВРАЖДЕБНОСТЬ во взаимоотношениях, близость интересов – ДРУЖЕСТВЕННОСТЬ. Дружественность облегчает деловое общение и в деловой борьбе располагает к пользованию инициативой, к наступлению. Враждебность наоборот, к тому, чтобы распоряжаться инициативой, или к обороне.
В позиционной борьбе именно враждебность стимулирует наступательные амбиции партнёров. Они охотно идут в атаку, стараясь унизить партнёра.
Через соотношение сил партнёры устанавливают взаимозависимость друг с другом. Разность сил вызывает либо УВАЖЕНИЕ. Либо ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ. Соотношение же интересов – либо СИМПАТИЮ, либо АНТИПАТИЮ. Слабый в борьбе всегда мелочен, подробен и обстоятелен в своих аргументах. Сильный пренебрегает аргументацией и пристраивается к партнёру, как правило, «сверху» Слабый – «снизу.»
Эти, как называет их П.Ершов, основные измерения определяют параметры драматической борьбы, развитие которой являет собой построение сценической композиции. Кроме основных измерений П.Ершов упоминает о производных измерениях, как бы не основных. Однако при анализе и построении конфликта они тоже имеют определённое значение. К таким относятся: физические и динамические характеристики действующего лица, особенности пола, возраста, социальные характеристики, его профессиональные и межличностные предпочтения. Сюда же можно отнести обстоятельства места действия, обстоятельства времени, а также особенности сценических конструкций, костюма, грима и т.д. То есть всё то, что в какой-то мере также влияют на построение сценической композиции.
Вот перечень вопросов, которые решает режиссёр в процессе организации сценической борьбы:
ИНИЦИАТИВНОСТЬ (кто владеет инициативой, кто распоряжается; кто наступает, кто обороняется, кто уклоняется от борьбы)
ПРЕДМЕТ БОРЬБЫ, ДЕЛА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В БОРЬБЕ (предмет борьбы в области деловой борьбы или борьбы за взаимоотношения)
СООТНОШЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ (соотношение интересов порождают или дружественность отношений или враждебность)
СООТНОШЕНИЕ СИЛ (определяется силой или слабостью партнёров)
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (при обмене информацией кто-то её даёт, а кто-то добывает)
ЭКОНОМИЯ СИЛ (экономия сил определяется субординацией целей борьбы; на важные цели затрачивается больше сил)
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Здесь хочется дать несколько советов
по использованию своего режиссёрского умения
организации конфликтарного взаимодействия на сцене
в обстоятельствах общения с друзьями, коллегами
и с тем бесчисленным количеством людей, с которыми ему (режиссёру) приходится иметь дело.
Прежде всего, советы эти облегчат участь самого режиссёра,
позволят продуктивно выстраивать деловое общение,
что само собой скажется на положительном результате
его творческой работы.
Основным условием всякой борьбы по формуле Гегеля является наличие противоположных интересов.
Поэтому борьба за инициативу часто выражается в стремлении перекричать друг друга, что порой переходит в скандал.
При этом в скандале правых нет. Виноваты обе стороны.
При этом из претендующих на инициативу уступает обычно тот, кому нужнее партнёр, кто хочет или должен быть внимательным к его нуждам.
СОВЕТ № 1 :УСТУПЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ – АКТ ВЕЖЛИВОСТИ В КОММУНИКАЦИИ.
СОВЕТ № 2: РАСПОРЯЖАЯСЬ ИНИЦИАТИВОЙ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О НУЖДАХ ПАРТНЁРОВ.
Наступая на партнера, не забывайте,
что наступление характеризуется тремя факторами:
-стремлением к цели;
-учётом препятствий;
-экономией сил.
СОВЕТ № 3: В ДОСТИЖЕНИИ СВОИХ ЦЕЛЕЙ НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ПРЕПЯТСТВИЯМИ И НЕ РАСХОДУЙТЕ БЕЗДУМНО СВОИ СИЛЫ НА ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ. УЧТИТЕ, ЧТО НА ДОСТИЖЕНИИ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ВАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
Зигмунд Фрейд сказал: «Человек, у которого есть глаза , чтобы видеть, и уши, чтобы слышать,
может убедиться,
что ни один смертный не может сохранить тайну.
Если молчат его губы, он выбалтывает тайну кончиками пальцев: он выдаёт себя каждой своей порой»
Другими словами,
если ваш партнёр по общению не уличает Вас во лжи публично,
это не говорит о том,
что он её не замечает в Вашем поведении.
СОВЕТ№ 4: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ХИТРИТЬ С ПАРТНЁРОМ. СРАЗУ УСТАНАВЛИВАЁТЕ КОНВНЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ ОБЩЕНИЯ. НАЧНИТЕ С РАСКРЫТИЯ СВОЕГО ИНТЕРЕСА И ЦЕЛЕЙ.
Дружественность в общении
раскрывает человека,
враждебность закрывает его и психически и физически, и телесно. Дружественность
обнажает действительную степень заинтересованности.
СОВЕТ №5: ПРЕВРАЩАЙТЕ ВРАЖДЕБНОСТЬ В ЧЕСТНУЮ ОТКРЫТУЮ КОНФРОНТАЦИЮ. (Правило рыцарского поединка)
Дружественность
облегчает деловое общение
и в деловой борьбе
располагает к пользованию инициативой- к наступлению.
Враждебность – к тому, чтобы распоряжаться инициативой,
или к обороне.
СОВЕТ № 6: ОБНАЖАЙТЕ БОРЬБУ ЧЕРЕЗ ДРУЖЕСТВЕННОСТЬ. ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРАЖДЕБНОСТИ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ИНИЦИАТИВОЙ, НЕ ОБОРОНЯЙТЕСЬ, А НАСТУПАЙТЕ.
Наступая, человеку приходится раскрывать свои цели и интересы: враждебность побуждает скрывать их.
Для того, чтобы наступать дружественно на того, кто обороняется
или контрнаступает враждебно,
наступающему нужно обладать терпением и выдержкой,
иметь ясные и прочные убеждения в общности интересов своих и партнёра.
СОВЕТ №7: УЧТИТЕ, ЧТО ВСЕ ЛЮДИ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО ИЗ ПОБУЖДЕНИЙ ДОБРА. ФОРМИРУЙТЕ В СЕБЕ ЭТО УБЕЖДЕНИЕ.
Увлечённость делом – источник дружественности и оптимизма.
СОВЕТ №8: В ЛЮБОЙ, ДАЖЕ СЛУЧАЙНО ВОЗНИКШЕЙ КОММУНИКАЦИИ, СТАРАЙТЕСЬ НАЙТИ ПРЕДМЕТ ДЕЛОВОЙ БОРЬБЫ, УХОДИТЕ ОТ ПОЗИЦИОННЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ.
Мы сближаемся в улыбке
наперекор различиям языков, каст и партий.
Попробуйте улыбнуться враждебно настроенному оппоненту,
вы почувствуете как враждебное напряжение начинает спадать.
СОВЕТ №9: ПОСТОЯННО ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО УЛЫБКА СЕМИОТИЧЕСКИЙ ЗНАК ДРУЖЕСТВЕННОСТИ.
СОВЕТ №10: НЕ КОПИТЕ В КОММУНИКАЦИИ СИЛЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ.
СОВЕТ № 11: ЕСЛИ ВЫ СЛАБЫ, ОБНАЖАЙТЕ БОРЬБУ, И ТЕМ САМЫМ ВЫ СТАНЕТЕ РАВНЫМ СИЛЬНОМУ.
Драматической композицией мы называем такую динамическую структуру, которая возникает на основании драматургического столкновения и выражается в динамике сценической борьбы.
Другими словами, построить драматургическую композицию – значит расставить эмоционально смысловые и динамические акценты на всех этапах развития сквозного действия спектакля. При этом главный эмоционально-смысловой акцент поставить на кульминацию действия.
Сразу оговоримся, что мы ведём речь о действенных композициях, то есть, мы исследуем область зрелищных искусств. Поэтому , прежде всего, разберёмся с главным «виновником торжества», с действием. Что нам нужно знать. Первое – структуру исследуемого объекта, то есть структуру действия.
Второе – те связи и взаимоотношения, в которые оно вступает с себе подобными элементами в общей композиции.
О действии или всё, или ничего. Ничего в том смысле, что столько сказано, что добавить казалось бы нечего. Каждый день в каждом театре, как отче наш произносится молитва во славу его величества ДЕЙСТВИЯ! Все клянутся его именем. Все гордятся причастностью к нему. Но все ли правы? Нет не в том смысле, что клянутся, а в том, что верны ему искренне и истинно. То есть, понимаем ли мы действие до конца так, как того требует профессия. Наша профессия – профессия лицедеев в широком и благородном смысле этого слова, то есть всех тех, кто посвятил себя искусствам лицедейства в тех или иных формах и видах. Мы все, кто на сцене, подданные его величества ИСКУССТВА, которое в нашем случае творится на глазах у многих и многим посвящается. Мы делаем жизнь. Мы её выдумываем так, чтобы наша ложь, казалась правдой. Но только в случае, если мы умеем врать искренне, то есть, действуя от лица других людей, мы создаём великое и вечное! И в этом нам помогает только ДЕЙСТВИЕ, которым мы или владеем, или оно наказывает нас ложью за нелюбовь, за неуважение к себе. Уважать своё искусство, значит, в совершенстве владеть теми тайнами, которые составляют его основу. Главная тайна нашего искусства – ДЕЙСТВИЕ. Постичь её – задача каждого профессионала.
Подходы к пониманию могут быть самыми разнообразными, но одно неоспоримо – действие в основе, а всё остальное от лукавого. От лукавого творца. И не случайно каждый творящий клянётся в истинности только своего профессионального колдовства ( в хорошем смысле этого слова). Ибо искусство сродни волшебству и то, что делается по наитию, порой бывает истинней любых измышлений мудрецов. Но мерило всему опять же действие в его первозданной чистоте, свободное от идеологического насилия и баголепного поклонения, действие как чистый родник наших творческих устремлений и намерений. Свободный активный порыв - вот в чём его смысл. В действии мы выражаем все свои устремления и желания. Мы в действии потому, что оно наше порождение и наше детище в той мере, в какой произведение художника может быть от него свободным. Во всех искусствах художник и его творение разделены, а в нашем - НЕТ. Мы единое целое со своим произведением. И это накладывает отпечаток на всё наше творчество. И если мы измышляем наши творения, то они, эти придуманные нами уродцы мстят нам своей помпезной лживостью.
А действие никогда не предаст, оно будет вам верно всегда, если вы любите его и уважаете.
У действия свои законы существования. Они эти законы изучены и изложены. Но поскольку эти изложения делались разными авторами, по различным поводам, то истинный портрет действия получился фрагментарным, неполным и незавершённым. Попытаемся восполнить пробелы и нарисовать картину с той степенью наполненности, на какую мы сегодня способны. Прежде всего, действие, как его определяет психология – это оперативный приём, направленный на достижение какой-то цели. Не подвергая сомнению данное определение, попробуем уяснить себе, какую ценность оно представляет для нас, людей профессионально занимающихся лицедейством. Даже в слове лицедейство большую его часть занимает слово «действо».
Итак – оперативный приём. Что за этим стоит? (кстати, в переводе с итальянского «опера» - значит дело). А за «оперативным» стоит именно дело, которое мы осуществляем для того, чтобы чего-нибудь достичь. Мы голодны, наша цель насытится. Для этого мы совершаем массу дел: готовим пищу, накрываем стол. Если очень голодны, то и не накрываем, даже вилку не ищем, а начинаем жадно поглощать пищу и т.д. Короче, цель оправдывает средства. Но это скорее о предлагаемых обстоятельствах, о которых мы ещё поговорим. А сейчас о действии. Если это приём, то какой? Приём, приспособление, при помощи которого мы достигаем своей цели, которую порой и сформулировать-то не в состоянии. Но Природа одарила нас этой чудодейственной способностью ставить и достигать своих целей. Она дала нам для этого множество «устройств»: руки, ноги, голову, глаза, уши и т.д. Другими словами, она, Природа, дала нам нас для того, чтобы мы себя могли обеспечивать всем необходимым. Она научила нас действовать в тех условиях, которые она, Природа, нам определила. Мы начали действовать и достигли того, чего мы достигли. Если бы мы бездействовали, то эти строки не только писать, читать бы некому было. Но мы не бездействовали, мы хотели и делали. Делали всё, чтобы выжить, что и произошло. Другими словами, мы проявляли свою волю.
Таким образом, мы с полной уверенностью можем констатировать:
Действие с одной стороны определяется наличием цели, а с другой характеризуется волевым происхождением. То есть, если мы хотим, делаем, а не хотим, не делаем. Всё от нашей воли зависит.
Итак, ЦЕЛЬ и ВОЛЯ. Вот те два параметра, которые характеризуют действие. Независимо от того жизненное это действие, или сценическое. В структуре действенного акта эти два фактора определяющие. Без них действие не может возникнуть. Но коль скоро мы заговорили о действии сценическом, то необходимо оговорить, чем же жизненное действие отличается от сценического. Как говорится, структурно они абсолютно идентичны. Но раз существуют два вида действия, то отличия должны иметь место.
В жизни как бывает. Мы что-то делаем. Едим, например. А за нами наблюдают, а мы это, если не видим, то хотя бы чувствуем. И ведём себя соответственно, сплошная скромность. А если мы знаем, что за нами не наблюдают, то руки и об занавеску можем вытереть. Так бывает в жизни. В поведении отражается весь человек, все его предпочтения, его воспитание, его желания, его эмоциональные состояния. На сцене точно так же, с той только разницей, что мы знаем исход нашего действия, его драматург предопределил. Мы знаем, что, несмотря на все наши усилия, мы все равно по сюжету пьесы остались в дураках. В жизни мы порой не обращаем внимания, как проявляются наши эмоции в ходе действования, а на сцене эта сторона становится превалирующей. То есть, в жизни акцент стоит на оперативной функции действия, а на сцене действие нас интересует в большей степени как ВЫРАЗИТЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ действующего лица. К.С.Станиславский говорил, что отношение на сцене – это всё. Нам интересен герой пьесы своими отношениями и их изменениями по ходу действия, а не тем чего он добился в процессе развития сюжета. Чего он добился, мы уже знаем. А вот как он будет реагировать – это интересно. В этом неуёмном любопытстве коренятся истоки режиссёрской трактовки того или иного сценического образа. Историю Гамлета-принца датского знают все, а вот как у этого режиссёра Гамлет отреагирует на известие о смерти отца – интересно уже не одному поколению зрителей на земле.
Действие двулично: оно и оперативный приём, оно же и выразитель отношений действующего лица. В этой универсалии великая тайна и сила действия.
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Кстати, о размере действия.
То есть, какими единицами оно измеряется?
Можно ли сказать, большое это действие или маленькое.
И нужно ли нам знать это?
Очевидно, нужно, раз мы задаёмся подобными вопросами.
На пути к каждой цели стоят препятствия. И мы должны их преодолеть, прежде, чем достигнем того, чего мы хотим.
Действие неотделимо от препятствий
и они, и только они определяют его параметры.
Сколько преодолений на пути к цели – вот вопрос,
который должен задать себе каждый,
кто начинает анализировать поведение своего персонажа.
И вот количество-то этих препятствий
и будет определять размер нашего действия.
А теперь к основному – к структуре действенного акта. Хотя понятие «действенный акт» - это тавтология, акт и есть действие, но так уже сложилось в нашей профессии - имя действию акт, а сам акт всегда действенен.
Но почему мы начинаем действовать, почему мы стремимся реализовать те или иные стоящие перед нами цели, какая воля движет нами для их достижения? Всё это вопросы, которые имеют только один ответ. Нами движет потребность. И процесс удовлетворения этой потребности и есть процесс действования, возникающий лишь тогда, когда наша потребность сталкивается с реальными обстоятельствами. Как говорится, процесс пошёл. Возникла цель. Мы устремились к ней. Но, лишь, тогда, когда наша жгучая неудовлетворённость столкнулась с возможностью удовлетвориться. Если таковой возможности нет, целеполагание не осуществляется, или осуществляется как гипотетическое рассуждение на тему, а неплохо бы…
Но как человек - мерило всех вещей, так действие - мерило всего в зрелищных искусствах.
От объекта нашего желания приходит ИНФОРМАЦИЯ.
Мы её воспринимаем. Не будем вдаваться в психологические тонкости самого процесса восприятия. Лишь подчеркнём - на этом этапе идёт её накопление. Информации. И ещё подчеркнём, что основная наша забота здесь не упустить ничего из того, что поступает к нам от объекта. Воспринять в полном объёме, во всех деталях и тонкостях.
Итак, восприняли. Назовём это информационным уровнем.
Теперь надо оценить. Что это мы восприняли, зачем нам ЭТО? Что мы с ним будем делать? И вообще, чем ОНО нам угрожает, а может быть и полезно. ОНО.
ОЦЕНИЛИ, СООРИЕНТИРОВАЛИСЬ. Подходит.
Назовём это ценностно-ориентационным или аксиологическим уровнем.
Дальше, больше.
Теперь надо принимать РЕШЕНИЕ, что с ЭТИМ делать. А если не делать, то на кой чёрт ОНО нам нужно? Короче – решаем.
РЕШИЛИ.
При этом сам акт принятия этого решения для нас акт уникальный и неповторимый, а потому это процесс творческий.
Назовём по - научному - эвристическим уровнем.
И, наконец, на основе принятого решения мы начинаем оперативно действовать. Это действование связывает нас с объектом наших творческих устремлений. Другими словами, мы устанавливаем с объектом связь -КОММУНИКАЦИЮ.
Опять по - научному назовём этот уровень коммуникативным
Но, как мы уже отмечали выше, действенный акт помимо оперативной имеет ещё одну свою оборотную сторону. Эта сторона несёт на себе отпечаток ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, эдакого эстетического флёра.
Так и назовём -эстетический уровень.
Кое-что нарисуем и получим совершенно уникальную, до нас никем не исследованную структуру действенного акта.
В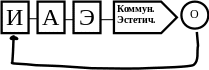 озможно,
это будет не так научно, как хотелось
бы, но зато достаточно наглядно и
информативно:
озможно,
это будет не так научно, как хотелось
бы, но зато достаточно наглядно и
информативно:
О – объект действования, на который направлена наша активность,
И – информационный уровень, где мы накапливаем информацию,
А – аксиологический (ценностно-ориентационный), здесь мы оцениваем,
Э – эвристический, как уже говорилось – принятие решения,
КОММУН. – коммуникативный (оперативный)
ЭСТЕТИЧ. – эстетический (выразительный)
Короче, все указанные нами уровни или, если хотите, этапы действенного процесса. Стрелка же указывает на обратную связь – канал, по которому поступает информация от объекта к субъекту действования. Вернее, не на канал, а на сам факт существования канала.
Осталось понять, для чего нам нужна эта структура? Крайняя необходимость в ней возникает в случае, когда мы собираемся классифицировать весь комплекс праздничных форм. Но этим займёмся ниже, а сейчас…
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Как часто в своей профессиональной повседневной практике
мы широко употребляем столь схожие
и в то же самое время столь отличные друг от друга термины – интерес, потребность, мотив, цель действия, этикет поведения.
Употребляя, мы не даём себе труда объяснять подобный феномен,
мы используем эти термины,
лишь интуитивно чувствуя своё право на подобное «злоупотребление». Но если вдуматься в нашу схему, всё сразу встаёт на свои места.
На информационном уровне потребность активно устанавливает, какой бы информацией ей поживиться
Аксиологический уровень даёт возможность проявить интерес.
Приняв решение на эвристическом уровне, мы определяем мотив своего поведения.
На коммуникативном - мотив трансформируется в цель,
а уже этикет поведения говорит нам о том, что мы перешли на эстетический уровень.
Таким образом, вся эта терминология, столь путано однообразная
становится прозрачно ясной и специфически различной.
РАБОТА НАД ЗАМЫСЛОМ
На основе изучения исторических, архивных, фольклорных материалов определить весь комплекс исторических, социальных, фольклорных обстоятельств, которые породили данное праздничное событие. Необходимо раскрыть традиционные формы проведения проектируемого праздника, формы создания предпраздничной и праздничной атмосферы. С этой целью необходимо воспользоваться и местной периодической печатью, и историческими источниками, а также устными рассказами, легендами, сказками, былями и небылицами, которые раскрывают нам праздничное событие во всём его многообразии.
-Разработать замысел, то есть, с учётом главной функции постановки определить своё художественно-эмоциональное отношение к данному факту.
Режиссура зрелищ и праздников возникла сравнительно недавно. Но зрелостью своей дерзко бросает вызов многим тем, кто уже века венчает своим присутствием божественный Олимп искусства. Режиссерское начало всегда существовало в организации празднеств. Оно в простых ритуальных формах прошлого, в старинных народных обрядах и играх минувших столетий. Люди всегда стремились к соединению социального и эстетически совершенного. В этом отношении нет принципиального различия между праздничным действием минувших эпох и современными новейшими праздниками. Но специфика современного праздника в его п р о е к т н о м характере,
Исходным в творчестве режиссера являются закономерности праздничного формообразования, основанные на цельности образного мышления режиссера и его способности соединять воедино и регулировать взаимоотношения социальной и художественной культуры. И тогда на место хаоса праздничных форм приходит упорядоченная система, внутри которой находится человек.
Безусловно, что праздник является эстетическим явлением по своей природе. Чем ближе мы рассматриваем природу режиссерского творчества в празднике, тем больше мы склоняемся к мысли, что праздник - искусство. Но, чем ближе мы подвигаемся к той социальной среде, в которой развивается праздничное действо, тем больше в нем проступает социальное начало.
Следовательно, исходным в творчестве режиссера празднеств с одной стороны, является специфика той социальной среды, в которой развивается праздничное действо, а с другой - законы художественного творчества. Но, следует оговориться, взятые не в чистом виде, а как бы преломленные сквозь призму “документальности” праздничного действия.
Наиболее трудно отделить эту режиссуру от театральной режиссуры.. Но, если в театре мы имеем дело с художественным действием, то в празднике (по термину Бахтина) с действием паратеатральным. Если, как мы говорим, художественная деятельность - это осуществление обусловленных действий в обусловленных обстоятельствах, то сам художественный действенный факт - двигатель нашего действия, от начала и до конца есть субстанция вымышленная, искусственно созидаемая.
И, наоборот, факт, положенный в основу праздничного действия является по своей природе фактом “документальным” по отношению к самому празднику. Если в первом случае режиссура - это есть создание ранее не существовавшего сценического явления, то в режиссуре празднества режиссер соединяет и компонует в общую композицию факты, события и явления, созданные другими профессионалами или существующие “документально” помимо воли и желания постановщика.
В результате чего возникает новая функционально-творческая структура, обладающая совершенно конкретными новыми свойствами. Именно поэтому деятельность режиссера празднества - творческий процесс.
Однако, результат деятельности рождается не столько из задач её и целей, сколько из тех средств, которыми пользуется профессионал. Композиция-это сочинительство. Игра ума. Тонкая, изящная игра смыслов. Сопоставление, сочетание и разделение, аналогии и ассоциации – всё то, что составляет творческий процесс с непредсказуемым результатом на выходе. Алгоритм работы режиссёра над композицией определяется не столько последовательностью операций, сколько эмоционально-художественным характером всего алгоритмического процесса.
А.Альтшулер когда то написал книгу под названием «Творчество как точная наука». Применимо ли к творчеству такая формулировка – можно спорить, но не это главное. В книге рассматриваются эвристические методы работы над изобретательскими задачами. Изобретатели-инженеры уже давно озаботились проблемой активизации творческого мышления и разработали целый ряд эвристических методик, которые, как нам кажется, с успехом могут взять на вооружение представители так называемых творческих профессий.
Прежде всего, отметим, что ЭВРИСТИКА – ЭТО НАУКА О ТВОРЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ, которая даёт нам возможность понять процесс творчества, как процесс активного преобразования. Но нас, пожалуй, в первую очередь будут интересовать не теоретические размышления, а тот практический опыт, который нам предлагает эта наука.
Обратимся сразу к её основополагающим постулатам. Их три. В процессе генерации творческих идей эвристика советует нам их строго придерживаться. Звучат они так:
