
- •I. Я отправляюсь в Шоос-гауз
- •II. Я достигаю места назначения
- •III. Я знакомлюсь со своим дядей
- •IV. Я подвергаюсь большой опасности в Шоос-гаузе
- •V.Я иду в Куинзферри
- •VI. Что случилось в Куинзферри
- •VII. Я ухожу в море на «Конвенте» из Дайзерта
- •VIII. Капитанская каюта
- •IX. Человек с поясом, полным денег
- •X. Осада капитанской каюты
- •XI. Капитан признает себя побежденным
- •XII. Я слышу о Красной Лисице
- •XIII. Гибель брига
- •XIV. Островок
- •XV. «Мальчик с серебряной пуговицей». По острову Маллу
- •XVI. «Мальчик с серебряной пуговицей». По Морвену
- •XVII. Смерть Красной Лисицы
- •XVIII. Разговор с Аланом в Леттерморском лесу
- •XX. Бегство сквозь вересковые заросли. Скалы
- •XXI. Бегство. Ущелье Корринаки
- •XXII. Бегство. Степь
- •XXIII. «Клетка Клюни»
- •XXIV. Бегство. Ссора
- •XXV. В Бальуйддере
- •XXVI. Конец бегства. Мы переправляемся через Форт
- •XXVII. Я прихожу к мистеру Ранкэйлору
- •XXVIII. В поисках наследства
- •XXIX. Я вступаю в свои владения
- •XXX. Прощание
- •I. Нищий стал богачом
- •II. Гайлэндский стряпчий
- •III. Я отправляюсь в Пильриг
- •IV. Лорд-адвокат Престонгрэндж
- •V. В доме адвоката
- •VI. Бывший лорд Ловат
- •VII. Я не сдержал свое слово
- •VIII. Наемный убийца
- •IX. Страна вереска в огне
- •X. Рыжий человек
- •XI. Лес около Сильвермилльса
- •XII. Я снова в пути с Аланом
- •XIII. Джилланские пески
- •XIV. Утес Басс
- •XV. Рассказ Черного Энди о Тоде Лапрайке
- •XVI. Отсутствующий свидетель
- •XVII. Докладная записка
- •XVIII. Мяч
- •XIX. Я попадаю в дамское общество
- •XX. Я продолжаю вращаться в хорошем обществе
- •XXI. Путешествие в Голландию
- •XXII. Гельвутслуйс
- •XXIII. Скитания по Голландии
- •XXIV. Подробная история книги доктора Гейнекциуса
- •XXV. Возвращение Джемса Мора
- •XXVI. Трое
- •XXVII. Двое
- •XXVIII. Я остаюсь один
- •XXIX. Мы встречаемся в Дюнкерке
- •XXX. Письмо с корабля
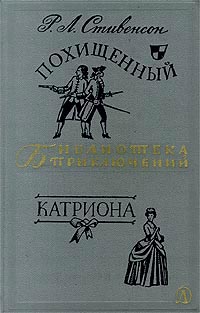


И (Англ)
С80
Перевод с английского О.В.Ротштейн
Оформление Ю. Киселева
Рисунки Т. Шишмаревой
ТУЗИТАЛА
(Роберт Льюис Стивенсон. 1850—1894)
Однажды возле острова Уполо в архипелаге Самоа бросила якорь морская яхта. На берег сошли высокий длинноусый, болезненного вида человек— владелец яхты, его жена и пасынок— юноша лет двадцати двух. Человек этот купил у туземцев небольшой участок земли, построил два дома: один для себя с женой, другой для пасынка, и навсегда поселился здесь, по соседству с чуждыми ему темнокожими островитянами. Архипелаг Самоа известен своим здоровым климатом. Новый обитатель острова был очень болен. Он кашлял, часто вынужден был лежать в постели, а когда здоровье его улучшалось, часами просиживал у себя в кабинете за письменным столом.
Удивительные истории записывала на бумаге его рука— худая, с длинными костлявыми пальцами.Из своего окна он видел неподвижную,точно растворившуюся в солнечном блеске ширь южного океана,а писал он о штормах и о кораблекрушениях у голых шотландских скал, о мрачных ущельях Гайлэнда, о простых сердцем и мужественных людях прошлых времен, о погонях, о рукопашных схватках, о любви, преодолевающей все испытания, наконец, о кознях злодеев, которые побеждает честность и храбрость. Цветы невиданных форм и необычайной раскраски цвели у него под окном, ветер приносил запахи лимона и ванили, а он писал об однообразных, поросших вереском равнинах Шотландии, где стаями бродит серая куропатка и пасутся дикие козы.
Иногда,ослабев от изнурявшей его болезни,он диктовал пасынку свои истории. Он любил этого юношу и любил беседовать с ним. Однажды он ему сказал: «Я не являюсь человеком какого-то необычайного таланта, Ллойд, я начал с очень скромными возможностями.В моем успехе я всецело обязан моей системе:доводить то, что у меня есть, до высшей степени развития. Если человек начинает развивать одну способность и делает это с неутомимой настойчивостью, он может сделать чудеса».
Туземцы вскоре узнали, какое сердце у этого белого человека. Пришелец не только охотно вступал с ними в беседы, слушал их песни и предания, но горячо защищал их права в столкновениях с хищной администрацией островов. Ни один белый не мог похвастать таким уважением к себе со стороны туземного населения, какое вскоре завоевал этот пришлый человек. Его выбрали главой племени, почитали его, как божество. Белые называли его Королем Самоа, а темнокожие островитяне дали ему другое прозвище — «Тузитала», что значит «повествователь».
Это было верное прозвище. Больной, поселившийся на острове человек был Роберт Льюис Стивенсон— писатель, имя которого славилось во всех цивилизованных странах.
Стивенсон по праву мог говорить пасынку о своем успехе. История мировой литературы знает немного случаев, когда писатель с такой быстротой добился бы всемирного признания. Свой первый роман «Остров сокровищ» он написал в 1881 году в возрасте тридцати одного года, вовсе не думая о том, что эта книга сразу поставит его в один ряд с лучшими писателями его времени. Рассказывают так: однажды он для забавы нарисовал карту несуществующего острова, на котором морские разбойники зарыли клад, и надписал на ней «Остров сокровищ». Маленький Ллойд, его пасынок, потребовал, чтобы он все подробно рассказал ему про клад и про остров. Стивенсон— инженер и юрист по образованию, безымянный, начинающий литератор, всего лишь автор нескольких путевых очерков,—начал писать роман. Все, что он сам любил в детстве, все, что много лет назад волновало его воображение, все слышанные им истории о старых моряках, о парусных кораблях, пересекавших океанские просторы, ожили в его памяти. И вот на первых же странницах романа появились моряк с косичкой и с багровой от пьянства физиономией, дикая песня «Пятнадцать человек на ящике с мертвецом — йо-хо-хо! — и бутылка рому!» и таинственная морская карта, найденная в сундучке, окованном медью.
Каждую написанную главу Стивенсон читал по вечерам пасынку, жене и другим членам семьи. Когда, некоторое время спустя, роман вышел из печати, его сразу же перевели на несколько языков, им зачитывались дети и взрослые, изысканные ценители художественной литературы и малограмотное население беднейших классов Англии. Книга, которая была написана для того, чтобы в семейном кругу скоротать у камина зимние вечера, стала народной книгой. В течение ближайших тридцати лет «Остров сокровищ» выдержал в Англии 92 издания, то есть роман расходился и вновь выходил из печати каждые 3—4 месяца. Это был поистине беспримерный успех.
Такой же успех принес Стивенсону другой его роман — «Похищенный», напечатанный в 1886 году. За двадцать пять ближайших лет роман этот выдержал (только в Англии) 72 издания.
Критика восторженно писала о Стивенсоне. В представлении современников он складывался как писатель исторический, как своеобразный продолжатель традиций великого Вальтера Скотта. Но в том же 1886 году Стивенсон выпустил еще новую свою повесть, которая называлась «Странная история доктора Джеккиля и мистера Хайта». Опубликование этой повести с острым фантастическим сюжетом, в которой, однако, действовали современные люди, явилось сенсацией. И это был новый, совсем другой, вовсе не «исторический» Стивенсон.
По свидетельству близких, он нашел сюжет этой загадочной и вместе с тем глубокой по смыслу повести… во сне. Он спал, кричал во сне, ему снилось нехорошее; жене пришлось его разбудить. «Зачем ты меня разбудила? — сказал он с досадой. — Мне снился превосходный рассказ». Так это или не так, но в три дня он написал свою «Странную историю» о человеке, духовное существо которого обладает способностью жить порознь, то в оболочке доктора Джеккиля, то в оболочке мистера Хайта. И если доктор Джеккиль — благовоспитанный, добропорядочный английский джентльмен, то все злое, все нечистое, что таится в глубинах его подсознания, воплощает в себе его отвратительный двойник мистер Хайт — другой, реально существующий образ одного и того же человека.
В самом деле, странная история, странная выдумка, казалось бы не имеющая под собой никаких оснований. Но это не так.
Отбросим в сторону психологическую теорию, получившую за последние полвека чрезвычайное распространение на Западе в науке и в художественной литературе,— теорию, согласно которой поведение человека обусловлено прежде всего бессознательными влечениями и инстинктами. Мало того, темные эти силы, таящиеся в глубинах человеческого естества, будто бы определяют самое развитие общества: революции, войны, культурная, творческая деятельность человека— все, согласно фрейдистскому учению, будто бы коренится в биологической, то есть животной природе человека.
Ложные умствования, ложное учение, искажающее объективные законы психической жизни. Но инстинктивное, врожденное, присуще человеческой природе— это данность, которую нельзя отрицать. Еще И. П. Павлов учил о сложных цепочках безусловных рефлексов (чем на языке физиологии и является инстинкт), находящихся в сложном подчинении второй сигнальной системе, то есть мышлению, речи, иначе говоря, именно тем свойствам, которые и делают человека человеком.
Так, значит, эти темные, врожденные силы обезврежены в человеческой психике, как бы спят глубоким сном? Да, спят, но могут и пробуждаться в определенных социальных условиях, в определенной социальной среде, и пробуждение их бывает пугающим.
Я пишу эти строчки, а передо мной лежит последний выпуск «Литературной газеты» со статьей чешского академика Эрнеста Кольмана по поводу новых «изысканий» западногерманского журнала «Шпигель». «Любящие отцы»,— пересказывает Кольман редакционную статью в журнале,— которые, уходя из дома, гладят по головке своего ребенка, несколько минут спустя, когда они сидят за рулем своей машины, со злобой давят мальчика или девочку, случайно перебежавших дорогу».
Так ведь об этом мы же и читаем у Стивенсона в его «Странной истории»! Герои ее ездили не в автомашинах, а в кэбах (каретах), тем не менее совпадение полное: чудовищный мистер Хайт сбивает попавшегося ему под ноги ребенка и безжалостно наступает на его тельце!
А статья в западногерманском журнале, посвященная некоторым явлениям современной жизни(разумеется, западного мира), разъясняет их так, что преступления, ежечасно совершающиеся в больших городах, больше того, навеки закрепившиеся в памяти человечества гитлеровские лагеря смерти— очаги массового истребления людей, современные средства и методы войны, к которым в наши дни, в частности, прибегают Соединенные Штаты в джунглях Вьетнама,— все это явления совершенно естественные, изначальные. В сущности, они даже не подлежат осуждению, потому что корень их— именно двойственная природа человека, врожденные и неизменные его свойства.
Все это говорится к тому, что Стивенсон, творчество которого обычно расценивается как уход от действительности в область чистого вымысла, на самом деле очень зорко вглядывался в современную ему действительность. Английское буржуазное общество всегда славилось своей благопристойностью, особенно в ту эпоху, так называемую «позднюю викторианскую», когда «владычица морей»— самая великая колониальная держава по тем временам— находилась на вершине своего могущества и благополучия. И респектабельный доктор Джеккиль, капиталист, ученый-медик,— это собирательный, чрезвычайно характерный для своего времени образ. Разглядеть в докторе Джеккиле его чудовищного двойника, нравственного урода мистера Хайта, мог только на редкость проницательный писатель, не только не отворачивавшийся от окружающего его мира, напротив, глубоко постигавший его двойственную природу.А средства, которыми Стивенсон выразил свою удивительную догадку— фантастическая повесть,— что ж, форма эта не хуже других. Фантазия не искажает правды, она лишь придает ей особую выразительность.
Итак, популярность Стивенсона возрастала от романа к роману. Чем же никому не ведомый романист сумел так захватить миллионы читателей самого разного возраста, разного языка и культуры? Мастеров сюжетного чтения в литературе западных народов в ту пору было достаточно. Стивенсон, бесспорно, умел строить увлекательные сюжеты, но делал это совсем иначе, нежели прославленные романисты Габорио, Понсон дю Террайль или Ферри. Стивенсон был настоящим поэтом, а это значит: приключение вовсе не являлось конечным и главным- содержанием его творчества, но представляло собой лишь неотъемлемую часть его общего поэтического восприятия жизни.
Скажем ясней: в своем творчестве Стивенсон не ставил перед собой задачи во что бы то ни стало построить сюжет, богатый неожиданными поворотами и острыми положениями. Истинный художник, настоящий писатель, он прежде всего писал о жизни. А эта жизнь, в которую он верил и которую любил, изобиловала драматическими острыми столкновениями человека с природой, человека с человеком, одной сильной натуры с другой. И вот отчего в романах его то и дело возникали кораблекрушения и странствия, полные опасностей, побеги и погони, схватки и поединки. И это не обязательно поединки па шпагах— чуть ли не каждый разговор у Стивенсона по существу поединок, где что ни слово, то выпад, удар, и победа принадлежит тому, у кого ясней разум, крепче воля и чище совесть.
Описания природы, обстановки, в которой развертываются судьбы героев, у Стивенсона по-настоящему поэтичны. Будь то необозримые вересковые плоскогорья в «Похищенном» или в «Сент-Иве», или ничем не примечательный на первый взгляд, поросший редким леском л в то же время полный тайн и опасностей берег в «Острове сокровищ», или черная, бесснежная, истинно английская зимняя ночь в саду— ночь, когда два брата сходятся, чтобы при свете ламп, поставленных прямо на мерзлую землю, драться на шпагах («Мастер Баллантрэ»),или непроницаемая морская глубь, открывающаяся с обрыва, в которой предвестником близкой беды время от времени скользит тень большой рыбы («Веселые ребята»),— все это настоящая поэзия. В то же время обстановка у Стивенсона вовсе не довесок к сюжету. Ощущение тайны, предчувствие опасности он описывает иногда подробнее, нежели самую развязку. И подробное описание зловещей ночи в «Мастере Баллантрэ» — это предвестник драмы, которая разыграется дальше, точно так же, как пустынный, ничем не примечательный берег «Острова сокровищ» именно в этой своей обыденности и таит предчувствие новых тайн, новых опасностей и столкновений.
Люди в романах Стивенсона написаны превосходно. Не только верны исторически их портреты — верны исторически их характеры, точные для своего времени и своей среды.
О Стивенсоне как о писателе реалистического таланта лучше всего судить по его романам «Похищенный» и «Катриона». Действие этих романов происходит в 50-е годы XVIII века непосредственно вслед за подавлением последнего вооруженного восстания шотландских горцев («гайлэндеров»), выступивших против английского короля Георга II за восстановление на английском троне шотландской династии Стюартов. Этим событиям предшествовал длительный исторический период борьбы Шотландии с Англией. Последний представитель шотландских Стюартов Яков II в 1688 году в результате «славной революции» был свергнут с английского престола и бежал во Францию. Реакционные английские дворяне, которых поддерживали жители горной Шотландии, несколько раз делали неудачные попытки вернуть корону сначала Якову II, затем его сыну Якову, получившему прозвище «Претендента» (1709—1715) и, наконец, его внуку, так называемому «Молодому претенденту» Карлу-Эдуарду Стюарту, известному в Шотландии под именем принца Чарли. Высадившись в Шотландии (1745), он собрал ополчение из горцев, но после первых военных успехов был разбит английскими правительственными войсками и бежал (1746). Поддерживая монархию Стюартов, горные шотландцы мечтали отстоять свою национальную независимость и сохранить свой клановый родовой строй, который стал приходить в упадок после насильственного соединения Шотландии с Англией по договору 1707 г. Однако после поражения восстания 1745—1746 гг., о котором часто упоминается в обоих романах Стивенсона, клановый строй был окончательно разрушен,вожди кланов казнены или изгнаны, родовой суд, родовые обычаи и даже шотландская национальная одежда запрещены.
Герой обоих романов— молодой человек Давид Бальфур, сын сельского учителя, по рождению неимущий мелкопоместный дворянин (наследственное владение Шоос вместе с титулом возвращается к нему лишь под конец повествования),— это далеко не романтический герой в нашем обычном представлении. Он хорошо обучен латыни и не умеет владеть шпагой. Он претерпевает по ходу повествования опаснейшие приключения и злоключения, причем мужество его таково, что ему завидует даже такой профессиональный вояка и отчаянный дуэлянт, как его новоявленный друг, шотландский дворянин Алан Брек. Вместе с тем молодой человек, герой романа, вовсе не гонится за приключениями. По складу своему он, пожалуй, даже из тех, о ком говорят «скучный человек». Благоразумно он мечтает о том, чтобы «жить впредь по собственному усмотрению, пользоваться своим состоянием и увеличить его, посвятить некоторое время своей юности на ухаживание за Катрионой, что, во всяком случае, было бы для меня более подходящим занятием, чем прятаться, бежать, переносить преследование, точно вор». Странствующий рыцарь готовит себя к самой будничной профессии юриста, стряпчего, ходатая по судебным делам! И хотя в обоих романах Стивенсон вновь переносит нас в излюбленный им XVIII век, на столетие назад от современной ему действительности, в бурную, поистине романтическую эпоху религиозных войн и племенных междоусобиц, «романтический» его герой, с опасностью для жизни тайно поджидая преследуемого Алана Брека, рассуждает так: «Говорят, что есть свои резоны сажать капусту и что даже в религии и этике есть место для здравого смысла». Не знаю, как насчет отхода от реалистических традиций Диккенса и Теккерея, но разрушение романтической традиции у Стивенсона явное.
Но, может быть, не этот неотесанный деревенский юнец Давид Бальфур, а офицер-якобит (то есть сторонник претендента на английский престол короля Якова Стюарта, разбитого войсками короля Георга) предстает в романе олицетворением рыцарской доблести,благородства, воинского искусства— словом, всех тех качеств, которые присуши романтическому герою? Пусть читатель внимательно прочтет ту главу, где повествуется о схватке Алана с командой брига «Конвент», руководимой ее вероломным капитаном. Алан Брек храбр. Он не собирается даже баррикадировать дверь рубки: пусть «большая часть моих врагов будет передо мной, а там-то я и желаю их видеть». Один против пятнадцати (Бальфур только время от времени стреляет из пистолетов) он поистине творит своей шпагой чудеса под стать прославленным мушкетерам Дюма из его пятитомной романтической эпопеи. «Шпага в руках Алана мелькала, как ртуть». Враги бегут. «Алан гнал их вдоль палубы, как собака загоняет овец». В бою он даже слагает песню, слова и мотив, прославляющую его ловкость, его шпагу.
И как же вместе с тем он тщеславен, суетен, этот храбрец, какие смешные стороны его натуры раскрываются нам уже при первой встрече с ним! Он позер. «Он очень кичился своей победой и принимал такие изящные позы, что казался непобедимым». А в песне, сложенной им, он даже забывает упомянуть Давида Бальфура, от выстрелов которого все-таки пало несколько человек, всю честь победы приписывая только себе.
А дальше, в совместном их путешествии по Гайлэнду — дикой горной Шотландии,— где же благородство Алана Брека? В карточной игре с одним из вождей разгромленных горцев он проигрывает деньги не только свои, но и своего товарища по скитаниям. Раздраженный, злой, сущий задира-дуэлянт, он издевается над своим юным спутником, ослабевшим в пути, он оскорбляет его, он готов даже сразиться с ним на шпагах и, стало быть, наверняка убить. И ссора кончается бурным раскаянием, едва ли не сопровождающимся слезами. «Дэви,—сказал он,— я дурной человек, у меня нет ни ума, ни доброты, я забыл, что ты еще ребенок, что ты умираешь на ходу». Весь он такой— с его смешной заносчивостью, бахвальством, легкомыслием и чистым сердцем, способным на искреннюю любовь и самоотверженную дружбу.
Алан Брек—сложный характер, написанный рукой писателя-реалиста, следует сказать— подлинного сердцеведа. «Нет людей совершенно дурных,— размышляет Давид Бальфур,— у каждого есть свои достоинства и недостатки». Это, в сущности, исходная позиция и самого Стивенсона в изображении его героев, которых он тем не менее любит, несмотря на их недостатки, даже восхищается ими. А приключения — кровавые схватки, погони, заговоры, океанские штормы? Так ведь именно оттого, что действующие в его романах лица— обыкновенные люди, а не ходульные герои, самые невероятные, самые романтические приключения приобретают в наших глазах совершенную достоверность. Мы никогда до конца не поверим Александру Дюма, хотя воображение наше пленяют образы его мушкетеров или образ «благородного мстителя» графа Монте-Кристо. Стивенсону мы верим. Романы Дюма— великолепный, увлекательный спектакль с богатейшими декорациями и бутафорией; романы Стивенсона — жизнь.
В России Стивенсона знали плохо. В сознании русских читателей он занял безусловно не подобающее ему малое место, едва ли не в одном ряду с такими бойкими закройщиками сюжетного чтения, как Л. Буссенар или Луи Жаколио. Правда, романы Стивенсона, по мере их опубликования на родном языке, переводили и печатали наши наиболее распространенные «взрослые» журналы того времени («Русский вестник», «Вестник Европы»), но впоследствии Стивенсон выходил из печати только в серии писателей-«приключенцев», так сказать, «по второму разряду», тогда как Брет-Гарт, Киплинг, Джек Лондон занимали и у нас первенствующие места. Тут, нет сомнения, произошла историческая ошибка: критика наша не разглядела Стивенсона-реалиста, поэта, писателя глубоких психологических проникновений, поверхностно заметив одну только сторону его дарования — мастерство интриги.
Сам же Стивенсон знал русскую литературу гораздо лучше, чем его современники. По утверждению самих англичан, именно русская литература оказала огромное влияние на его творчество. В частности, романы Достоевского он читал во французских переводах и восхищался ими задолго до того, как Достоевский был переведен на английский язык.
Стивенсон прожил трудную жизнь. Тяжелое хроническое заболевание (туберкулез) с детских лет подолгу держало его в постели. Ему пришлось по состоянию здоровья дважды бросать свою профессию (сначала— инженера, потом— юриста), много скитаться по Европе в поисках места, наиболее благоприятного для того, чтобы работать и жить. Климат родной и горячо им любимой Шотландии был вреден ему.
Скитаясь по Европе, он встретился с вдовой состоятельного американца миссис Осборн, которая впоследствии стала его женой. Он последовал за ней в Америку и после кратковременного посещения родных мест больше уже не возвращался в Европу. Слава и достаток пришли к нему поздно, когда здоровье его было уже сильно подточено.
Последние четыре года своей жизни Стивенсон, как сказано, прожил на одном из островов Южного полушария. Здесь им был написан роман «Катриона» (продолжение «Похищенного») и, совместно с его пасынком, роман «Потерпевшие кораблекрушение». Ллойд Осборн писал вводную бытовую часть о приключениях героя в Париже и в Сан-Франциско, Стивенсон — все то удивительное, что произошло дальше на корабле во время его плавания в южных морях.
«Берег Фалеза» (повесть из цикла «Вечерние беседы на острове») — это не просто романтическая повесть о канаках (полинезийцах) и белых, нравы которых Стивенсон хорошо узнал за годы своих скитаний по Океании. Это повесть огромного социального смысла, тем более беспощадная к белым хозяевам островов, что герой ее— торговец копрой Уильтшайр — человек, в сущности, не хуже, а лучше, нравственнее своих соотечественников. И все-таки он лжив, жестокосерден, развратен и, по существу, глубоко презирает наивных и добродушных туземцев.
Иначе относился к своим темнокожим друзьям Р. Л. Стивенсон. Он не только писал о них, но писал и для них: чудесная сказка «Бутылка дьявола», в основе которой лежит старинная легенда европейского происхождения, была написана им специально для туземных читателей. Героев этой сказки он сделал канаками, действие перенес в Океанию.
Последний свой роман «Сент-Ив»— прекрасную книгу о похождениях в Англии пленного наполеоновского офицера — он диктовал пасынку, уже не в силах подняться с постели. Он умер, не закончив своей работы. (Впоследствии роман был дописан известным в свое время писателем Квиллер-Коуч.)
В ночь его смерти туземцы проложили тропу на вершину горы, возвышавшейся над островом, и перенесли туда тело Тузиталы-повествователя. Плита серого камня прикрыла его могилу. На ней была высечена надгробная надпись в стихах, сочиненная Стивенсоном, и библейский текст: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, где ты будешь жить, там и я буду жить, народ твой будет моим народом…»
Всеволод Воеводин.

Записки о приключениях Давида Бальфура в 1751 году, о том, как он был похищен и потерпел крушение; о его страданиях на пустынном острове; о его странствовании по диким горам; о его знакомстве с Аланом Бреком Стюартом и другими выдающимися якобитами шотландской горной области; и обо всем, что он претерпел от рук дяди своего Эбенезера Бальфура, ложно именовавшегося владельцем Шооса, писанные им самим и ныне изданные Робертом Льюисом Стивенсоном.
ПОСВЯЩЕНИЕ
Дорогой мой Чарлз Бакстер! Если вы когда-нибудь прочитаете этот рассказ, то, вероятно, зададите себе больше вопросов, нежели я мог бы дать ответов. Так, например, вы спросите: каким образом убийство в Аппине пало на 1751 год; каким образом Торренские скалы придвинулись так близко к Эррейду или почему опубликованный отчет об этом деле совсем ничего не говорит обо всем, что касается Давида Бальфура? Ведь эти орехи мне не по зубам. Но если вы меня спросите о том, виновен ли Алан или невиновен, то я полагаю, что могу постоять за свой рассказ. Вы могли бы сами убедиться в том, что местное предание в Аппине и доднесь явно высказывается в пользу Алана. Если вы наведете справки, то можете узнать, что потомки «другого человека», того, что стрелял, и теперь еще существуют в той местности. Но можете спрашивать сколько угодно, а имени этого «другого» вы не услышите: горцы свято соблюдают эту тайну, уважая вообще всякие тайны, и свои собственные и своих сородичей. Я могу с успехом оправдывать один пункт, но должен признать, что другой пункт оправдать невозможно; лучше уж признаться сразу, как мало интересует меня желание быть точным. Я пишу книгу не для школьной библиотеки, а для чтения зимними вечерами, когда занятия в классах уже кончены и приближается время сна. Честный Алан, который в свое время был лихим воякой, в своем новом перерождении выведен мною не с каким-либо особым злодейским умыслом, а только затем, чтобы отвлечь внимание какого-нибудь юного джентльмена от Овидия и обратить его хоть ненадолго на горную Шотландию и на минувшее столетие и отпустить его в постель в таком настроении, чтоб в его снах появились кое-какие заманчивые образы.
От вас, мой дорогой Чарлз, я не могу и требовать, чтоб этот рассказ вам пришелся по вкусу. Но он, может быть, понравится вашему сыну, когда он подрастет; ему будет приятно найти имя своего отца на форзаце книги. В то же время мне отрадно начертать это имя здесь в память о многих днях, большею частью счастливых, хотя иногда и грустных, но о которых теперь с интересом вспоминаешь. Если мне кажется удивительным, что я могу бросить взгляд назад сквозь двойное расстояние времени и пространства на приключения нашей юности, то для вас это, быть может, еще удивительнее, как для человека, который ходит по тем же самым улицам и может завтра же отворить дверь старой залы, где мы начали свое ознакомление со Скоттом и Робертом Умчетом и с нашим возлюбленным, но так малоизвестным Мекбином; или пройти в тот уголок, где собирались митинги великого общества I. J. R., где мы пили свое вино и сидели на тех же местах, где когда-то сиживал Берне со своими друзьями. Мне кажется, что я вижу, как вы ходите по этим местам среди белого дня, видите их своими собственными глазами, тогда как для вашего товарища все это может быть только предметом сновидений. Как прошлое звучит в памяти во время перерывов среди текущих дел и занятий! Пусть же это эхо чаще звучит для вас и будит в вас мысли о вашем друге.
Р. Л. С.
Скерривор, Бурнемут.

I. Я отправляюсь в Шоос-гауз
Рассказ о моих приключениях я начну с июньского утра 1751 года, когда в последний раз я запер за собою дверь отчего дома. Пока я спускался по дороге, солнце едва освещало вершины холмов, а когда дошел до дома священника, в сирени уже свистали дрозды и предрассветный туман, висевший над долиной, начинал подниматься и исчезать.
Добрейший иссендинский священник, мистер Кемпбелл, ждал меня у садовой калитки. Он спросил, позавтракал ли я, и, услыхав, что мне ничего не нужно, после дружеского рукопожатия ласково взял меня под руку.
— Ну, Дэви,— сказал он,— я провожу тебя до брода, чтобы вывести тебя на дорогу.
И мы молча двинулись в путь.
— Жалко тебе покидать Иссендин? — спросил он немного погодя.
— Я мог бы вам на это ответить, если бы знал, куда я иду и что случится со мной,— сказал я.— Иссендин— славное местечко, и мне было очень хорошо здесь, но ведь я ничего больше и не видел. Отец мой и мать умерли, и, оставшись в Иссендине, я был бы от них так же далеко, как если бы находился в Венгрии. Откровенно говоря, я уходил бы отсюда очень охотно, если бы только знал, что на новом месте положение мое улучшится.
— Да! — сказал мистер Кемпбелл.— Прекрасно, Дэви. Значит, мне следует открыть тебе твое будущее, насколько это в моей власти. Когда твоя мать умерла, а отец твой — достойный христианин! — почувствовал приближение смерти, он отдал мне на сохранение письмо, сказав, что оно— твое наследство. «Как только я умру,— говорил он,— и дом будет приведен в порядок, а имущество продано (все так и было сделано, Дэви), дайте моему сыну в руки это письмо и отправьте его в Шоос-гауз, недалеко от Крамонда. Я сам пришел оттуда,— говорил он,— и туда же следует возвратиться моему сыну. Он смелый юноша и хороший ходок, и я не сомневаюсь, что он благополучно доберется до места и сумеет заслужить там всеобщее расположение».
— В Шоос-гауз! — воскликнул я.
— Никто не знает этого достоверно,— сказал мистер Кемпбелл.— Но у владельцев этой усадьбы то же имя, что и у тебя, Дэви. Бальфуры из Шооса — старинная, честная, почтенная семья, пришедшая в упадок в последнее время. Твой отец тоже получил образование, подобающее его происхождению; никто так успешно не руководил школой, как он, и разговор его не был похож на разговор простого школьного учителя; напротив (ты сам понимаешь), я любил, чтобы он бывал у меня, когда я принимал образованных людей, и даже мои родственники, Кемпбеллы из Кильренета, Кемпбеллы из Денсвайра, Кемпбеллы из Минча и другие, все очень просвещенные люди, находили удовольствие в его обществе. А в довершение всего сказанного вот тебе завещанное письмо, написанное собственной рукой покойного.
Он дал мне письмо, адресованное следующим образом: «Эбенезеру Бальфуру, из Шооса, эсквайру, в Шоос-гауз, в собственные руки. Письмо это будет передано ему моим сыном, Давидом Бальфуром». Сердце мое сильно забилось при мысли о блестящей будущности,внезапно открывшейся предо мной, семнадцатилетним сыном бедного сельского учителя в Эттрикском лесу.
— Мистер Кемпбелл,—сказал я прерывающимся голосом,— пошли бы вы туда, будь вы на моем месте?
— Разумеется,— отвечал священник,— и даже не медля. Такой большой мальчик, как ты, дойдет до Крамонда (недалеко от Эдинбурга) в два дня. В самом худшем случае, если твои знатные родственники — а я предполагаю, что эти Бальфуры тебе сродни,— выставят тебя за дверь, ты сможешь через два дня вернуться обратно и постучать в дверь моего дома. Но я надеюсь, что тебя примут хорошо, как предсказывал твой отец, и со временем ты будешь важным лицом. А затем, Дэви, мой мальчик,— закончил он,— я считаю своей обязанностью воспользоваться минутой расставания и предостеречь тебя от опасностей, которые ты можешь встретить в свете.
При этих словах он немного помешкал, размышляя, как бы поудобнее сесть, потом опустился на большой камень под березой у дороги, с важностью оттопырил верхнюю губу и накрыл носовым платком свою треугольную шляпу, так как солнце теперь светило на нас из-за двух вершин. Затем, подняв указательный палец, он стал предостерегать меня сперва от многочисленных ересей, которые нисколько не соблазняли меня, и убеждать не пренебрегать молитвой и чтением библии. Потом он описал мне знатный дом, куда я направлялся, и дал мне совет, как вести себя с его обитателями.
— Будь уступчив, Дэви, в несущественном,— говорил он.— Помни, что хотя ты и благородного происхождения, но воспитан в деревне. Не посрами нас, Дэви, не посрами нас! Будь обходительным в этом большом, многолюдном доме, где так много слуг. Старайся быть осмотрительным, сообразительным и сдержанным не хуже других. Что же касается владельца, помни, что он — лэрд. Скажу тебе только: воздай всякому должное. Приятно подчиняться лэрду; во всяком случае, это должно быть приятно для юноши.
— Может быть,— отвечал я.— Обещаю вам, что буду стараться следовать вашему совету.
[Лэрд — в Шотландии то же, что лорд в Англии.]
— Прекрасный ответ,—сердечно сказал мистер Кемпбелл.— А теперь обратимся к самой важной материи, если дозволено так играть словами, или же к нематериальному. Вот пакетец, в котором четыре вещи.— Говоря это, он с большим усилием вытащил пакет из своего бокового кармана.— Из этих четырех вещей первая принадлежит тебе по закону: это небольшая сумма, вырученная от продажи книг и домашнего скарба твоего отца, которые я купил, как и объяснял с самого начала, с целью перепродать их с выгодой новому школьному учителю. Остальные три— подарки от миссис Кемпбелл и от меня. И ты доставишь нам большое удовольствие, если примешь их. Первая, круглая, вероятно, больше всего понравится тебе сначала, но, Дэви, мальчик мой, это лишь капля в море: она облегчит тебе только один шаг и исчезнет, как утренний туман. Вторая, плоская, четырехугольная, вся исписанная, будет помогать тебе в жизни, как хороший посох в дороге и как подушка под головой во время болезни. А последняя, кубическая, укажет тебе путь в лучший мир: я буду молиться об этом.
С этими словами он встал, снял шляпу и некоторое время в трогательных выражениях громко молился за юношу, отправляющегося в мир, потом внезапно обнял меня и крепко поцеловал; затем отстранил от себя и, не выпуская из рук, долго глядел на меня, и лицо его было омрачено глубокою скорбью; наконец, повернулся, крикнул мне: «Прощай!» — и почти бегом пустился обратно по дороге, которою мы только что шли. Другому это показалось бы смешным, но мне и в голову не приходило смеяться. Я следил за ним, пока он не скрылся из виду: он все продолжал торопиться и ни разу не оглянулся назад. Мне стало ясно, что причиной всего была разлука со мной, и совесть стала сильно упрекать меня; сам я был очень счастлив, уходя из тихой деревенской глуши в большой, шумный дом, где жили богатые и уважаемые дворяне одного со мной рода и имени.
«Дэви, Дэви,— думал я,— видана ли где такая черная неблагодарность? Неужели при одном намеке на знатность ты можешь забыть старых друзей и их расположение к тебе? Стыдно, Дэви, стыдно!»
Я сел на камень, с которого только что встал добрый священник, и открыл пакет, чтобы посмотреть подарки.
Я догадывался, что то, что мистер Кемпбелл называл кубической вещью, было, конечно, карманной библией. То, что он называл круглой вещью, оказалось шиллингом; а третья вещь, которая должна была так замечательно помогать мне, и здоровому и больному, оказалась клочком грубой желтой бумаги, на котором красными чернилами были написаны следующие слова:
«Как приготовлять ландышевую воду. Возьми херес, сделай настойку на ландышевом цвете и принимай при случае ложку или две. Эта настойка возвращает дар слова тем, у кого отнялся язык; она помогает при подагре, укрепляет сердце и память. Цветы же положи в плотно закупоренную банку и поставь на месяц в муравейник, затем вынь и тогда увидишь в банке выделенную цветами жидкость, которую и храни в пузырьке; она полезна здоровым и больным, как мужчинам, так и женщинам».
Внизу была приписка рукой священника: «Также ее следует втирать при вывихах, а при коликах принимать каждый час по столовой ложке».
Я, разумеется, посмеялся над этим, но то был нервный смех. Поскорее повесив свой узел на конец палки, я перешел брод и стал подниматься на холм по другую сторону речки. Наконец я добрался до зеленой дороги, тянущейся среди вереска, и кинул последний взгляд на иссендинскую церковь, на деревья вокруг дома священника и на высокие рябины на кладбище, где покоились мои родители.
