
- •Раздел I. Место и роль г.М. Маленкова в аппарате цк вкп(б) в 1939-1946 гг.
- •Раздел II. Деятельность г.М. Маленкова на посту Заместителя Председателя Совета Министров ссср в 1946-1953 гг.
- •Раздел III.. Г.М. Маленков в борьбе за власть после смерти Сталина в 1953-1957 гг.
- •Раздел II. Деятельность г.М. Маленкова на посту заместителя председателя совета министров ссср в 1946-1953 гг.
- •36 Власов и. О советском патриотизме // Пропагандист и агитатор Красной Армии. 1947. № 5.
- •91 Маленков г.М. Речь на пятой сессии Верховного Совета ссср // Коммунист. 1953. №12.
- •94 Шепилов д. Генеральная линия партии и вульгаризаторы марксизма // Правда. 1955. №24.
Раздел II. Деятельность г.М. Маленкова на посту заместителя председателя совета министров ссср в 1946-1953 гг.
В разделе показано, что после снятия с ключевой должности начальника Управления кадров ЦК ВКП(б) в 1946 г., политическая позиция Г.М. Маленкова была несколько ослаблена. Анализ протоколов заседаний Секретариата и Оргбюро ЦК показывает, что в этот период Г.М. Маленков не появлялся и не принимал участие в работе этих органов. Все протоколы подписывал Жданов, сменивший Маленкова на посту фактического руководителя Секретариата и Оргбюро. Восстановить позиции одного из лидеров партии и ближайшего соратника Сталина Маленкову удалось лишь упорным трудом в Совете Министров, где он беспрекословно выполнял все поручения высшего руководства.
Значительное внимание следует уделить эволюции экономической концепции Г.М. Маленкова в период его работы на посту заместителя Председателя Совета Министров.87 Как показало исследование, несмотря на безоговорочное следование официальной концепции развития советского производства, Г.М. Маленков пытался неоднократно выступать с собственной программой экономических преобразований, которая значительно противоречила официальной. В частности, уже во второй половине 1940-х гг. он предлагал ввести в практику советского производства принцип материальной заинтересованности трудящихся, увеличить производство товаров народного потребления, что, в конечном итоге, так и не получило поддержки И.В. Сталина и оказалось бесперспективным направлением.88
На рубеже 1940-1950-х гг., кроме «ленинградского дела», Г.М. Маленков руководил организацией преследования ряда известных партийных функционеров, именно он отвечал за раскручивание «дела врачей», лично принимал участие в допросе члена ЦК ВКП(б) С.А. Лозовского, обвинявшегося в стремлении создать в Крыму еврейскую социалистическую республику. Г.М. Маленков руководил расследованием дела МТБ, согласно которому его начальник генерал-полковник B.C. Абакумов занимался вредительством и саботажем.89
В данной связи неслучайно, что именно Г.М. Маленкову как своему преемнику в 1952 г. Сталин поручил подготовку и чтение отчетного доклада на XIX съезде ВКП(б), состоявшемся в октябре 1952 г. В этом докладе Маленков дал завышенные оценки развития страны, в частности заявил, что в СССР окончательно и бесповоротно решена зерновая проблема. Автор отмечает, что СССР действительно достиг значительных успехов в послевоенном восстановлении народного хозяйства, но до полного решения экономических проблем было далеко. В начале 1950-х гг. Г.М. Маленков вошел в состав руководящей «пятерки» нового Президиума и его Бюро ЦК ВКП(б) вместе с Берия, Хрущевым, Булганиным и самим Сталиным.
Получив в Политбюро «портфель» Жданова, Маленков унаследовал вместе с ним и весь очень сложный комплекс еврейских проблем. Молотов, потеряв пост министра, все же продолжал руководить Внешнеполитической комиссией Политбюро и контролировать работу МИДа, так как другого человека в Политбюро, обладающего для этого необходимым опытом и знаниями, просто не было. Проблемы Израиля, ставшего независимым государством, остались под наблюдением Молотова, тогда как внутренние дела еврейского населения СССР стали заботой Маленкова. Именно Маленков стал соавтором редакционной статьи в «Правде» «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», опубликованной 28 января 1949 года, с которой началась более или менее явная антисемитская кампания. Вторым соавтором этой статьи был Петр Поспелов, один из самых опытных организаторов пропагандистских кампаний по борьбе с «врагами народа». Поспелов был наиболее долговечным редактором «Правды», с 1940 до июня 1949 года. Третьим соавтором статьи был Дмитрий Шепилов, который в то время был заместителем Суслова в Агитпропе и которому принадлежала инициатива подготовки этой проблемы, первоначально в форме проекта по-
1 О/л
становления ЦК по этому вопросу. В своих воспоминаниях, которые опубликованы сравнительно недавно, Шепилов, однако, полностью об-
127
ходит молчанием свое участие в антисемитских кампаниях. Жданов, как известно, ввел в широкое употребление советской пропаганды обозначение «космополит», которое очень часто стали использовать по отношению к представителям еврейской интеллигенции. Однако понятие «космополит» распространялось также на все формы «преклонения перед Западом», и поэтому в космополиты попадали, например, в науке множество ученых, независимо от их этнической принадлежности. Любой интерес к западной культуре характеризовался как космополитизм. Статья в «Правде» от 28 января 1949 года вносила в эту проблему большую ясность. Синонимом еврейства стало понятие «безродный космополит» - обвинение в принадлежности к этой категории идеологических пороков было достаточным для увольнения литераторов и журналистов из редакций и издательств. Кроме этого, было введено понятие «буржуазный националист», которое имело уже криминальный оттенок антисоветской активности. Статья в «Правде», дополнявшая закрытое письмо ЦК ВКП(б) в партийные организации республик и областей, объяснявшее причину ликвидации Еврейского антифашистского комитета, была воспринята как директива для общего разгрома еврейских культурных центров, закрытия еврейских театров, ликвидации еврейских издательств, клубов, секций творческих союзов, которая распространилась
1 98
даже на Биробиджан. Этот культурный погром сопровождался и множеством арестов. Общее наблюдение за этой антисемитской кампанией осуществлял Маленков.
У Сталина с Маленковым по линии руководства партией выработалась примерно такая же система отношений, как и с Молотовым в руководстве правительством. Маленков, так же как и Молотов, был человеком огромной работоспособности, имел организаторский талант и был предан лично Сталину. В то же время он, подобно Молотову, был лишен волевых качеств, необходимых самостоятельному политику. Маленков поэтому опирался на огромную волю Сталина и выполнял любые его поручения и просто намеки. Очень часто он, даже и без намеков, «угадывал» желания Сталина. Маленков не был близким другом Сталина, как Молотов или Ворошилов, так как его работа в аппарате ЦК ВКП(б) началась лишь в середине 30-х годов. В период террора 19371938 годов Маленков, тесно сотрудничавший с Ежовым, принимал прямое участие в нескольких репрессивных кампаниях в разных областях страны и в Армении и Белоруссии. В 1939 году Маленков был избран членом ЦК ВКП(б), и с этого времени началось его тесное сотрудничество с Берией, который сменил Ежова во главе НКВД. Берия был достаточно тонким политиком, имел большие амбиции, организаторский талант и большую волю. Сочетание волевых качеств лидера с энергией и организаторскими способностями отличало тех членов Политбюро, которые выдвинулись в этот высший орган власти с постов секретарей обкомов и ЦК союзных республик (Жданов, Хрущев, Берия) или в результате успехов в руководстве отраслями промышленности и наркоматами (Каганович, Микоян, Вознесенский, Косыгин). Те же члены и кандидаты Политбюро, которые делали свою карьеру в аппарате ЦК ВКП(б), хотя и выделялись работоспособностью и энергией, но были, как правило, послушными исполнителями воли Сталина. К этой группе относились Молотов, Маленков, Андреев и Шверник. В эту же категорию попадали также гражданские маршалы Ворошилов и Булганин, так как Сталин не решался наделять политической властью боевых маршалов.
Отсутствие у Маленкова волевых качеств самостоятельного лидера привело к его зависимости не только от Сталина, но и от Берии, с которым он быстро подружился. Они были людьми одного поколения и в сферах своих полномочий в Политбюро не были соперниками. Сталин не поощрял личной дружбы между своими соратниками. Но он понял опасность союза Берии и Маленкова лишь в конце 1949 года. «Берия как-то сам сказал, - свидетельствует Хрущев в своих воспоминаниях, - «Слушай, Маленков - безвольный человек. Вообще козел, может внезапно прыгнуть, если его не придерживать. Поэтому я его и держу, хожу с ним. Зато он русский и культурный человек, может пригодиться при случае».90 Хрущев также подтвердил распространенное мнение о том, что срочный перевод самого Хрущева из Киева в Москву в декабре 1949 года был связан с желанием Сталина ликвидировать концентрацию власти у Берии и Маленкова.
«Сталин... быстро увидел, что мой приезд в Москву противоречил предположениям Берии и Маленкова. У меня сложилось тогда впечатление, что Сталин, вызывая меня в Москву, хотел как-то повлиять на расстановку сил в столице и понизить роль Берии и Маленкова. Мне даже иногда казалось, что Сталин сам боится Берии, рад был бы от него избавиться, но не знает, как это получше сделать». Хрущев получил не только пост первого секретаря Московского горкома, но и пост секретаря ЦК ВКП(б), что сделало его почти равным по влиянию с Маленковым партийным лидером. В 1934-1938 годах молодой Хрущев уже занимал пост лидера московской партийной организации и уже тогда сблизился с Булганиным, который с 1931 года возглавлял Московский городской исполнительный комитет. В 1949 году Булганин, ставший членом Политбюро лишь в 1948 году, был министром Вооруженных сил СССР. Это не был в то время слишком влиятельный пост, так как Сталин, решивший в 1947 году отойти от руководства Министерством обороны, разделил это мощное силовое ведомств на два - Вооруженных сил и Военно-морского флота. В апреле 1950 года Политбюро снова провело реорганизацию Совета Министров СССР. По предложению Сталина было создано более узкое Бюро Президиума Совета Министров СССР, в которое вошли Сталин как председатель, Булганин как первый заместитель и заместители Берия, Каганович, Микоян и Молотов. Политбюро постановило: «... председательствование на заседаниях Бюро Президиума Совета Министров СССР в случае отсутствия тов. Сталина осуществлять первому заместителю Председателя Совета Министров СССР тов.
I
Булганину H.A.». Этому новому узкому органу власти, сокращенно БПСМ, было поручено «рассмотрение срочных вопросов текущего характера, а также вопросов секретных». Этот маневр Сталина ликвидировал триумвират «Сталин, Берия и Маленков», добавив к нему Булганина и Хрущева. Маленков, лишившийся своего поста заместителя Сталина в правительстве, сумел быстро его восстановить. Уже через неделю он был введен в состав БПСМ - это, безусловно, было прежде всего нужно Берии, а не Маленкову. Берия хорошо понимал, что Маленков без своего параллельного поста в правительстве быстро уступит свою доминирующую роль в аппарате ЦК ВКП(б) более энергичному и намного более популярному в Москве Хрущеву.
Таким образом, в 1950 году возникла та «пятерка» лидеров, которая оказалась устойчивой. В этой «пятерке» Сталин сохранял роль верховного арбитра в соперничестве двух блоков. Сталин мог быть эффективным арбитром не только благодаря своему авторитету, но и потому, что ключевой силовой орган страны - Министерство государственной безопасности подчинялось лично Сталину. Берия, как член БПСМ, контролировал МВД, но не МТБ.
Берия был намного более профессиональным и опытным работником государственной безопасности, чем его предшественники Ежов и Ягода. В молодости, когда ему исполнилось только 20 лет, Берия уже работал в Чрезвычайной комиссии при ЦК КП(б) Азербайджана, занимаясь экспроприацией буржуазии и распределением ее имущества среди рабочих. К 1924 году он стал заместителем председателя всей Азербайджанской ЧЕС. В 1926 году его назначили председателем ГПУ Грузии и заместителем председателя ГПУ Закавказской Федерации. Сталин, всегда интересовавшийся проблемами Закавказья, быстро заметил Берию и перевел его в партийные органы, сделав руководителем грузинского Центрального Комитета. На Кавказе традиционно вокруг такого полувоенного и всевластного лидера создается обширный «клан» доверенных людей. Все более или менее влиятельные или просто экономически выгодные должности распределяются среди «своих» людей. Перевод Берии в Москву в декабре 1938 года для руководств НКВД означал, что главные члены его грузино-азербайджанского клана начнут постепенно брать под свой контроль и центральные органы государственной безопасности. Сталин, безусловно, это понимал. Но ему нужно было в это время ликвидировать главную команду Ежова, то есть провести замену сразу нескольких десятков высших постов в органах государственной безопасности. На большинстве этих постов с 1939 года оказались кавказцы, близкие друзья Берии: Всеволод Меркулов, Сергей Гоглидзе, Владимир Деканозов, Цанава, братья Кобуловы, Богдан и Амаяк, и другие. Берия не был националистом или антисемитом, и в его «команде» были не только грузины или азербайджанцы. Но все же основные доверенные кадры Берии, например начальник следственной части поляк Лев Влодзимирский и начальник контрразведки в армии Соломон Миль- штейн, выдвинулись как чекисты на Кавказе. ,
Сталин, понимая опасность концентрации слишком большой власти в руках Берии, разделил всесильное НКВД на два ведомства — внутренних дел и государственной безопасности еще в 1940 году. Но в 1941 году они снова слились в одно. В 1943 году произошло новое разделение НКВД на три карательных ведомства — НКВД, НКГБ и СМЕРШ. Народный комиссариат госбезопасности опять, как и в 1940 году, возглавил старый друг Берии Всеволод Меркулов, работавший вместе с Берией еще в Грузинском ЧК. Однако новый вариант НКГБ обладал ограниченной властью. НКВД во главе с Берией также был лишен наиболее важной системы контрразведки, наделенной властью арестов и ликвидации. По решению Государственного Комитета Обороны в апреле 1943 года было создано Главное Управление контрразведки (ГУКР) в системе наркомата обороны, главой которого был сам Сталин. Все контрразведывательные подразделения НКВД и НКГБ перешли в ГУКР.
Новая силовая структура получила кодовое название СМЕРШ, от «смерть шпионам», и ее начальником был назначен генерал Виктор Абакумов. Он стал одним из заместителей наркома обороны СССР и выполнял приказы Сталина. В заключительный период войны именно СМЕРШ создал наиболее эффективную карательную систему в западных областях СССР и в Восточной Европе. СМЕРШ ведал контрразведкой в армии, создавал фильтрационные лагеря для проверки военнопленных и остарбайтеров и контролировал лагеря немецких военнопленных на оккупированных территориях.
Абакумов был малообразованным и жестоким человеком, он начал работать в ОГПУ в 1932 году, еще при Генрихе Ягоде. В период террора 1937—1938 годов Абакумов не играл в НКВД серьезной роли, так как не имел еще ни знаний, ни опыта, чтобы вести следствие по делам того контингента крупных партийных, государственных и военных работников, которые подвергались арестам. Сын истопника, Абакумов закончил в детстве лишь четыре класса городского училища и пошел работать в 13 лет. Он был настоящим пролетарием. В ОГПУ он попал по комсомольской мобилизации, когда ему было 24 года. В конце 1938 года, когда Сталин назначил Берию главой НКВД и с его помощью начал проводить удаление из НКВД «кадров Ежова», чтобы сделать период террора «ежовщиной», Абакумов, не связавший себя с Ежовым, получил повышение. Его назначили начальником НКВД Ростовской области. Здесь он обратил на себя внимание личным участием в допросах арестованных. Обладая большой физической силой, Абакумов мог избивать заключенных, добиваясь нужных показаний. Он таким образом приобретал необходимый опыт и знания. В начале войны, став уже генералом, Абакумов был переведен в органы контрразведки Красной Армии. К концу войны Абакумов стал генерал-полковником.
К 1946 году система СМЕРШ оказалась излишней. На заседании Политбюро 4 мая 1946 года было решено объединить СМЕРШ с НКГБ (теперь уже МГБ). Однако неожиданно для многих новым министром государственной безопасности был назначен генерал-полковник Абакумов, а не генерал армии Меркулов. Меркулов на заседании Политбюро подвергся критике и был переведен из членов ЦК ВКП(б) в кандидаты. Его почти год не назначали ни на какую должность, и только в 1947 году он стал во главе особого Управления советским имуществом за границей. Если учесть, что и сам Берия был в конце 1945 года освобожден с поста наркома внутренних дел «в связи с переходом на другую работу», то это, как казалось Сталину, лишило Берию прямого выхода к «силовым» ведомствам. Берия в это время возглавлял Спецкомитет по атомной энергии, который руководил двумя Главными управлениями — по атомной бомбе и по урану. Этот спецкомитет имел много приоритетов, собственную внешнюю «атомную» разведку, лагерную систему, строительные и охранные армейские соединения. Клан Берии и в МВД, и в МГБ сохранил часть своих кадров, и руководители МГБ и МВД — Абакумов и Сергей Круглое, не имевшие никакого политического влияния, сохраняли внешнюю лояльность по отношению к Берии. Однако если Круг-лов отчитывался в Совете Министров перед Берией, то Абакумов докладывал лично Сталину. Ни Берия, ни Маленков не были информированы о том, какие конкретные задания Абакумов получал от Сталина. Он, возможно, узнал от Цанавы о задании по ликвидации Михоэлса. Другие ключевые фигуры клана Берии были в это время далеко от Москвы. Гоглидзе возглавлял МГБ Дальнего Востока, Богдан Кобулов и Деканозов стали заместителями Меркулова по Управлению советским имуществом за границей, Амаяк Кобулов работал в отделе «С» Спецкомитета и занимался атомной разведкой. Милынтейн был вообще удален из МГБ и назначен начальником Казанской железной дороги. Влодзи- мирский, так же как и Богдан Кобулов, работал под руководством Меркулова в Берлине.
Для Берии и Маленкова в их борьбе за власть в аппаратах Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) было исключительно важно получить прямой контроль над органами МТБ и иметь во главе этого ведомства «своего» человека. Но реальный повод для обвинений Абакумова в потере бдительности возник лишь в 1951 году в связи с тем тупиком, в который зашло к этому времени «дело ЕАК». Две предыдущие наиболее крупные репрессивные кампании — «дело авиаторов» в 1946 году и «ленинградское дело» в 1949—1950 годах, по которым были арестованы очень крупные государственные и партийные работники, были закончены относительно быстро. Но «дело ЕАК», продолжавшееся уже два года, никак не удавалось завершить. Это было связано с тем, что по первоначальной директиве Политбюро «дело ЕАК» готовили для целей пропаганды, а не простой ликвидации. От следователей МТБ требовали доказательств участия активистов ЕАК в шпионаже и диверсиях, но подготовить показательный суд с таким сценарием, имея на «скамье подсудимых» четырех поэтов, артистов, журналистов, врачей и одну женщину- академика, оказалось очень трудно. У них просто не было доступа ни к каким государственным тайнам. В этих условиях старший следователь по особо важным делам подполковник Михаил Рюмин, руководивший следствием по «делу ЕАК», пытался расширить дело путем арестов новых людей, не входивших в руководство ЕАК, но как-то участвовавших в его работе. Эта тактика позволяла затягивать следствие, сроки которого уже вышли за рамки законности.
В эти новые ответвления «дела ЕАК» попал в ноябре 1950 года профессор 2-го Медицинского института в Москве Яков Этингер, первоначальные показания на которого как на «буржуазного националиста» дал в ходе следствия Фефер. Этингер, безусловно, интересовался еврейскими проблемами и иногда приходил в библиотеку ЕАК, где читал иностранные, в том числе и еврейские журналы. Квартиру Этингера в Москве стали прослушивать, обнаружили, что он слушает по радио «Би- би-си» и «Голос Америки» и критикует в семейном кругу антисемитскую политику властей. Этого было достаточно для ареста. Заодно арестовали приемного сына Этингера Якова Яковлевича, в то время студента, и его жену. Я.Я. Этингер, которому недавно исполнилось 83 года, опубликовал в 2001 году книгу воспоминаний, в которой подробно излагает обстоятельства ареста и следствия и возникновения «дела врачей». Кремлевские врачи-евреи были часто коллегами профессора Этингера по медицинскому институту, заведовали здесь кафедрами и по совместительству давали консультации и участвовали в консилиумах в кремлевских и других правительственных клиниках в Москве. Их имена впервые появились в протоколах допросов профессора Этингера в начале 1951 года. Существует несколько разных версий появления самостоятельного «дела врачей», как производного от «дела ЕАК». Наиболее достоверная версия, основанная на изучении архивных документов МТБ, дается в книге Г.В. Костырченко. Но здесь, в связи с анализом происходившей в то время борьбы за власть, важно проследить, каким образом «дело врачей» возникло не в недрах следственной части МТБ, а на уровне Политбюро. В этом отношении целесообразно привести отрывок из докладной записки Берии от 25 июня 1953 года, направленной в Президиум ЦК КПСС. Эта записка «О ходе следствия по делу М.Д. Рюмина», переданная Маленкову, следующим образом объясняла появление «дела врачей»:
«...B ноябре 1950 года РЮМИНУ, по указанию АБАКУМОВА, было поручено следствие по делу арестованного профессора ЭТИНГЕРА. Зная, что ЭТИНГЕР привлекался к лечению A.C. Щербакова в качестве консультанта, РЮМИН, применив незаконные методы следствия, вынудил ЭТИНГЕРА дать вымышленные показания о неправильном лечении A.C. ЩЕРБАКОВА, которое якобы и привело к его смерти.
Будучи после этого вызван АБАКУМОВЫМ на допрос, ЭТИН- ГЕР отказался от этих показаний как вымышленных им в результате требований РЮМИНА. В связи с этим РЮМИН возобновил применение к ЭТИНГЕРУ извращенных методов следствия, довел его до полного истощения, от чего ЭТИНГЕР в марте 1951 года умер в тюрьме.
В мае 1951 года РЮМИНУ за то, что он не зафиксировал показаний ЭТИНГЕРА, парторганизацией следственной части по особо важным делам МТБ СССР был объявлен выговор. В этот же период времени Управление кадров МТБ СССР потребовало у РЮМИНА объяснения по существу скрытых им при поступлении в органы МТБ компрометирующих его материалов.
Почувствовав, что под ним заколебалась почва, авантюрист РЮМИН, чтобы избежать ответственности за совершенные им преступления, решил пожертвовать своим благодетелем АБАКУМОВЫМ и обратился с письмом к И.В. Сталину, в котором «разоблачил» АБАКУМОВА в смазывании дел и скрытии от партии и правительства показаний ЭТИНГЕРА о якобы умышленном умерщвлении A.C. ЩЕРБАКОВА...
Поставив перед собой цель доказать правильность своего заявления по делу ЭТИНГЕРА, РЮМИН создал известное дело о так называемых «врачах-вредителях», по которому был арестован ряд крупных деятелей советской медицины».
Эта записка Берии «тов. Маленкову Г.М.» от 25 июня 1953 года оказалась его последней. На срочно созванном 26 июня 1953 года заседании Президиума ЦК КПСС, на котором председательствовал Маленков, Берия был арестован. Существует хорошо известная версия о подготовке и проведении ареста Берии, которую изложил Хрущев в своих воспоминаниях. Нет оснований сомневаться в ее достоверности. Судя по этой версии, подготовка ареста Берии потребовала по крайней мере около десяти дней, так как следовало заручиться поддержкой всех членов Президиума ЦК КПСС. Но в первых разговорах речь шла не об аресте, а о смещении с основных постов. Берия, имевший очень хорошую агентуру во всех структурах власти, в охране самих членов Президиума и среди обслуживающего персонала всех правительственных домов, возможно, уже знал, что против него готовятся какие-то акции. Агенты МВД прослушивали телефоны и квартиры высшей элиты. Берия, безусловно, не доверял Хрущеву и Булганину, но, очевидно, считал, что Маленкова он сможет переубедить. Не исключено, что Маленков не был полностью посвящен во все детали заговора Хрущева, в котором также важную роль в создании «группы ареста» из генералов и маршалов играл Булганин. В сохранившейся в архивах и недавно опубликованной черновой записи выступления Маленкова на заседании Президиума ЦК КПСС 26 июня 1953 года, которую он сам подготовил как возможный конспект, предлагается не арест Берии, а перевод его на работу министром нефтяной промышленности.
Записка Берии Маленкову от 25 июня 1953 года ничего не предлагала, и это делает неясным ее предназначение. Однако она дает индульгенцию Маленкову не только по «делу врачей», но и по «делу ЕАК» и «ленинградскому», в каждом из которых именно Маленков принимал наиболее инициативное участие. Берия ясно показывал, что в том юридическом пересмотре этих дел, которое происходило в МВД, вся вина за репрессии и аресты возлагается только на Рюмина и Абакумова. После реабилитации и освобождения в начале апреля 1953 года профессоров, арестованных по «делу врачей», продолжение реабилитаций по еврейским делам и особенно по делу ЕАК угрожало дискредитацией прежде всего Маленкову. Арест Берии, если внимательно изучать все его инициативы марта—июня 1953 года, был вызван слишком быстрой и самостоятельной программой МВД по реабилитациям жертв репрессий послевоенного времени и осуждением террора Сталина. Остальные члены Президиума ЦК КПСС не были еще готовы к такому резкому повороту, так как их собственная легитимность у власти определялась их статусом соратников Сталина.
Главным искажением истины в записке Берии Маленкову было утверждение, что Рюмин «обратился с письмом к И.В. Сталину». В действительности Рюмин пришел просить защиту от действий Абакумова прежде всего к Маленкову. Маленков сразу увидел в жалобе Рюмина шанс удаления Абакумова с поста руководителя МТБ с тем, чтобы взять это ключевое в борьбе за власть министерство под свой контроль.
По свидетельству генерала Судоплатова, который в 1951 году возглавлял в МТБ особое «Бюро № 1» по диверсионной работе за границей, «...Маленков и Берия, несомненно, стремились устранить Абакумова, и оба были готовы для достижения своей цели использовать любые средства. Суханов, помощник Маленкова, весной 1951 года принял в приемной ЦК следователя Следственной части по особо важным делам МТБ подполковника Рюмина, известного своим антисемитизмом... Рюмин охотно пошел навстречу требованию Суханова написать Сталину письмо с разоблачением Абакумова». Рюмин пришел в ЦК на прием к Маленкову, но их разговор происходил по телефону и через посредника, Дмитрия Суханова. «...Суханов держал Рюмина в приемной шесть часов, постоянно консультируясь по телефону с Маленковым по поводу содержания письма Рюмина. В связи с этим письмо Рюмина с обвинениями Абакумова переписывалось одиннадцать раз...»116 Такого рода жалобы писались обычно от руки и в одном экземпляре. Г.В. Костырченко, обнаруживший в архивах МТБ по «делу врачей» письмо Рюмина, сообщает, что оно датировано 2 июля 1951 года. По версии Рюмина, именно
Абакумов умышленно довел Этингера до смерти и, таким образом, «... заглушил дело террориста Этингера, нанеся серьезный ущерб интересам государства». Маленков, по-видимому, сразу доложил об этом письме- жалобе Сталину, так как 5 июля Абакумов, его заместитель Огольцов и Рюмин были, уже ночью, вызваны в кремлевский кабинет Сталина для объяснений. На следующий день была создана особая комиссия Политбюро для расследования конфликта.
В эту комиссию вошли Маленков, Берия, Матвей Шкирятов, председатель Комиссии партконтроля (КПК), и Семен Игнатьев, один из заместителей Маленкова в аппарате ЦК ВКП(б), ведавший партийными кадрами. Эта комиссия быстро подтвердила все обвинения Рюмина, и уже 11 июля 1951 года Политбюро приняло решение «О неблагополучном положении в Министерстве государственной безопасности» и о смещении Абакумова с поста министра. В то время формальные заседания полного состава Политбюро уже не проводились и так называемые «решения Политбюро» принимались опросом по телефону. Абакумов был смещен и арестован. 13 июля 1951 года в обкомы, крайкомы и ЦК КП(б) союзных республик и в областные управления МТБ было разослано закрытое письмо ЦК ВКП(б) «О неблагополучном положении в Министерстве государственной безопасности», составленное на основе резолюции от 11 июля. Это «закрытое письмо» не имело личных подписей и отправлялось в провинцию от имени Центрального Комитета ВКП(б). Это обычно означало, что в телефонный опрос были включены члены Секретариата ЦК и Оргбюро ЦК ВКП(б). В этом письме ЦК уже были намечены ясные контуры «дела врачей». В нем утверждалось:
«Комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) установила следующие неоспоримые факты... При допросе старшим следователем Рюминым арестованный Этингер, без какого-либо нажима, признал, что привлечении Щербакова A.C. имел террористические намерения в отношении его и практически принял все меры к тому, чтобы сократить его жизнь... Среди врачей, несомненно, существует законспирированная группа лиц, стремящихся при лечении сократить жизнь руководителей партии и правительства... Однако Абакумов признал показания Этингера надуманными, заявил, что это дело не заслуживает внимания, заведет МТБ в дебри, и прекратил дальнейшее следствие по этому делу...».
Поскольку все эти действия по смещению и аресту Абакумова были проведены столь стремительно, то вопрос о назначении нового руководителя МТБ не был еще решен. Временно исполняющим обязанности министра госбезопасности был назначен его заместитель Сергей Огольцов. Но он, как генерал-лейтенант, не считался достаточно авторитетным кандидатом на столь высокую должность. Поиск подходящей фигуры на пост министра госбезопасности занял почти месяц. Эта задержка была крайне необычной. Окончательное решение, безусловно, принимал Сталин. В конечном итоге новым министром 9 августа 1951 года был назначен Семен Денисович Игнатьев. Он перешел в МТБ с должности заведующего отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б). Считается, что Игнатьева рекомендовал, главным образом, Маленков, так как он был из его «команды». В действительности у Маленкова в аппарате ЦК ВКП(б) не было какой-то особой «команды». Берия, как показали дальнейшие события, был против назначения Игнатьева. Он стремился к назначению министром своего друга Сергея Арсентьевича Гоглидзе, который с января 1951 года, вернувшись из дальневосточной ссылки, работал начальником Главного управления транспортной охраны МТБ СССР 119. 26 августа 1951 года Гоглидзе был назначен первым заместителем Игнатьева. Игнатьев не был профессионалом и не знал специфики следственной работы в МТБ. Все основные следственные дела перешли под контроль генерал- полковника госбезопасности Гоглидзе, который начал свой чекистский стаж в 1923 году в Баку, под руководством Берии. Был повышен до ранга генерал-майора и Рюмин. Его также назначили одним из заместителей министра госбезопасности. Он стал старшим следователем не только по делу ЕАК и новому «делу врачей», но и по «делу Абакумова». По этому делу были арестованы почти все деятели центрального аппарата МТБ, бывшие по национальности евреями. В эту сионистскую «группу Абакумова» попали полковник Андрей Свердлов, сын Якова Свердлова, соратника Ленина, генерал Леонид Эйтингон, организатор убийства Троцкого в 1940 году и заместитель Судоплатова по «Бюро № 1», профессор Григорий Майрановский, создатель лаборатории МТБ по производству ядов, токсинов и психотропных веществ, полковники Я.М. Броверман, Наум Шварцман, Л.Ф. Райхман и некоторые другие.
Однако все эти реорганизации в МТБ не дали Берии и Маленкову каких-либо серьезных новых возможностей в борьбе за власть. Игнатьев не был склонен исполнять чьи-либо инструкции, кроме тех, которые исходили лично от Сталина. Сталин, безусловно, понимал, что выдвижение Гоглидзе на пост первого заместителя Игнатьева означает усиление позиций Берии. Но для равновесия он предоставил возможность Хрущеву и Булганину рекомендовать их кандидата на ключевой пост заместителя министра госбезопасности по кадрам. Эту должность в августе 1951 года занял Алексей Алексеевич Епишев, близкий друг Хрущева и второй секретарь ЦК КП(б) Украины в 1946-1950 годах. После возвращения Хрущева в Москву и реорганизации ЦК Украины Епишев был переведен в Одессу первым секретарем обкома партии. Получить перевод из одесского обкома на пост начальника кадров МТБ было бы невозможно без личного решения Сталина, его подпись была в это время нужна для перемещения не только секретарей обкомов, но даже и райкомов. Благодаря Епишеву в оперативные службы МТБ начали привлекаться партийные работники. В начале 1952 года еще одним заместителем министра госбезопасности стал Василий Рясной, близкий Хрущеву партийный выдвиженец в МВД. Рясной после освобождения Киева в 1943 году был переведен из Горького на пост министра внутренних дел Украины и проработал на этой должности под руководством Хрущева до 1946 года. В 1947 году он стал заместителем министра внутренних дел СССР. По общему балансу можно считать, что проведенная Маленковым и Берией сложная комбинация по удалению Абакумова не дала им никаких преимуществ в борьбе за власть. Скорее даже наоборот. Возникшее «дело врачей», к которому Сталин проявил повышенный личный интерес, при любом его повороте давало уже больному диктатору повод для реорганизации высшего руководства.
Игнатьев был назначен министром государственной безопасности 9 августа 1951 года, так как этот день был последним днем работы Сталина в Кремле перед отъездом на отдых в Абхазию. Во второй половине лета 1951 года Сталин чувствовал себя плохо и приезжал в Кремль очень редко и на короткий срок. В 21.00 9 августа началось заседание «восьмерки» Политбюро, в которую, кроме Сталина, входили Молотов, Маленков, Микоян, Булганин, Берия, Каганович и Хрущев. С 21.10 до 21.50 было проведено совещание с военными, а к 22.00 был вызван в кабинет Сталина Игнатьев. Он пробыл у Сталина лишь 15 минут, и за этот короткий срок состоялось его назначение.
Через несколько дней Сталин уехал отдыхать в Абхазию в свою горную резиденцию возле озера Рица, расположенную на высоте 1000 м над уровнем моря. Здесь Сталину было легче дышать, в Москве ему не хватало кислорода. На этот раз отпуск Сталина затянулся на шесть месяцев, и он вернулся в свой кремлевский кабинет лишь 12 февраля 1952 года. Однако в Абхазии Сталин не только отдыхал. В октябре 1951 года он пригласил к себе в гости министра госбезопасности Грузинской ССР Н.М. Рухадзе и вместе с ним создал новое, уже грузинское дело о минг- рело-националистической группе. По этому делу были вскоре арестованы в Тбилиси друг Берии и второй секретарь ЦК КП(б) Грузии М.И. Ба- рамия, обвиненный во взяточничестве, и большая группа других партийных работников Грузии, принадлежавших в основном к сохранившемуся в этой республике «клану» Берии. Расследование этого дела было поручено не Гоглидзе, а лично Игнатьеву.
Некоторые врачи были консультантами Кремлевской больницы. Профессор М.С. Вовси, главный терапевт Красной Армии, генерал- майор медицинской службы, лечил многих маршалов СССР. В МТБ к этому времени уже, безусловно, был общий сценарий всего дела как в основном сионистского. Этот сценарий можно было наполнить лишь одним путем — с помощью фальшивых показаний. Четырем арестованным медикам была, таким образом, уготована печальная судьба подвергнуться длительным и изощренным физическим пыткам, эффективность которых для получения лжесвидетельств и самооговоров только недавно была подтверждена и в «деле ЕАК», и в «деле мингрельцев- националистов».
Возвращаясь опять к проблемам смерти Жданова, следует признать, что причины фальсификации диагноза остаются загадкой и до настоящего времени. После смерти Сталина, уже при пересмотре «дела врачей» и накануне их реабилитации, профессор Виноградов признал ошибку диагноза. Письмо Виноградова Берии от 27 марта 1953 года, обнаруженное в архивах МТБ Г.В. Костырченко, свидетельствует: «Все же необходимо признать, что у A.A. Жданова имелся инфаркт, и отрицание его мною, профессорами Василенко, Егоровым, докторами Майоровым и Карпай было с нашей стороны ошибкой. При этом злого умысла в постановке диагноза и метода лечения у нас не было». Далеко не все соглашаются с тем, что подобная коллективная ошибка была случайной. Виктор Малкин, врач и историк, первым опубликовавший письма Ти- машук в 1993 году, считает: «Очень может быть, что профессора безо всякого злого умысла отвергли диагноз «инфаркт», установленный Лидией Тимашук... Но возможна и версия, что профессора действовали преступно, получив инструкцию «сверху»: не мешать Жданову умереть, более того — способствовать этому».
Дмитрий Волкогонов в известной биографии Сталина «Триумф и трагедия» также придерживается в этом случае теории конспирации. Поскольку от смерти Жданова выиграли в первую очередь Маленков и Берия, то не составляет больших проблем считать именно их главными злоумышленниками. Но и эта теория о том, что Жданову «помогли» умереть, не является слишком убедительной. У Сталина в этот период не было серьезных причин для «ликвидации» Жданова. Даже напротив. Сын Андрея Жданова Юрий, которому Сталин в июле сделал выговор за вмешательство в спор Лысенко с генетиками, был прощен и благословлен на брак с дочерью Сталина Светланой. Сталин хотел, чтобы новая пара поселилась на его даче в Кунцево, где он чувствовал себя одиноко. Жданова действительно в начале июля 1948 года почти принудительно отправили в отпуск, но это была не ссылка, а скорее акт милосердия. Катастрофическое состояние здоровья Жданова, в прошлом уже перенесшего два инфаркта во время блокады Ленинграда, было очевидно для всех. Шепилов, тогда близкий сотрудник Жданова в аппарате ЦК ВКП(б), наглядно характеризует его состояние в начале июля:
«Тяжелое заболевание A.A. Жданова — гипертония, атеросклероз, грудная жаба и сердечная астма -— все прогрессировали. Огромная нагрузка в работе, частые многочасовые ночные встречи и ужины на даче Сталина, постоянное нервное перенапряжение — все это подтачивало его здоровье. Он задыхался во время разговора, лицо покрывалось розовыми пятнами. После нескольких фраз он делал паузу и глубоко втягивал в себя воздух. Как-то солнечным утром Андрей Александрович вызвал меня и сказал: "Меня обязали ехать на отдых и лечение. Я буду не так далеко от Москвы, на Валдае. Уверяют, что там легко дышать".
На Валдае (так сокращенно называлась Валдайская возвышенность на севере Калининской области, между Москвой и Ленинградом) находились на озере Селигер несколько правительственных санаториев. Жданову, приехавшему в один из них, не стало лучше. Его состояние продолжало ухудшаться. Однако сам Шепилов все же считал возможным наличие заговора Берии против Жданова: «Но я нисколько не удивился бы, если бы кто-то из участников бериевского шабаша вдруг как- нибудь раскрыл, что это Берия приложил руку к тому, чтобы жизнь Жданова во время его нахождения на Валдае преждевременно оборвалась». Не исключено, что и другие партийные работники из близкого окружения Жданова могли иметь такие же подозрения.
Маленков был назначен секретарем ЦК ВКП(б) сразу после отъезда Жданова на отдых. В начале августа была проведена реорганизация аппарата ЦК, при которой прежние полномочия Жданова были разделены между Маленковым и Сусловым. У Маленкова поэтому не было необходимости в физической ликвидации Жданова. Это же относится и к Берии. Для них риск создания заговора против Жданова с участием группы врачей был слишком велик. Надежды на выздоровление у Жданова не было.
В октябре 1952 года основные заботы Сталина и всех членов Политбюро были, безусловно, связаны с проведением XIX съезда ВКП(б)—КПСС. Подготовка съезда шла уже давно, но важные решения об основных докладчиках были приняты лишь летом 1952 года. Сталин не был в состоянии подготовить и произнести традиционный многочасовой «Отчетный доклад». Как и ожидалось, эта миссия выпала на долю Маленкова. Это было наиболее очевидным свидетельством того, что именно Маленков является формальным преемником Сталина в ВКП(б).
Доклад об изменениях в уставе партии предстояло сделать Хрущеву. Проект предложений Политбюро по переработке Программы партии был поручен Кагановичу. Последний доклад о новом пятилетнем плане развития экономики готовил Максим Сабуров, который в 1949 году сменил Вознесенского на посту председателя Госплана СССР. Сабуров не имел большого политического влияния, он пока не входил даже в состав ЦК ВКП(б). Он был технократ и не примыкал ни к какому блоку, боровшемуся за власть. Сталин поэтому справедливо полагал, что Сабуров не создает для него никаких проблем.
В СССР уже с самого начала войны с Германией резко усилилась власть правительства и ослабло значение и влияние партийного аппарата. С мая 1941 года, когда Сталин был назначен Председателем Совета Народных Комиссаров СССР, именно этот пост, а не выборная должность Генерального секретаря, считался главным в стране. В партийных документах, требовавших подписи Сталина, он подписывался как «Секретарь ЦК», а не «Генеральный секретарь». Соответственно этому и борьба за власть в послевоенные годы происходила более явно в Совете Министров, а не в ЦК ВКП(б). Состав Совета Министров к тому же мог меняться в любое время, тогда как изменения состава Центрального Комитета ВКП(б) требовали решений съезда ВКП(б). К 1952 году произошла консолидация власти между Политбюро и Советом Министров, при которой основные члены Политбюро были также и заместителями Сталина в Совете Министров. К этому времени Булганин потерял свое приоритетное положение единственного «первого» заместителя. Этот же ранг, с правом председательствования на заседаниях Бюро Президиума СМ, снова получили Берия и Маленков.
Маленков, усилив свою роль в правительстве, сумел одновременно ослабить позиции Хрущева в аппарате ЦК ВКП(б). Это было связано с некоторыми неудачными инициативами Хрущева по укрупнению колхозов и созданию «агрогородов», что могло бы потребовать огромных финансовых затрат. Предложенные Хрущевым реформы были подвергнуты открытой критике в «Правде», что, естественно, снижало его авторитет.
В 1951 году Маленков также осуществил реорганизацию идеологических отделов ЦК ВКП(б), уменьшив, таким образом, полномочия секретаря ЦК ВКП(б) Суслова. Крупное Управление агитации и пропаганды разделили на четыре отдела, отделив от Агитпропа в самостоятельные отделы науки и высших учебных заведений, просвещения, литературы и искусства. На посту главного редактора «Правды» Суслов был заменен Леонидом Ильичевым, который до этого был заместителем редактора. После этих изменений «Правда» потеряла свой статус. Суслов получал инструкции от Сталина, Ильичев — от Маленкова и от любого заведующего отделом ЦК ВКП(б).
XIX съезд ВКП(б), отделенный от XVIII съезда тринадцатью годами, давал возможность существенно обновить партийное руководство и усилить роль партии в стране. Он также позволял выдвинуть в руководящие органы партии новых людей. Сталин, как известно, очень умело воспользовался этой возможностью для радикальной реорганизации партийных органов. Партия переименовывалась в КПСС, и ее высший политический форум — Политбюро — сливался с организационным Оргбюро в общий Президиум ЦК КПСС. Неожиданным для ближайших соратников Сталина оказалось, однако, то, что Сталин не стал, вопреки партийным традициям, обсуждать с ними возможный персональный состав Президиума ЦК КПСС, а предложил его неожиданно и достаточно драматично на организационном заседании вновь избранного Центрального Комитета КПСС 16 октября 1952 года. В состав нового Президиума ЦК КПСС вошли 25 членов и 11 кандидатов. Все прежние члены Политбюро, кроме больного Андреева и бывшего в опале Косыгина, вошли в состав нового Президиума. Хрущев следующим образом отразил в своих «Воспоминаниях» впечатление от этой реорганизации:
«Когда пленум завершился, мы все в президиуме обменялись взглядами. Что случилось? Кто составил этот список? Сталин сам не мог знать всех этих людей, которых он только что назначил. Он не мог составить такой список самостоятельно. Я признаюсь, что подумал, что это Маленков приготовил список нового Президиума, но не сказал нам об этом. Позднее я спросил его об этом. Но он тоже был удивлен. «Клянусь, что я абсолютно никакого отношения к этому не имею. Сталин даже не спрашивал моего совета или мнения о возможном составе Президиума». Это заявление Маленкова делало проблему более загадочной. Я не мог представить, что Берия был к этому причастен, так как в новом Президиуме были люди, которых Берия никогда не мог бы рекомендовать Сталину. Молотов и Микоян также не могли иметь к этому отношения. Булганин тоже не знал ничего об этом списке... Некоторые люди в списке были малоизвестны в партии, и Сталин, без сомнения, не имел представления о том, кто они такие».
В состав Президиума ЦК вошел Игнатьев. Был усилен и идеологический блок нового органа партии. В него вошли не только Суслов, но и Дмитрий Чесноков, и Николай Михайлов, которых Хрущев, по- видимому, считал людьми «малоизвестными в партии». Они были крайними идеологическими консерваторами и антисемитами. Но они в своей деятельности ориентировались не на Маленкова или Хрущева, а, как и Суслов, только на Сталина.
Оперативное руководство партией возлагалось, однако, не на этот слишком большой Президиум, а на Бюро Президиума — орган, не предусмотренный новым Уставом КПСС. Список членов этого Бюро не сообщался в прессе, и его существование вообще не было известно общественности. Он, таким образом, не имел и не мог иметь того же авторитета, как прежнее всем известное Политбюро. В состав Бюро Президиума ЦК КПСС вошли вместе со Сталиным девять человек: семь из прежнего Политбюро — Сталин, Маленков, Берия, Булганин, Хрущев, Ворошилов и Каганович и двое новых — Сабуров и Михаил Первухин. Хотя Молотов и Микоян были избраны в Президиум ЦК КПСС, Сталин уже не приглашал их к себе на дачу или в Кремль на узкие совещания. В целом можно заключить, что реорганизации в КПСС усилили позиции, главным образом, самого Сталина. Для решения текущих вопросов он приглашал к себе в Кремль или на дачу уже не «семерку», а «четверку»: Маленкова, Хрущева, Берию и Булганина.
После ряда неотложных дел Сталин 3 ноября 1952 года вызвал к себе в Кремль Игнатьева и его заместителей — Гоглидзе, Рясного и Рюмина. Из членов нового Бюро на этом совещании присутствовал лишь Маленков. Обсуждение накопившихся проблем государственной безопасности продлилось почти два часа. Безусловно, что именно на этой встрече в Кремле Игнатьев получил санкцию Сталина и Маленкова на новые аресты, так как на следующий день были арестованы профессора Виноградов, Василенко, Вовси и Б.Б. Коган. Через десять дней, 13 ноября, Сталин снова вызвал к себе Игнатьева и его заместителей —- Гоглидзе, Огольцова, Е.П. Питовранова и Рясного. Рюмина среди них не было, так как в Кремле решалась и его собственная судьба. На этот раз решение принимала вся «четверка» — Маленков, Берия, Булганин и Хрущев. 14 ноября Рюмин был уволен из МТБ и переведен инспектором в Министерство госконтроля. Всю следственную группу по «делу врачей» возглавил теперь Гоглидзе, который также стал первым заместителем Игнатьева. О причинах падения Рюмина можно строить лишь разные предположения, никакими протоколами они не были зафиксированы. Г. В. Костырченко, которому принадлежит самый полный анализ всех «еврейских» процессов в СССР, считает, что на увольнении Рюмина из
МТБ настаивал Берия, недовольный его действиями в грузино- мингрельском деле. Рюмин и его заместитель по следственной части МТБ В.Г. Цепков возглавляли особую группу МТБ и по этому делу. Следствие в Грузии также шло с применением пыток и было к концу 1952 года намного ближе к завершению, чем «дело врачей». Оно включало большее число арестованных и явно готовилось не для суда, а для заочного приговора через Особое Совещание. В таких случаях следствие обычно идет по упрощенной схеме. Завершение грузинского процесса грозило именно Берии и Гоглидзе очень большими неприятностями. В конце 1952 года им поэтому было исключительно важно затормозить следствие в Грузии и расширить «дело врачей» в Москве, чтобы переключить именно на него главное внимание Сталина. Еврейский же процесс в Москве при его развороте неизбежно получал международный резонанс, и это в первую очередь могло дискредитировать лишь самого Сталина.
Новые аресты врачей, проведенные в Москве в ноябре и в декабре 1952 года, означали и расширение сценария. Смерти Щербакова и Жданова было уже недостаточно для всех арестованных, многие из которых к их лечению не имели прямого отношения. В число подозрительных событий, подлежащих разработке, включили смерть Георгия Димитрова, бывшего председателя Коминтерна, лидера французских коммунистов Мориса Тореза и некоторых других коммунистических лидеров, которые в то или иное время лечились в Кремлевской больнице. Поскольку профессор Вовси был главным терапевтом Красной Армии, его обвинили в попытке лишить СССР его лучших боевых маршалов и генералов. Вошел в список жертв «сионистского заговора» и ушедший в отставку по болезни бывший член Политбюро A.A. Андреев. 20 ноября 1952 года Гоглидзе и Огольцов снова поздно вечером были на приеме у Сталина в присутствии «четверки» партийных лидеров. Сталин в это время уже не вел в Кремле приемов и совещаний дольше одного часа. Иногда, как это было 22 ноября, собрав у себя в кабинете полный состав членов Бюро Президиума в десять часов вечера, он решал все вопросы в течение 25 минут. В середине декабря Игнатьев был вызван к Сталину с четырьмя его заместителями и опять только на час. Через три дня Гоглидзе снова побывал в кабинете у Сталина, но уже без министра госбезопасности. На предыдущем приеме 15 декабря Сталин действительно выразил недовольство работой МТБ и лично Игнатьева. Это привело к сердечному приступу у самого шефа госбезопасности, и он оказался в больнице МТБ. Недовольство Сталина было связано с отсутствием ясной картины всего международного сионистского заговора. Не было и убедительных доказательств вины именно врачей-евреев, хотя к этому времени были арестованы десять профессоров-евреев. Поскольку их показания добывались с применением физических методов следствия, холодных камер, бессонницы, металлических кандалов и простых избиений, началась характерная для таких случаев цепная реакция ложных вынужденных показаний, в которые попадало множество новых имен. Это было неизбежно, так как у врачей-профессоров были врачи- ассистенты, диагнозы и курсы лечения в Кремлевской больнице всегда назначались врачебными консилиумами и в сложных случаях приглашались лучшие эксперты из Академии медицинских наук, а иногда и зарубежные консультанты. Если жены арестованных врачей тоже были медиками, арестовывали и жен, а иногда и других членов семей.
Сталин, безусловно, спешил быстро закончить это дело, но явно не знал, как это можно сделать. Судя по материалам следствия и спискам подозреваемых, все «дело врачей» оказалось очень большим и только разворачивалось. Между тем здоровье самого Сталина продолжало ухудшаться, и ему было трудно осуществить те преобразования партийного и государственного аппарата, которые начались на XIX съезде КПСС. Новая структура власти еще не была сформирована, и ни в ноябре, ни в декабре Президиум ЦК КПСС ни разу не был собран даже для определения собственных полномочий. 17 ноября 1952 года Сталин собрал у себя в Кремле всех секретарей нового ЦК КПСС, их было уже десять, и между ними были распределены сферы ответственности. Суслов, как это можно заключить из его последующего разговора с Шепи- ловым, вновь получил контроль над работой центральной прессы. Суслов информировал Шепилова, что на встрече у Сталина было решено назначить Шепилова главным редактором «Правды» вместо Ильичева. Это был шаг по ограничению влияния Маленкова. Шепилов считался другом Жданова и членом «ленинградской группы». В 1950 году он долго не имел работы и ожидал ареста. В декабре Шепилов обсуждал вопросы реорганизации редакции «Правды» лично со Сталиным. Сталин явно хотел сделать «Правду» более влиятельной. Шепилов цитирует слова Сталина: «Как можно руководить идеологической и политической работой такой большой партии, как наша? Только через печать. Как можно руководить самой печатью? Только через «Правду». Это — газета газет. Должна быть газетой газет. А «Правда» совсем измельчала. На ряде фактов мы убедились, что Ильичев — марксистски неграмотный человек. Невежественный человек. Ему нужно поучиться в партшколе». Новый состав редколлегии «Правды» утверждался Секретариатом ЦК, на котором Сталин также присутствовал. По свидетельству Шепилова, «Сталин выглядел хорошо и почему-то был очень весел: шутил, смеялся и был весьма "демократичен". «Хороший» вид Сталина в декабре 1952 года был отмечен и другими. Это было, однако, связано с покрасневшим, розовым цветом кожи лица, обычно серой, как у всех пожилых курильщиков. Дочь Светлана, приехавшая в Кунцево 21 декабря, чтобы поздравить отца с днем рождения — ему исполнилось 73 года, обратила внимание, наоборот, на плохое самочувствие: «... Он плохо выглядел в этот день. По-видимому, он чувствовал признаки болезни, может быть гипертонии, так как неожиданно бросил курить и очень гордился этим — курил он, наверное, не меньше пятидесяти лет». Сталин по-прежнему испытывал кислородное голодание. В 1952 году он осенью не поехал отдыхать на юг, решив, что дела в Москве после съезда КПСС обязательно требуют его личного присутствия.
Внезапное прекращение курения у людей, ставших зависимыми от никотина, всегда и неизбежно ведет к заметным физиологическим и психическим изменениям, «переходному периоду», который продолжается несколько месяцев. Эти изменения достаточно хорошо изучены. Уменьшается способность к концентрации внимания, возникает повышенная раздражительность, депрессия и бессонница. Однако отказ от курения при гипертонии ведет к снижению кровяного давления, это Сталин мог узнать и без врачей. К тому же в прошлом Виноградов говорил ему, наверное, то же самое.
9 января 1953 года в Кремле состоялось расширенное заседание Бюро Президиума ЦК КПСС для того, чтобы обсудить доклад М ГБ по «делу врачей» и одобрить сообщение об этом «деле» в прессе. Имелось в виду то «Сообщение ТАСС», которое было опубликовано 13 января в центральных газетах. Игнатьев на заседании не присутствовал, он все еще был в больнице. От МТБ доклад представляли Гоглидзе и Огольцов. На это совещание, кроме членов Бюро, были приглашены секретари ЦК КПСС, председатель Комитета партийного контроля М.Ф. Шкирятов и Д.Т. Шепилов, как редактор «Правды». Сталин на это заседание не пришел, хотя в списке участников он числился первым. Отсутствие Сталина на этом ключевом для «дела» заседании иногда объясняется как особый маневр. Булганин, когда он был уже пенсионером, в беседе с Я.Я. Этин- гером, сыном покойного профессора Этингера, первой жертвы «дела врачей», объясняя отсутствие Сталина на совещании в Кремле 9 января, утверждал: «... этот хитрый и коварный грузин сознательно так поступил, чтобы не связывать себя на всякий случай каким-то участием в принятом на заседании решении о публикации сообщения ТАСС». По свидетельству Булганина, большую активность на совещании проявил Каганович. Такой же версии объяснения придерживается и Г. В. Кос- тырченко: «Зная византийскую натуру диктатора, можно предположить, что он намеренно уклонился от участия в этом заседании, имея в виду не только создать себе на всякий случай «алиби» и тем самым снять с себя ответственность за инспирирование «дела врачей», но и иметь возможность при необходимости переложить эту ответственность на участников заседания». Но Костырченко также предполагает, что отсутствие Сталина на совещании могло быть связано с проблемами его здоровья. Сталин просто не мог в это время, тем более без своей обычной трубки, принимать участие в каких-либо длительных заседаниях. Он большую часть времени проводил на даче. «В январе-феврале 1953 года, - как обнаружил Костырченко, - в отличие от ранее существовавшего порядка, все важнейшие документы, в том числе запросы из М ГБ о санкциях на аресты наиболее значимых лиц, направлялись не Сталину, а в основном Маленкову, который тогда полностью сосредоточил в своих руках управление текущими делами в партии и государстве»т. 13 января в центральных газетах под рубрикой «Хроника» появилось следующее сообщение ТАСС:
АРЕСТ ГРУППЫ ВРАЧЕЙ-ВРЕДИТЕЛЕЙ
Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза.
В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М.С., врач-терапевт; профессор Виноградов В.Н., врач-терапевт; профессор Коган М.Б., врач-терапевт; профессор Коган Б.Б., врач-терапевт; профессор Егоров П.И., врач-терапевт; профессор Фельдман А.И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я.Г., врач- терапевт; профессор Гринштейн A.M., врач-невропатолог; Майоров Г.И., врач-терапевт.
Документальными данными, исследованиями, заключениями медицинских экспертов и признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье.
Следствием установлено, что участники террористической группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски подрывали здоровье последних, умышленно игнорировали данные объективного исследования больных, ставили им неправильные диагнозы, не соответствовавшие действительному характеру их заболеваний, а затем неправильным лечением губили их.
Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища A.A. Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имеющийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища A.A. Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь товарища A.C. Щербакова, неправильно применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный для него режим и довели его таким путем до смерти.
Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских руководящих военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из строя маршала Василевского A.M., маршала Говорова JI.A., маршала Конева И.С., генерала армии Штеменко С.М., адмирала Левченко Г.И. и других, однако арест расстроил их злодейские планы, и преступникам не удалось добиться своей цели.
Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, - состояли в наемных агентах у иностранной разведки.
Большинство участников террористической группы (Вовси М.С., Коган Б.Б., Фельдман А.И., Гринштейн A.M., Этингер Я.Г. и другие) были связаны с международной еврейской буржуазно- националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву «об истреблении руководящих кадров СССР» из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса.
Другие участники террористической группы (Виноградов В.Н., Коган М.Б., Егоров П.И.) оказались давнишними агентами английской разведки. Следствие будет закончено в ближайшее время.
Сталин не участвовал 9 января в обсуждении этого «Сообщения ТАСС» и привязанного к нему текста передовой статьи «Правды». Но опубликовать подобные материалы в советской прессе без личного разрешения Сталина было, конечно, невозможно.
Профессора М.Б. Коган и Я.Г. Этингер оказались в списке «террористической группы» посмертно. «Сообщение ТАСС», как я мог наблюдать это и лично, произвело очень тяжелое и тревожное впечатление на московскую интеллигенцию и породило множество слухов. Особого удивления не было, особенно среди биологов, разные репрессивные кампании не были забыты. Гонения на генетиков и цитологов, а в физиологии на эндокринологов «антипавловцев» все еще продолжались. В «деле врачей», в той форме, как оно отражалось в прессе, был слишком очевидный антисемитский уклон. Именно это распространяло его далеко за пределы медицины и науки вообще.
Публичное сообщение такого рода могло означать только одно — готовился открытый показательный суд. Последняя фраза сообщения о том, что «следствие будет закончено в ближайшее время», означала, что суд будет очень скоро. Но, как показывают документы, ставшие известными лишь в последнее десятилетие, до суда было еще очень далеко. В начале января 1953 года следствие по «делу врачей» по существу только начиналось. Наибольшее число арестов приходилось на январь и февраль.
Закончить следствие «в ближайшее время» и подготовить это сложное дело для открытого суда было практически невозможно. Показательные суды, по примеру 30-х годов, основанные на лжесвидетельствах и самооговорах, требовали очень длительной подготовки, репетиций совместно с прокуратурой и защитой и полного психического подавления обвиняемых. По «делу ЕАК», завершившемуся в 1952 году, МТБ после трех лет следствия не могло обеспечить открытость суда и участие прокурора и защиты. Но если открытый «показательный» суд был нереален, какую цель могло преследовать «Сообщение ТАСС»? Зачем объявлять о скором окончании следствия, которое в действительности только началось?
Суд имел право выносить любые меры наказания, вплоть до расстрела. Но эти чрезвычайные полномочия ОСО при НКВД сохранились и после войны и были в силе в 1953 году.
Берия уже в 1953 году, вскоре после смерти Сталина, став министром внутренних дел, направил в Президиум ЦК КПСС записку «Об ограничении прав Особого Совещания». Он отмечал, что после окончания войны и до 1953 года права ОСО не сокращались, а, наоборот, расширялись. «Такое положение приводило к тому, что бывшее министерство государственной безопасности СССР, злоупотребляя предоставленными широкими правами, рассматривало на Особом Совещании не только дела, которые по оперативным или государственным соображениям не могли быть переданы на рассмотрение судебных органов, но и те дела, которые были сфальсифицированы без достаточных оснований». Берия в этой записке предлагал не упразднить ОСО, а лишь ограничить его право на вынесение любых приговоров. По его мнению, ОСО не должно иметь права лишения свободы на срок больше 10 лет. В сентябре 1953 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ об упразднении Особого Совещания. Не исключено, что сам факт того, что большинство политических дел, дел о диверсиях, шпионаже, дела о националистах и многие другие рассматривались в 1941—1953 годах не судебными органами, а ОСО, объясняет определенную атрофию способности судов к рассмотрению таких дел в открытом или закрытом заседаниях. Следователи в случаях проблем с доказательствами вины могли почти всегда рекомендовать направление законченного дела не в суд, а в ОСО, где оно гарантированно «проходило» в общем списке в 100, 200 или 500 и больше обвиняемых. Большинство людей в СССР о существовании Особых Совещаний не знало и даже не подозревало. Обычные уголовные преступления рассматривались в народных судах, и их заседания обычно были открытыми.
В январе и в феврале 1953 года ни МТБ, ни Маленков и Берия, осуществлявшие в этот период контроль за всеми текущими делами, не были заинтересованы в прекращении или хотя бы в замораживании «дела врачей», так как оно было начато в июле 1951 года именно по инициативе той комиссии ЦК ВКП(б), в которую входили Маленков и Берия. Игнатьев и Гоглидзе сменили Абакумова в руководстве МТБ именно для разворачивания «дела врачей» и завершения «дела ЕАК», зашедшего в тупик. Провал «дела врачей», вполне возможный при передаче его в суд плохо подготовленным и не отрепетированным, грозил им всем катастрофой. Но в то же время Берия и Гоглидзе, а вместе с ними, очевидно, и Маленков очень торопились. Им нужно было завершить «дело врачей» приговорами раньше, чем будут вынесены приговоры по обширному делу о мингрельской националистической группе в Грузии. В Тбилиси следствием по этому делу руководил первый секретарь ЦК КП(б) Грузии А.И. Мгеладзе. Как сообщил Берия уже в своей записке в Президиум ЦК КПСС от 8 апреля 1953 года, «...И.В. Сталин систематически звонил в Тбилиси — непосредственно в МТБ Грузинской ССР Ру- хадзе и ЦК КП(б) Грузии т. Мгеладзе и требовал отчета о ходе следствия, активизации следственных мероприятий и представлении протоколов допросов ему и т. Игнатьеву».
Ключевой фигурой среди арестованных в Грузии партийных работников являлся П.А. Шария, близкий друг Берии. Его иногда называли «душеприказчиком Берии». В период, когда Берия возглавлял ЦК КП(б) Грузии, Шария был заведующим отделом агитации и пропаганды ЦК Грузии. При переезде в Москву Берия взял Шарию с собой и назначил его начальником секретариата Глазного управления государственной безопасности НКВД. С 1943 по 1948 год Шария занимал пост секретаря ЦК КП(б) Грузии. После смерти Сталина Шария был немедленно освобожден, еще до пересмотра всего «мингрельского дела». Но в июне 1953 года его снова арестовали, уже как члена «банды Берии», и в 1954 году приговорили к 10 годам заключения. Вторым близким другом Берии, оказавшимся в тюрьме в Грузии по этому же делу, был А.Н. Рапава, занимавший в 1943—1948 годах пост министра государственной безопасности Грузии, а с 1949 по 1951 год — министра юстиции Грузинской СССР. Рапава также был немедленно освобожден после смерти Сталина и назначен министром государственного контроля Грузии. После падения Берии Рапава был арестован вторично и в 1955 году расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР. Здесь нет необходимости разбирать, насколько виновны или невиновны были эти друзья Берии. В данном случае важно показать, что завершение «мингрельского дела» в Грузии действительно серьезно угрожало положению самого Берии в Москве. «Оргвыводы» были бы неизбежны. Это был вопрос жизни или смерти не только для многих людей в Грузии, но и в Москве.
По воспоминаниям сына Берии, Серго, его отец отлично понимал намерение Сталина и неоднократно предупреждал жену и сына о том, что Сталин может его сместить и что они должны быть готовы ко всему. В его семье «грузинское дело» воспринималось именно таким образом. Завершение этого дела, по свидетельству Серго Берии, ожидалось в марте 1953 года.
Если тщательно обдумать возникшую ситуацию в Москве в феврале 1953 года, то становится очевидным, что предотвратить неизбежные «оргвыводы» после намечаемых в ближайшие недели расстрелов в Грузии можно было лишь одним путем — расстрелами в Москве. Для этого следовало форсированно провести отобранную для возможного суда группу врачей через Особое Совещание при МТБ. 37 человек для Особого Совещания — это не проблема, это была задача на два-три часа. Председателем Особого Совещания мог быть Гоглидзе, как первый заместитель министра. Генеральный прокурор Григорий Сафонов, как ставленник Маленкова и Берии, всегда послушно санкционировал все внесудебные действия властей и был часто членом ОСО при МТБ. Именно он одобрил приговоры по «ленинградскому делу» и выдавал санкции прокуратуры на аресты врачей. Он также мог и войти в ОСО для быстрого окончания этого дела. От ЦК КПСС наилучшей кандидатурой для ОСО был, конечно, Маленков. Но он, возможно, мог делегировать эту миссию кому-либо из своих коллег. Удержать решение ОСО по «делу врачей» в секрете оказалось бы, конечно, невозможно. Неизбежно возник бы шквал международных протестов. Но он ударял главным образом по Сталину. При любом завершении этого дела основная ответственность все равно лежала только на нем. За любые действия Берии, Маленкова, Игнатьева и всех других отвечал перед судом истории только Сталин. Это было справедливо. Именно он создал этот режим со всеми его карательными институтами.
Вскоре после публикации в газетах «Сообщения ТАСС», в период очень интенсивной пропагандистской кампании, связанной с «делом врачей», где-то между 20 и 23 января, многих достаточно знаменитых людей, но обязательно еврейского происхождения стали приглашать в редакцию «Правды» с тем, чтобы подписать заявление о проблемах евреев в СССР в форме коллективного письма в редакцию «Правды». Среди приглашаемых в «Правду» были известные писатели, поэты, композиторы, артисты, ученые, конструкторы, генералы, директора заводов, инженеры и простые рабочие и колхозники, то есть представители всех слоев советского общества. Организацию сбора подписей возглавляли академики Исаак Израилевич Минц, Марк Борисович Митин и Я.С. Ха- винсон-Маринин, главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения». С этим письмом ознакомились более 50 человек и, наверное, около 40 из них это письмо подписали. Естественно, что содержание письма в пересказах стало известно в «элитных» кругах Москвы почти сразу
.РАЗДЕЛ III. Г.М. МАЛЕНКОВ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА В 1953-1957 гг.
Среди всех наследников умершего в марте 1953 г. вождя Г.М. Маленков, имевший все шансы стать новым лидером страны, проявил наименьшее упорство во внутрипартийной борьбе, что автор связывает не только с отсутствием у него политических амбиций, но и с его искренней верой в возможность коллективного руководства партией и государством.
Смерть И.В.Сталина и устранение Л.П. Берия поставили вопрос о разработке нового экономического курса, в чем Г.М. Маленков видел свою особую роль. Не случайно поворот в развитии экономики был намечен уже в траурной речи Г.М. Маленкова на похоронах И.В. Сталина 9 марта 1953 г. Если до смерти вождя Г.М. Маленков неизменно представал как сторонник жестких административных подходов в решении внутренних задач, то после смерти И.В. Сталина его позиция приобрела некоторую самостоятельность. С трибуны Мавзолея Г.М. Маленков определил новые приоритеты внутриполитического курса. Безусловной новизной отличалось объявленное стремление «неуклонно добиваться дальнейшего улучшения материального благосостояния рабочих, кол-
133
хозников, интеллигенции, всех советских людей». Показательно, что еще пять месяцев назад, в отчетном докладе на XIX съезде партии (октябрь 1952 г.), повышение благосостояния граждан было определено только седьмым пунктом из девяти главных направлений работы в об-
134
ласти внутренней политики.
Анализируя тенденции развития советской экономики за годы советской власти и признавая верность курса партии на развитие тяжелой промышленности в период индустриализации страны, Г.М. Маленков констатировал тот факт, что «за последние 28 лет производство средств производства в целом выросло в нашей стране примерно в 55 раз, производство же предметов народного потребления за этот период увеличилось примерно в 12 раз».91 Признавая создавшуюся ситуацию неудовлетворительной, глава правительства считал необходимым на базе успехов тяжелой промышленности организовать резкое увеличение производства предметов народного потребления.92
Г.М. Маленков первым из руководителей сталинского окружения в 1950-е гг. связал обеспечение роста производства предметов народного потребления с подъемом сельского хозяйства, как источником сырья для легкой промышленности и снабжения населения продовольствием. Центральной мерой нового курса стало повышение закупочных цен на сель-
1Я7
хозпродукцию, с благодарностью встреченное колхозниками. Значительное внимание в новой программе развития экономики уделялось развитию личного подсобного хозяйства колхозников, как одного из источников жизнеобеспечения сельских жителей.93
Программное выступление Г.М. Маленкова на пятой сессии имело огромный резонанс как внутри страны, так и за рубежом. Характер поставленных задач и пути их решения свидетельствуют о том, что Г.М. Маленковым была разработана продуманная система мер по оздоровлению экономики.
Однако рост популярности Г.М. Маленкова в среде советских граждан противоречил целям его политических противников, что послужило одной из причин обострения политической борьбы в середине 1950-х гг.
Дискредитация Г.М. Маленкова велась продуманно, для чего активно использовались возможности средств массовой информации. Так, в январских номерах 1955 г. газеты «Правда» появился целый ряд публикаций, так или иначе затрагивавших проблему выбора приоритета развития между тяжелой и легкой промышленностью, и выбор этот ре- шалея в пользу первой. Особенно наглядно это демонстрирует статья редактора газеты «Правда» Д.Т. Шепилова «Генеральная линия партии и вульгаризаторы марксизма», в которой, не называя фамилии Г.М. Маленкова, подверглись критике его основные теоретические и политические взгляды.94 Как известно, в результате личного противоборства лидера партии и лидера правительства в феврале 1955 г. Г.М. Маленков был освобожден от должности Председателя Совета Министров СССР, что не позволило завершить начатые реформы в советской экономике. После XX съезда партии политическое влияние Г.М. Маленкова, как ближайшего соратника И.В. Сталина, продолжало неуклонно снижаться. Последовавший в 1957 г. разгром «антипартийной группы» привел к вынужденному уходу Г.М. Маленкова из политической жизни страны.
Смерть Иосифа Сталина поставила вопрос о новом руководителе великого государства. После шестимесячной острой внутриэлитной борьбы победу, как известно, одержал Никита Хрущев, возглавивший страну и правящую партию на 10 лет. Однако он не был в негласном списке претендентов на самые высшие должности и тем более не рассматривался Сталиным как преемник. Совсем другие деятели вели борьбу в последние годы жизни Сталина за право возглавить партию и государство. Это были члены Политбюро ЦК КПСС Георгий Максимилианович Маленков и Андрей Александрович Жданов. Они не состоялись как генсеки по разным причинам - первый будучи председателем Совета министров не смог противостоять напористому Хрущеву, другой просто умер за пять лет до кончины Сталина при таинственных обстоятельствах. Но оба они были рядом с вождем, пользовались его доверием, во многом определяли внешнюю и внутреннюю политику и готовились к возможным решающим поворотам в своей судьбе. Интересно проследить жизненный путь этой пары лидеров в сравнении, это позволит глубже понять характер политического процесса в СССР в послевоенный период, когда обозначился кризис сталинского режима.
Оба эти деятеля представляли остатки большевистской политической элиты, пришедшей к власти в 1917 году и практически уничтоженной Сталиным в конце 1930-х гг. Они принадлежали к той типичной группе большевиков-ортодоксов, которые, презрев муки совести, всегда поддерживали Сталина в его яростной борьбе и уничтожении как оппозиционной партийной интеллигенции, так и партийных технократов, сторонившихся политической борьбы. Но ликвидировав оппозицию и инакомыслящих, они стали жестоко бороться уже друг с другом за власть, за место рядом со Сталиным, за сферы влияния, за политическую линию, просто за выживание.
Андрей Жданов родился 26 февраля 1896 г. в семье инспектора народных училищ в городе Мариуполе. 16-летним учеником реального училища в г. Твери он стал членом подпольного социал- демократического кружка. Здесь же в 1915 г. он вступил в партию большевиков, а через год был введен в состав городского комитета РСДРП.
Сын Жданова Юрий вспоминал: "Отец учился в Петровско- Разумовской сельскохозяйственной академии (ныне - Тимирязевка) и Московском коммерческом институте, но отнюдь не Тверском сельскохозяйственном техникуме, как пишут некоторые ленинградские правдолюбы. Первая мировая война не позволила ему завершить образование, пришлось ехать в Тифлис в школу прапорщиков... Интересы его при обучении склонялись... к метеорологии и климатологии. К этим наукам он питал склонность всю жизнь, интересовался проблемой долгосрочных прогнозов, в частности, концепцией Мульта-новского".
Во время первой мировой войны он находился в армии в 139-м запасном полку в г. Шадринске Пермской губернии и вел большевистскую пропаганду среди солдат 139 запасного полка. Его взвод один из первых в полку поддержал свержение самодержавия.
Георгий Маленков был моложе Жданова на 6 лет, что в тех условиях было значительным разрывом. Он родился в обедневшей дворянской семье в 1902 г. и тоже рано остался без отца. Закончил с золотой медалью Оренбургскую классическую гимназию. Еще во время учебы стал помогать революционно-настроенным солдатам, а вскоре ушел добровольцем на фронт. В ходе гражданской войны он выполнял функции рядового партработника, работал в политуправлениях Восточного и Туркестанского фронтов, где и вступил в большевистскую партию. Там же он и нашел свою будущую жену. Он уже проявил себя как стопроцентный большевик, незнающий никаких сомнений и абсолютно преданный новой власти.95
В отличие от Маленкова, А.Жданов не сразу стал твердокаменным большевиком. Архивисты выявили в шадринской газете «Исеть» 29 июля 1917 года заметку, в которой сообщалось, что Жданов был председателем местного бюро социалдемократов-интернационалистов. Эта организация во главе с Мартовым была в стране известна как левоменыиеви- стская группировка, выступавшая против большевистских лозунгов поражения своего правительства и превращения империалистической войны в гражданскую, отстаивавшая идеи демократического социализма. Но в общем офицер А. А. Жданов принадлежал к лагерю революционных социал-демократов. Интересно свидетельство А. Федорова в газете «Шадринский рабочий»: «Солдаты уважали молодого прапорщика за его ум и знание жизни. В знак протеста против войны Жданов даже не носил офицерские погоны, за что не любили его монархически настроенные офицеры. Более того - прапорщик пошел на конфликт чести с корпорацией офицеров и был исключен из нее.
В молодости Жданов был человеком жизнерадостным, веселым, деятельным, остроумным и вызывал симпатии у населения. Во время революции 1917 г. большевик Жданов стал в первые ряды организаторов Советской власти, став уездным комиссаром земледелия. В феврале 1918 года A.A. Жданов публикует в газете «Крестьянин и рабочий» статью «Ещё об интеллигенции», в которой призывает интеллигенцию «слиться в единую мощную семью с трудящимися массами. 22 марта 1918 года проходит уездный съезд Советов, на котором A.A. Жданов призывал делегатов укреплять Советскую власть и не пускать кулаков в Советы. Он избирается председателем уездного комитета РКП (б). В этом качестве в начале июня 1918 года Жданов призывает организовать отпор чехословакам и белогвардейским бандам. Вскоре он был направлен на работу в Екатеринбург на должность областного организатора Красной Армии». Местная парторганизация противилась его приезду, и Жданов вынужден обратиться с специальным письмом, в котором объяснял свою позицию. В августе 1918 г. по решению Уральского обкома партии в Перми создаются военно-агитаторские курсы. Заведующим этими курсами назначается Жданов».
В 1919-1922 гг. A.A. Жданов находился на руководящей партийной и советской работе в Твери. Как делегат Тверской организации он в 1920 г. участвовал в работе IX съезда РКП(б), а затем A.A. Жданов был избран заместителем ответственного секретаря Тверского губкома РКП(б), в 1922 -председателем Тверского губисполкома. На 8-м Всероссийском съезде Советов A.A. Жданов избирается членом ВЦИКа советского парламента.
В отличие от Жданова, Маленков пока еще не думал о партийной деятельности. Он поступил на электротехнический факультет Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана. Но там он становится секретарем партийного комитета, проявляет активность в борьбе с оппозицией и замечается вождями партии. Он направляется сначала на техническую работу в аппарат ЦК, а затем входит в руководство Московского комитета партии. В качестве заворготдела он в 1930 г. вместе с Кагановичем успешно провел чистку партийной организации от сторонников разгромленного «правого уклона». Энергичный Маленков проявляет деловитость, исполнительность, оперативность, умение ладить с начальством, промолчать или своевременно проявить инициативу, когда надо. Даже одутловатый вид не помешал ему создать впечатление энергичного проводника требований партии. Как преданного сторонника сталинского руководства Маленкова в 1934 г. назначают заведующим отделом руководящих партийных органов ЦК ВКП(б). Так молодой чиновник стал членом сталинской политической элиты, одним из близких помощников Сталина.
Карьера Жданова носила более сложный характер. С 1924 по 1934 А. А Жданов - секретарь крупного Нижегородского губкома, после переименования города - Горьковского краевого комитета ВКП(б). Это была самостоятельная руководящая работа, требовавшая много времени и труда. Как лидер такой организации Жданов избирается на XVI съезд ВКГГ(б) в 1930 году и членом ЦК ВКП(б), но это оказалось только начало. Принято считать, что решающий поворот в политической карьере Жданова связан с именем Сталина. Д.Волкогонов писал: «В 1929 году Сталин пригласил секретаря Горьковского крайкома партии (город к тому времени уже переименовали) к себе в Кремль на беседу. Тридцатитрехлетний крепыш произвел на генсека хорошее впечатление. Расспросил о положении в Горьком, о настроении людей, о том, как в городе отнеслись к высылке Троцкого, исключенного из партии, и ссылке большой группы его сторонников. Попутно поинтересовался, кто из родных Жданова живет сейчас в его родном городе Мариуполе, поддерживает ли он связи с Шадринском, где началась его партийная карьера в годы гражданской войны. Жданов, удивившись про себя осведомленности генсека, коротко и толково обо всем доложил, с оптимизмом, оценил перспективы начала колхозного движения в крае, заявил о стремлении большевиков краевой организации досрочно выполнить пятилетний план. Попрощались. Сталин что-то пометил в своей загадочной тетради. Умные глаза, интеллигентен, ничего не попросил, как бывает в таких случаях (машин, людей, дополнительные ассигнования). Оценка молодым секретарем перспектив колхозного движения и необходимости ударного развития промышленности удивительно совпали с тем, что думал об этом сам Сталин».
С 26 января по 10 февраля 1934 года в Москве проходит XVII съезд ВКП(б), А. А Жданов выступил на нем как руководитель парторганизации Горьковской области. Его речь выдержана в духе идеологии формирующегося культа личности И. В. Сталина, однако в ней имелась и технократическая часть, посвященная реальным проблемам автомобилестроения, острым производственным вопросам, преодолению ряда реальных осложнений. Такое выступление понравилось Сталину и после XVII съезда А. А. Жданов вводится в состав высшего политического руководства. Он становится секретарем ЦК ВКП(б) и работает в аппарате ЦК рядом с Маленковым. Более того, как показал О.В.Хлевнюк, в силу того обстоятельства, что избранный секретарем ЦК Киров по-прежнему в основном работал в Ленинграде, именно Жданов зачастую заменял его в Политбюро и в отсутствие Сталина руководил работой этого органа.96
17 августа 1934 года в Москве открывается Первый Всесоюзный съезд советских писателей. На первом заседании с речью от имени партии и правительства выступает не Сталин, а A.A. Жданов. Естественно, он постоянно ссылается на Сталина и настойчиво повторяет его определение писателей как «инженеров человеческих душ». Во второй половине 1934 года А. А. Жданов вместе с И.В.Сталиным и С.М.Кировым готовит замечания «по поводу конспектов учебников по истории СССР и новой истории». Все это были знаки особого доверия к политику.
1 декабря 1934 г. в Ленинграде был трагически убит С. М. Киров, считавшийся вторым лидером партии. В этот же день туда прибывает Сталин в сопровождении высших партдеятелей - Молотова, Ворошилова и Жданова в том числе. Для Сталина было очень важно контролировать партийную организацию второй столицы, имевшую особый вес в стране, пролетарского и одновременно культурного центра, «колыбели революции». Он нуждался в достойном преемнике Кирова, которого бы приняла парторганизация и общественность Ленинграда. 15 декабря А. А. Жданов избирается секретарем Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б), а в феврале 1935 года - кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б). В 1935 году А. А. Жданов также становится членом исполкома Коминтерна, награждается орденом Ленина...
Итак, к середине 1930-х годов Жданов и Маленков уже находятся в высшем руководстве партии, но если Маленков в качестве руководителя аппарата, то Жданов вновь оказывается на самостоятельной политической работе. Несмотря на различный статус, оба они в числе близких сподвижников Сталина оказывали самую энергичную поддержку в осуществлении курса форсирования индустриализации, коллективизации и организации политических репрессий.
13 мая 1935 года ЦК ВКП(б) принял решение создать Особую комиссию безопасности Политбюро для руководства ликвидацией врагов народа. Жданов вместе со Сталиным, Ежовым, Шкирятовым, Маленковым и Вышинским входит в ее состав.
Маленков входил в подчинение председателя комиссии партийного контроля Ежова и был естественно обязан выполнять его распоряжения. Но одновременно Маленков имел прямой выход на Сталина, к которому постоянно обращался с предложениями о перестановках кадров. Известны его инспекционные поездки на места: вместе с Микояном в Армению, вместе с Ежовым в Белоруссию, в Татарстан, Тулу, Тамбов, где прямо направлял и стимулировал ход репрессий в соответствии с указаниями Сталина. По подсчетам историков после таких инспекций было арестовано свыше 150 тысяч человек.
Но в тоже время даже у чиновника Маленкова стало возникать недоумение слишком массовым характером кадровых репрессий и подозрение в отношении слишком ретивого Ежова, который в своем диком рвении расстреливать всех и вся мог посягнуть на кого угодно. В январе 1938 года он выступил на пленуме ЦК с докладом об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально- бюрократическом отношении к апелляциям и о мерах по устранению этих недостатков. В докладе в закамуфлированной форме фактически осуждалась «ежовщина», но не предлагались действительно кардинальные меры по пресечению этих казней. Маленков осмелился даже передать Сталину через Поскребышева личную записку «О перегибах», в которой обвинял Ежова в гибели тысяч честных коммунистов. У Сталина созрело решение заменить Ежова на более спокойного «чистильщика». Хрущев в мемуарах вспоминал, что Сталин предлагал в августе 1938 г. «подкрепить» наркома Ежова первым заместителем, и Ежов предложил Маленкова. Сталин ответил, что Маленков нужнее на кадрах и назначил Берия, который спустя всего три месяца стал наркомом. Произошло это при участии самого Маленкова, в январе 1939 г. Ежов обвиняет Маленкова в попустительстве к врагам народа и Сталин выслушав его выпады и ответы Маленкова, принимает решение об аресте наркомвнудела. В сейфе Ежова Маленков нашел личные дела, заведенные на членов Политбюро, включая Сталина. Вскоре Маленкову удалось добиться освобождения К.Рокоссовского и И.Ф.Тевосяна.
Ставший фаворитом вождя Маленков был назначен начальником управления кадрами ЦК ВКП(б), после XVIII съезда ВКП(б) Маленков, наконец, становится членом ЦК, секретарем ЦК и членом Оргбюро.97
A.A. Жданов также принимает участие в репрессиях 1930-х годов. Дилемма была простая - либо он выполняет указания Сталина, либо в качестве саботажника партийной линии попадает в число врагов народа. Причем Жданов по крайней мере на первых порах был убежден в правильности кадровых репрессий. 25 сентября 1936 года Сталин и Жданов телеграфируют из Сочи Молотову и Кагановичу: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года. Об этом говорят все работники и большинство областных представителей НКВД. Сталин. Жданов». Вскоре Жданов побывал с инспекционными поездками в Уфе, Казани, Оренбурге, где лично руководил снятием партийных секретарей со всеми вытекающими последствиями. Надо сказать, что Жданов, как и Маленков, лично и непосредственно не руководили репрессиями, осуществляя на практике курс политического сталинизма, направленный на искусственную и принудительную ротацию политической элиты, переставшей в общем и целом отвечать задачам форсирования экономического развития. Понимая эту необходимость, Жданов, конечно, выполнял поручения Сталина осознанно, тяжело переживая реальные факты уничтожения партийных кадров, что стало причиной его, как свидетельствуют некоторые современники, пристрастия к алкоголю и развившейся болезни сердца. За все надо было платить.
Известный публицист Ю. Карякин считает, что именно Жданов, заменив в декабре 1934 года убитого Кирова на посту первого секретаря обкома, организовал т.н. «кировский поток», так как это он составлял и подписывал те списки, по которым многие тысячи ленинградцев пошли в тюрьмы, в лагеря, в ссылку, на смерть. «Жданов как «чистый идеолог» - это миф. Он самый непосредственный организатор кровавой вакханалии, ничуть не хуже Ягоды, Ежова. Берия». И действительно в Ленинграде количество коммунистов с 1934-го, когда Жданов стал здесь первым секретарем, по 1937 г. уменьшилось примерно с 300 до 120 тысяч. Но встает вопрос - что было бы, если бы вместо Жданова был другой деятель?
A.A. Жданов принимает участие в февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года и в своей речи обосновывает необходимость демократизации избирательной системы в свете новой конституции, но с другой стороны он призывает быть готовым к тому, что «при выборах нам придется иметь дело с враждебной агитацией и враждебными кандидатурами». При этом Жданов обрушивается на практику кооптации, естественно, обходя молчанием ее причины - массовые репрессии руководителей партийных организаций. В докладе Жданова звучит резкая критика по поводу отсутствия демократии в стране и призывы к обновлению и самокритике.98
16 апреля 1937 г. Политбюро приняло решение, обязывавшее Жданова поочередно работать месяц в Москве и месяц в Ленинграде. На Жданова как секретаря ЦК были возложены вопросы наблюдения и контроля за печатью и комсомолом. Сталин демонстрировал внимание и расположение к нему, что проявлялось в выполнении всех его просьб и ходатайств, касающихся Ленинградской области. Жданов, естественно, отвечал на доверие повышенной активностью в отведенных ему секторах политики. В августе того же года он принимает активное участие в самом настоящем разгроме руководства ВЛКСМ, члены которого позволяли, на различных вечеринках резкую критику Сталина и его политики, что в то время было страшным криминалом. Кроме того, факты морального разложения были сами по себе поводом для репрессий. Расследование было начато на пленуме ЦК ВЛКСМ, происходившем 21-28 августа 1937 года под руководством М. Кагановича, A.A. Андреева, A.A. Жданова, Г.М. Маленкова. Жданов официально поставил в вину комсомольским работникам то, что они «своевременно не проявили инициативы и недопустимо опоздали с разоблачением врагов народа внутри комсомола». Результатом работы IV пленума ЦК ВЛКСМ явился арест 42 членов ЦК, а так же 13 секретарей обкомов комсомола.
Завершил расправу над комсомольскими работниками спешно созванный (19-22 ноября 1938 г.) VII, внеочередной пленум ЦК ВЛКСМ. Причем фактически открыл пленум Жданов, а не Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Косарев. Жданов, Андреев, Маленков, Молотов превратили этот пленум в перекрестный допрос. В итоге этого судилища были сняты и репрессированы А. Косарев, С. Булачев, В. Пиколина.
Но для Жданова, как и для Маленкова, также стало очевидным, что ежовщина угрожает самой партии, да и ему лично. Он принимает ряд мер по ограничению влияния Ежова и его дискредитации в глазах Сталина. Дж.Гетти отмечал, что Жданов проводил умеренный курс и пытался искоренить болезни партаппарата мирными, а не террористическими средствами. Однако, по мнению О.Хлевнюка, нельзя говорить о противостоянии Жданова и Ежова, так как они просто занимались разными направлениями - Ежов осуществлял чистку партии, а Жданов идеологическим обеспечением репрессий, созданием видимости стабильности и умеренности линии партии. Однако, представляется, что одно не исключает другое. Да и сам Сталин уже понимал, что репрессии слишком сильно подрывают кадровый потенциал партии. Вскоре он решает удалить Ежова и заменяет его Л.П.Берия.
К марту 1939 года, когда собирается XVIII съезд ВКП (б), массовый террор сходит со сцены. Рядом секретных распоряжений аресты были приостановлены, наиболее важное из них было отдано в ноябре 1938 г. В своем выступлении на съезде A.A. Жданов большое внимание уделяет осуждению «перегибов» в деле исключения из партии. То и дело в его речи встречается слово «перебить», означающее массовую гибель людей. A.A. Жданов говорит о замаскировавшихся внутри партии врагах, стремившихся «путем широкого применения репрессий перебить честных членов партии», «перебить как можно больше честных коммунистов», «перебить честные большевистские кадры».
После XVIII съезда партии A.A. Жданов избирается членом Политбюро ЦК ВКП(б), а Маленков становится секретарем ЦК ВКП(б).99
К концу 1939 - началу 1940 года A.A. Жданов занимает важнейшие посты в партии и государстве. Он начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и в этом качестве становится главным цензором. Характер его работы показывают следующие примеры. 9 сентября 1940 года в ЦК ВКП(б) проводилось совещание по разбору фильма «Закон жизни», снятого по сценарию JI. Авдеенко, в котором принимают участие Сталин, Жданов, Маленков, Андреев. В беседе с Авдеенко Жданов замечает "Вы разве считаете, что творчество не под контролем партии? Наверное. Вы так считаете, что каждый сам себе хозяин, как хочу, так и делаю, не Ваше дело, не лезьте в эту область?". В проект постановления ЦК ВКП(б) «О задачах художественной кинематографии» A.A. Жданов включает условие «сценарии фильмов на наиболее важные и ответственные темы должны утверждаться Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)». 25 сентября 1940 года A.A. Жданов получает докладную записку от управляющего делами ЦК ВКП(б) Д. В. Крупина по поводу издания сборника стихов Анны Ахматовой. Ознакомившись с ней Жданов потребовал: «...Необходимо изъять из обращения стихотворения Ахматовой». Жданов дает указание подчиненным разобраться, «как этот ахматовский «блуд с молитвой во славу Божию» мог появиться в свет? Кто его продвинул? Какова также позиция Главлита?» и внести предложения.
Но постепенно главным направлением его активности становится иная деятельность. Как председатель Комиссии по иностранным делам Совета Союза, член Президиума Верховного Совета СССР, член Главного военного совета Военно-Морского Флота СССР он активно занимается международными и военными делами.
5 марта 1940 года проходит заседание Политбюро ЦК ВКП(б), на котором решается участь нескольких тысяч польских офицеров, плененных осенью 1939 года и находящихся в лагерях в Катынском лесу на
Смоленщине. За расстрел польских офицеров проголосовали и поставили подписи Сталин, Ворошилов, Молотов, Микоян, Калинин, Жданов, Каганович. До последнего момента возражал против расстрела и так и не поставил своей подписи Берия.
В июне 1940 г. правительство СССР предъявило прибалтийским республикам требование сформировать новые правительства. Для переговоров о формировании новых советское руководство назначает специально уполномоченных В.Г. Двканозова в Литве, А .Я. Вышинского в Латвии и A.A. Жданова в Эстонии. 19 июня в Таллинне проходят переговоры Жданова с предлагавшимися советской стороной кандидатами в члены правительства Эстонии, затем кандидатуры утверждаются Нар- коминделом.
14-15 июля проходят запланированные выборы в парламенты прибалтийских стран, которые должны провозгласить Советскую власть. 17 июля в Таллинне на совещании Жданов, Вышинский и Деканозова намечают провозглашение сессиями парламентов Советской власти и принятие деклараций о вхождении в СССР. За успешное выполнение всего комплекса работ по включению республик в состав СССР 21 марта 1940 г. A.A. Жданов награждается Орденом Красного Знамени.
9 сентября 1940 года на совещании в ЦК ВКП(б) И. В. Сталин называет воссоединение территорий Западной Украины и Западной Белоруссии с соответствующими республиками СССР расширением границ социализма за счет «капиталистического лагеря». Это мнение подхватывается идеологом Ждановым, который выступая 20 ноября 1940 года на объединенном пленуме Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), подвергает осуждению «советский пацифизм» и утверждает, что советское руководство использует и будет использовать военный конфликт в Европе «для укрепления позиций социализма». В начале июня 1941 года проводится заседание Главного военного совета, на котором A.A. Жданов весьма рискованно заявляет: «Мы стали сильнее, можем ставить более активные задачи. Война с Польшей и Финляндией не были войнами оборонительными. Мы уже вступили на путь наступательной политики".
Однако вряд ли все эти высказывания можно считать признаком готовящейся наступательной операции, так как речь шла о подготовке к войне в соответствии с доктриной войны на территории врага малой кровью.
4 мая 1941 года на секретном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) единогласно постановляет назначить Сталина Председателем Совета Народных Комиссаров СССР. Поскольку формально от обязанностей первого секретаря ЦК ВКП(б) он не был освобожден, его официальным заместителем по Секретариату становится A.A. Жданов. Последний освобождается от обязанностей «наблюдения за Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)», а на его место назначается A.C. Щербаков. Наряду с делами по Секретариату A.A. Жданов практически замещает Сталина и в Оргбюро ЦК ВКП(б). Он становится вторым человеком в пар-
146
ТИИ.
Г.М.Маленков в это время занимался делами промышленности и транспорта, что в общем отвечало его профессиональной подготовке как инженера. На XVIII партконференции он делал главный доклад по проблемам мобилизации народного хозяйства для нужд армии. Позиции Маленкова, заключавшиеся в требовании усиления административных мер для повышения производительности труда, не получили поддержки среди ряда специалистов. Среди оппонентов Маленкова, предлагавших идеи экономического метода хозяйствования, были Н.А.Вознесенский, А.Н.Косыгин, А.А.Кузнецов. Маленкову явно не понравилась скрытая фронда ленинградских хозяйственников. Влияние Маленкова в партии было сопоставимо с авторитетом Жданова. Оба они входили в состав бюро СНК СССР, которое постепенно становилось главным центром власти в стране.
Когда началась Отечественная война, Маленков вошел в государственный комитет обороны и отвечал там за промышленность, прежде всего авиационную. По заданию ГКО и лично Сталина он выезжал на фронты, где оказывал помощь в организации обороны. Вклад Маленкова в организацию материально-технического снабжения фронта и развитие авиационной промышленности несомненный. И полученная в 1943 году звезда Героя Социалистического Труда была вполне заслуженным признанием его заслуг. В 1943 г. Маленков возглавил Комитет по восстановлению народного хозяйства в районах освобожденных от оккупантов, затем комитет по демонтажу немецкой промышленности. Маленков обрел мощное влияние на все круги партийно-государственной элиты, военных, лично на Сталина и стал претендовать на роль второго человека - преемника Сталина.
Жданов же в годы войны как-то потерялся и не играл той политической роли, которая была характерна для него накануне войны. Что касается военной деятельности A.A. Жданова в Ленинграде, то она до сих пор скрыта завесой неопределенности. В советских исторических трудах о ленинградской блокаде Жданов цитируется весьма редко. Вопреки практике и в отличие от менее выдающихся современников Жданова, не опубликовано никакого сборника его речей и документов. Это объясняется вероятно не бездеятельностью Жданова, а тем, что архив Жданова либо уничтожен Маленковым и Берией, либо остается секретным как часть «ленинградского дела».
Жданов постоянно находился в Ленинграде, руководя его обороной. По различным источникам мемуарного характера выясняется, что Жданов стоял за то, чтобы любой ценой удерживать город, Маленков и
Молотов будто бы считали возможным сдать его в виду отсутствия средств для защиты в условиях блокады.
Государственный комитет обороны назначил командующим войсками Ленинградского фронта Ворошилова, членами Военного совета Жданова и Кузнецова, начальником штаба -генерала Попова. 1 сентября Сталин объявил Жданову и Ворошилову официальный выговор за военные неудачи. В послании Ставки ленинградскому командованию он писал, что оборона на подступах к Ленинграду характеризуется ошибками в организации и недостатком твердости, и потребовал принять более решительные меры по обороне города.
На Сталина, вероятно, оказывалось определенное давление с целью доказать ему, что необходимо оставить Ленинград. Предполагается, что этот совет исходил от Маленкова и подкреплялся поступающими жалобами на неспособность Жданова и Ворошилова руководить защитой Ленинграда, а также тем, что оборона города обходится слишком дорого и нужно использовать имеющиеся ресурсы для обороны столицы, которая была в тяжелейшем положении. Однако Жданов настойчиво боролся за жизнь Ленинграда.100
Хотя ответственность за установление немцами блокады города возлагалась на двух политиков - Ворошилова и Жданова, но главным виновником в принципе логично был объявлен маршал Ворошилов. Жданову удалось с помощью прилетевшего маршала Жукова спасти город и одновременно активной обороной отвлечь немецкие войска от Москвы.
Весьма негативно описывает ситуацию в Ленинграде и верхних эшелонах власти осенью 1941 года сын Г.М. Маленкова. А. Маленков, ссылаясь на рассказы отца.
Мнение сына Маленкова конечно же носит субъективный характер, например, очевидно желание унизить Жданова, но оно дает общее представление о характере взаимоотношений в сталинском руководстве.
В последние годы появились публикации, указывающие на покровительство A.A. Жданова в годы войны Михаилу Зощенко и Анне Ахматовой и, в частности, на организацию их эвакуации из Ленинграда в 1941 году. Специалисты-историки утверждают, что война в определенной мере очистила Жданова, внесла какие-то коррективы в его личное душевное состояние, и он стал гораздо осмотрительнее в проведении репрессивной политики.
Через руки исследователей прошли тысячи ждановских документов военной поры, но не обнаружили свидетельств о проведении репрессий в пределах Ленинградского фронта, включая и город, по инициативе его руководителей. В то же время имеется ряд мнений, например высказывания писателей Ю.Карякина и Д.Гранина, делавших акцент на негативной оценке роли А. Жданова в блокадном Ленинграде. Некоторые писатели заявили даже, что вообще Ленинград надо было сдать фашистам и тогда якобы не было бы столько жертв.
Однако, по мнению большинства историков к 1944 году наблюдалось возрастание авторитета A.A. Жданова - как у ленинградцев, так и в партийно-политическом руководстве. Дж. Боффа пишет: «Иностранные гости, прибывшие в Ленинград после ликвидации блокады, отметили, что Жданов, остававшийся во главе городского руководства на протяжении всей осады, пользуется у местных жителей даже большей популярностью, чем Сталин». Осенью 1944 года именно A.A. Жданову И.В. Сталин поручает вести важные дипломатические переговоры с Финляндией, попросившей перемирия. Условия перемирия, подписанного от имени правительства СССР A.A. Ждановым, предусматривали возврат к границе 1940 года и сохранение территориальных приобретений -(939- 1940 гг. Во второй половине 1944 года A.A. Жданов возвращается в Москву и начинает работать секретарем ЦК ВКП(б), вновь занимаясь вопросами идеологии. Некоторое представление о его работе дает подготовленная им в августе 1944 г. записка с замечаниями и проектом Постановления ЦК ВКП(б) «О недостатках и ошибках в научной работе в областях истории СССР». В этом документе Жданов подвергает резкой критике профессоров Б. Сыромятникова, А. Яковлева, Е. Тарле за то, что они находили положительное в политике ряда русских царей. Что же касается Ивана Грозного, которому благоволил сам Сталин, то его деятельность оценивалась положительно - как прогрессивная, способствующая убыстрению «исторического процесса и превращению России в мощную централизованную державу».
Политическая карьера A.A. Жданова после войны вновь стремительно разворачивается. Он начинает теснить Маленкова со вторых по-
1 Л.Й
зиции в окружении Сталина. В 1946 году борьба Жданова и Маленкова временно решается в пользу первого. В апреле 1946 г на основании материалов СМЕРШ были арестованы нарком авиационной промышленности А.И.Шахурин, главком авиации А.А.Новиков, их заместители и др. деятели по обвинению в «протаскивании» на вооружение ВВС заведомо бракованных самолетов. Одновременно на базе этого дела было начато преследование маршала Жукова, который выражал несогласие с отставкой Новикова и, якобы, преувеличивал свои заслуги в годы войны. Попавший в опалу великий маршал был отправлен командовать округом в Одессу. Были расстреляны за антисоветские разговоры генералы В.Н.Гордое, Ф.Т.Рыбальченко, бывший маршал Г.И.Кулик, которым покровительствовал Жуков. Были также арестованы личные друзья Жукова генералы В.К.Телегин, В.В.Крюков и певица Лидия Русланова. Что же касается авиации, то Политбюро приняло специальное решение от 4 мая 1946 г., в котором указывалось, что Маленков «как шеф над авиационной промышленностью и по приемке самолетов - над военно- воздушными силами морально отвечает за те безобразия, которые вскрыты в работе этих ведомств..., что он знал об этих безобразиях, но не сигнализировал о них в ЦК КПСС. 2. Признать необходимым вывести т.Маленкова из Секретариата ЦК КПСС». Только в мае 1953 г. это постановление было отменено, а нарком и главком были реабилитированы.
Таким образом, Г.И. Маленкову была поставлена в вину гибель советских самолетов из-за технических неисправностей в годы войны, хотя за развитие авиационной промышленности он ранее получил звезду Героя Соцтруда. Подробности опалы Маленкова по сей день мало известны. Сам Маленков говорил, что после "дела авиаторов" он был подвергнут допросам Берией и был накануне суда.
Впрочем, по сравнению с осужденными Шахуриным и Новиковым, Жуковскими генералами, это наказание выглядит несерьезным. Возникла версия о высылке Маленкова на работу в Ташкент или на хлебозаготовки в Сибирь. В любом случае он временно утрачивает позиции члена Политбюро и секретаря ВКП(б).
29 декабря 1945 года расстается с должностью наркома внутренних дел Л.П. Берия, но сохранивший как зампред Совета Министров политическое влияние. Вторым секретарем ЦК становится Жданов, который немедленно усиливает партийный Олимп ленинградской командой. Номером первым этой команды был, конечно, Н.А.Вознесенский, назначенный на пост первого заместителя председателя совета министров СССР. Выпускник Коммунистического университета и Института красной профессуры, доктор экономических наук Вознесенский работал в Ленинграде заместителем председателя горсовета. С 1938 г. он уже председатель Госплана СССР, в годы войны как член ГКО отвечал за производство вооружений и боеприпасов. Как автор первого фундаментального научного исследования экономики СССР, в годы войны избирается действительным членом АН СССР. В 1947 г. он избирается членом Политбюро ЦК ВКП(б) и получает право вместе с Маленковым поочередно председательствовать на заседаниях бюро Совмина в отсутствие Сталина.
Сослуживец Жданова по Ленинграду A.A. Кузнецов становится секретарем ЦК ВКП(б), членом Оргбюро ЦК и сменяет Г.М. Маленкова на ключевой должности начальника Управления кадров ЦК ВКП(б). Он отвечал за партийный контроль над административными органами, МВД, МТБ, т.д. A.A. Жданов смещает в аппарате ЦК всех основных сторонников Г.М. Маленкова. Начинается чистка КГБ и МВД, но без участия Л.П.Берии. «Люди Жданова» - ленинградские соратники - занимают и другие ключевые посты: М. Родионов становится председателем Совета Министров РСФСР. На различные руководящие посты выдвигаются ждановцы П.С.Попков, Я.Ф.Капустин, П.Г.Лазутин, М.И.Турко, Н.В.Соловьев, Г.Т.Кедров, М.В.Басов, Т.В.Закржевская, Н.Д.Шумилов, П.Н.Кубаткин. По мнению О.Платонова они представляли так называемую «русскую партию» в руководстве, которая вела свою борьбу против космополитической партии под видом борьбы за чистоту партийных риз и правильный классовый подход в рамках марксистко-ленинской фразеологии.
Представляется, что точка зрения О.Платонова абсолютизирует национальный момент, который, вероятно, хотя и присутствовал в позиции ленинградцев, но не подменял коммунистическое мировоззрение.
A.A. Жданов принимает самое активное участие в работе Оргбюро ЦК ВКП(б). На заседании 5 марта 1947 года по его предложению была создана комиссия по разработке более жестких мер уголовного наказания за кражу частного, государственного и общественного имущества.
Эта мера обусловливалась тем, что голод, охвативший страну в первые послевоенные годы, способствовал росту преступности.
Вскоре начали слабеть позиции В.М. Молотова, возглавлявшего Министерство иностранных дел и соответственно возрастает влияние A.A. Жданова на принятие внешнеполитических решений. В частности, в сентябре 1947 года в Польше проходит совещание некоторых коммунистических партий. A.A. Жданов выступает на совещании с докладом «О международном положении», в котором он утверждал, что мир разделился на два лагеря - «империалистический и антидемократический» с США во главе и «антиимпериалистический и демократический», опорой которого является СССР. Каждый политический субъект должен был решиться на выбор и присоединиться к одному или другому лаге-
149
рю.
Сущностная часть доклада его вошла в текст официальной резолюции, принятой совещанием. Другая часть выступления осталась за кадром так же, как и содержание всей дискуссии. В ходе обмена мнениями на совещании прозвучала резкая критика французских и итальянских коммунистов, которых Жданов резко обвинял в том, что они не выступили против американского нажима. По его мнению, все они слишком уж старались подчеркивать свою независимость от Москвы, вместо того, чтобы открыто декларировать ясную и честную поддержку Советского Союза». Это было важно для раскола империалистического лагеря, обострения внутренних противоречий.
Жданов считал, что в новых международных условиях надо вести политику использования межимпериалистических противоречий в своих интересах и не допустить создания единого фронта Запада против СССР. Всячески сохраняя сложившуюся во время войны антигитлеровскую коалицию - «большой альянс», использовать время для реконструкции экономики. Если же удастся достичь наиболее благоприятного международного положения, то не будет необходимости продолжать ускоренное развитие тяжелой промышленности в ущерб легкой и пищевой. Этот подход не разделял Маленков, который вслед за Сталиным твердил о необходимости традиционного развития тяжелого военно- промышленного комплекса в русле доктрины форсированного развития 1930-х годов. Будучи начальником комитета по демонтажу немецкой промышленности Маленков стремился обеспечить вывоз немецкого промышленного оборудования в счет нанесенного стране ущерба. Жданов и Вознесенский не видели в этом необходимости и считали лучшим вариантом производить в самой Германии продукцию для СССР, что и было закреплено решением Политбюро.
Когда в 1946 году по инициативе Сталина началась кампания борьбы с космополитизмом, Жданов выступает с осуждением «безродных космополитов». Признание глубинных, многовековых национальных корней русского самосознания сопровождалось репрессивными гонениями творческой интеллигенции, которая традиционно мечтала о свободе выражения творчества, свободе слова, ликвидации ограничений со стороны государства. Следует отметить, что до смерти А. Жданова «борьба с космополитизмом» в целом не имела ярко выраженного антисемитского характера, так как за «низкопоклонство перед Западом» осуждались представители всех национальностей. Утверждение Ленинградским горкомом крамольного писателя Михаила Зощенко в редколлегию «Звезды» в мае 1946 года стало для «маленковцев» прекрасным поводом обрушиться на ждановские кадры. Выяснив намерения конкурентов накануне заседания Оргбюро ЦК 9 сентября 1946 года, Жданов предпринял ряд превентивных мер, чтобы отвести основной удар от себя и от ленинградской парторганизации. В его докладах и речах подверглись разоблачительной критике беспартийные интеллигенты как мещане, «пошляки», «литературные хулиганы», космополиты. В то же время подвергшиеся публичному поношению Михаил Зощенко, Анна Ахматова не только не были арестованы, но получили вновь продуктовые карточки.
В развитие идеологических установок ЦК при участии Жданова принял ряд постановлений, закрепивших процесс «разоблачения и полного преодоления проявлений космополитизма и низкопоклонства перед реакционной культурой буржуазного Запада». В документе под названием «О журналах «Звезда» и «Ленинград» указывалось, что редакция должна принять меры по выправлению линии журнала, прекратив доступ произведений Зощенко, Ахматовой и «им подобных». Также были приняты близкие по духу постановления «О репертуаре драматических театров и мерах по их улучшению», «О кинофильме «Большая жизнь», «Об опере «Великая дружба» В.Мурадели», которые стали сигналом для гонений на видных представителей творческой интеллигенции, таких как Э.Г.Казакевич, Ю.П.Герман С.С.Прокофьев, А.И.Хачатурян, Д.Д.Шостакович, С.М.Эйзенштейн, В.И.Пудовкин и др. Причем в постановлении «Об опере «Великая дружба» В.Мурадели» был помещен грубый выпад против ряда кавказских народов. В частности, говорилось, что «из оперы создается впечатление, будто такие народы, как грузины и осетины находились в ту эпоху во вражде с русским народом, что является исторически фальшивым, так как помехой для установления дружбы народов в тот период на Северном Кавказе являлись ингуши и чеченцы». Однако справедливости ради следует отметить, что этот пассаж, судя по стилю и другим признакам, принадлежит лично Сталину, а не Жданову.
Летом 1947 г. в парторганизации страны было разослано подготовленное Ждановым письмо ЦК «О деле профессоров Клюевой и Рос- кина». Эти ученые обвинялись в антипатриотическом поступке - в представлении своих статей по проблемам лечения рака для публикации в США. В письме ставилась задача усиления борьбы против низкопоклонства и раболепия перед иностранщиной и современной реакционной культурой буржуазного Запада». Предлагалось по всей стране создавать так называемые "суды чести" по известным дореволюционным образцам, которые должны были устанавливать вину ученых и инженеров в таких случаях. В ряде министерств и ведомств такие суды были созданы, однако широкого распространения они не получили, поскольку сталинизм создал более эффективные формы контроля за гражданским общего
ством.
Эти постановления и роль Жданова в их принятии на современном этапе оцениваются в литературе сугубо негативно. Действительно партийные документы отвечали требованиям саморазвития политического тоталитарного режима. В тоже время нельзя считать, что критикуемые деятели литературы, драматургии, кино и музыки являлись носителями абсолютной истины и высшей правды. Например, рассказ Зощенко «Приключения обезьяны» вряд ли явился лучшим в его творчестве. A.A. Жданов как коммунистический политик конкретно указал, что в данном произведении какая-то обезьяна наделяется «ролью высшего судьи наших общественных порядков и заставляет читать нечто вроде морали советским людям. Обезьяна представлена как некое разумное начало, которой дано устанавливать оценки поведения людей. Изображение жизни советских людей, нарочито уродливое, карикатурное и пошлое понадобилось Зощенко для того, чтобы вложить в уста обезьяны гаденькую, отравленную антисоветскую сентенцию насчет того, что в зоопарке жить лучше, чем на воле и что в клетке легче дышится, чем среди советских людей». Чтобы правильно понять пафос речи Жданова надо вспомнить конкретно-историческую ситуацию в стране после окончания Великой Отечественной войны, когда требовалось мобилизовывать массы людей на восстановление разрушенной экономики, причем делать это в основном за счет идеологических факторов, так как материальное стимулирование было невозможным. В таком контексте публикация и распространение подобных произведений значительно расходилось с задачами правящей партии и объективно всей страны.
Кроме того, надо иметь в виду, что идеологическая кампания этих лет была направлена в известной степени против самого Жданова, который нес определенную политическую ответственность за ленинградскую интеллигенцию, в частности политику литературных журналов, за деятельность Зощенко и Ахматовой.
Сам Жданов проявлял себя не только и не сколько как гонитель и цербер. Благодаря поддержке Жданова стал выходить журнал "Вопросы философии", которому он стал покровительствовать. Философский интеллектуализм Жданова сказался в том, что первые номера "Вопросов философии" отличались нетривиальностью и стремлением противопоставить науку идеологическим штампам. Речь Жданова в ходе обсуждения известной книги Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии» произвела по общему мнению сильное впечатление на фоне по преимуществу догматических выступлений ее участников, так как она выгодно отличалась имманентностью хода рассуждения и наличием крупномасштабных обобщений. По мнению Р.Пихоя, команда Жданова- Кузнецова-Вознесенского добилась в целом позитивных результатов в проведении экономической политики, в частности проведение денежной реформы и отмены карточной системы, усиление товарно-денежных отношений.
Относительно смерти A.A. Жданова в 1948 году широко распространено мнение, что ее нельзя рассматривать вне контекста политической борьбы за партийное лидерство в 1947-1948 гг. Сталин начал еда- вать, болел, старел - в 1949 году ему уже исполнялось 70 лет, и как следствие в партийном руководстве негласно задумывались над вопросом о его преемнике. Жданов стал заботиться об усилении своей опоры в партии и государстве в лице Ленинградской партийной организации. Н.С. Хрущев вспоминал, как Жданов высказывал ему свои соображения по поводу приниженной роли Российской Федерации и необходимости создания какого-то органа типа бюро ЦК по РСФСР с возможным центром в Ленинграде для конкретной руководящей работы в республике. Жданов постоянно стремился подчеркнуть подвиг Ленинграда в годы войны. По инициативе Жданова между Ленинградом и Югославией были налажены довольно тесные связи. Милован Джилас писал, что югославы были потрясены стойкостью, с которой ленинградцы перенесли блокаду. Особая роль Ленинграда в войне осознавалась не только горожанами, но и всей страной. Естественно было предположить, что возрожденный Ленинград, овеянный военной славой, мог стать сильным противовесом официальной столице. Вопреки Жданову власти стали мешать пропаганде подвига ленинградцев, вплоть до закрытия музея блокады, прекращения публикации блокадных материалов и т.д. Политической деятельности Жданова мешало его неважное состояние здоровья. Он часто плохо чувствовал себя, иногда падал в обморок на заседаниях политбюро. То ли по этой причине, а скорее всего по другой, Сталин решил, видимо, дать отставку Жданову. Однако репрессировать его было нельзя, так как с его именем были связаны важные идеологические, можно сказать - опорные для режима постановления ЦК.
Перед своим отъездом на отдых Жданов вновь позвонил Хрущеву в Киев: «Вы были в Москве, но я с вами не успел поговорить. У меня имеется важный вопрос. Теперь я уезжаю, поговорим тогда, когда вернусь с Валдая». Но в скором времени Хрущев получил известие о том, что Жданов умер и то, о чем он хотел поговорить, осталось для него по его мемуарам, якобы загадкой. Только когда обвинили «группу Кузнецова» в Ленинграде в «русском национализме» и в противопоставлении себя общесоюзному ЦК, то Хрущев вдруг вспомнил об этом разговоре.
Сейчас известно, что именно Берия при участии Маленкова (по сведениям Р.Пихоя Маленков вовсе не был в легендарной ссылке в Ташкенте, а всего лишь отсутствовал в Москве с мая по октябрь 1946 г.) провел эту интригу, направленную на политическую компрометацию сначала Жданова, а затем Вознесенского. Жданов и его ближайшее окружение считали Маленкова непосредственным выдвиженцем Берии, а Маленков убеждал стареющего Сталина в «сепаратизме» Ленинградской парторганизации. Маленков решил лично заняться Ленинградской партийной организацией, а Берия руководил репрессиями в Москве.101
Сын Жданова, Юрий Андреевич, занимавший пост заведующего отделом науки ЦК ВКП(б), предпринял неудачную атаку на шарлатана от науки - «народного академика» и «творца яровизации» Т.Д. Лысенко. Сталин не просто защитил «создателя развесистой пшеницы», но заставил своего будущего зятя Ю.А. Жданова публично покаяться в содеянном, что означало фактически его политическую смерть. Сталин на заседании Политбюро 31 мая 1948 г. по присуждению Сталинских премий разнес Юрия Жданова в присутствии различных чиновников и лично Андрея Жданова. Так одновременно с унижением сына Жданова был больно задет и сам Андрей Александрович.
Хотя нельзя не отметить, что эта антиждановская тенденция была в развитии. Во всяком случае уже после смерти Андрея Жданова произошла свадьба Юрия Жданова и дочери Сталина Светланы Алилуевой. Сталин не только не возражал, но выражал желание, чтобы семьи породнились и даже предлагал, чтобы молодожены переехали к нему на дачу в Кунцево. Сама Светлана Алилуева писала, что брак случился без особой любви, а по здравому размышлению. В своих мемуарных записках «Двадцать писем другу» Алилуева писала «сам Юрий Андреевич, питомец университета, бывший любимцем молодежи страдал от своей работы в ЦК - он не знал, куда попал... Дома он бывал мало, приходил поздно (тогда было принято приходить с работы в одиннадцать часов ночи). У него были свои заботы и дела, и при врожденной сухости натуры он вообще не обращал внимания на мое состояние духа и печали.» Будучи занят партийно-научными делами, Юрий Жданов семьей занимался мало, что, наверное, и привело к разводу спустя 4 года. Впрочем и сама Светлана Алилуева с ее, как она писала, «вольным воспитанием» не очень стремилась сохранить семью. После смерти своего отца она покинула родину, скиталась и сочинила сомнительные с нравственной точки зрения мемуары.
Во всяком случае Трофим Лысенко вопреки стараниям Юрия Жданова все-таки получил возможность для проведения печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ, на которой было разгромлено генетическое направление в биологии в свете концепции классовой борьбы в науке.
Летом того же года вернувшийся в Москву и восстановивший политические позиции Маленков фактически отобрал у него пост второго секретаря ЦК. Это был сильный политический удар, от которого Жданов уже не смог оправиться. 13 июля он уехал в санаторий «Валдай», а 24-го состоялся его телефонный разговор на повышенных тонах с зав. агитпропом Шепиловым, который привел Жданова к сердечному приступу. Началось странное лечение Жданова, которое было по меньшей мере халтурным. Когда заведующая кабинетом электрокардиографии Лидия Тимашук констатировала реально имевшийся инфаркт миокарда, официальные врачи настояли, чтобы она переписала свое заключение в соответствии с ранее показанным диагнозом «Функциональное расстройство на почве склероза и гипертонической болезни». В журнале «Источник» опубликованы документы, подтверждающие этот факт. Электрокардиограмма, свидетельствующая о наличии у A.A. Жданова инфаркта миокарда, была прямо проигнорирована руководством лечебно- санитарного управления Кремля профессором П.И. Егоровым и главврачом В.Я. Брайниным. Больному было разрешено «вставать с постели, постепенно усиливая физические движения», что записано в истории болезни. A.A. Жданов послушался этих рекомендаций и у него повторился острый приступ сердечной недостаточности приведший его к преждевременной смерти. Через семь дней после смерти повесилась его экономка. Лечащий врач, который делал вскрытие вместе с профессором Виноградовым, был репрессирован. В 1951 г. застрелился комендант госдачи, на которой умер Жданов, причем в черепе самоубийцы было обнаружено два пулевых отверстия. Возможно это были совпадения, а возможно, и нет. Имя Жданова было присвоено городу Мариуполь и Лениградскому университету, однако не была написана его биография, не были изданы сборники его речей и статей и т.д., что уже тогда вызывало удивление.
Как бы то ни было, нет сомнения в том, что одной из причин гибели Жданова стала большая политика. Независимо От того, каковы были конкретные причины кончины Жданова, очевидны следствия - она, во- первых, устранила одного из главных претендентов на роль преемника вождя и, во-вторых, стала началом физического истребления ленинградской команды Жданова.102
После смерти Жданова началось прямое противостояние созданной им группы партийных технократов Вознесенского-Кузнецова и Маленкова-Берии. По мнению исследователей, противоборство было в немалой степени простимулировано заявлением Сталина о том, что в качестве своих преемников он хотел бы видеть Кузнецова по партийной и Вознесенского по государственной линии.
Опасаясь возвышения своих соперников, Маленков и Берия организуют так называемое «Ленинградское дело», в ходе которого было объявлено, что группа Кузнецова-Вознесенского пыталась превратить Ленинградскую парторганизацию в опору своей фракционной группы по образцу «новой оппозиции» Зиновьева в 1925 г.
Кузнецова и других его товарищей арестовали прямо в кабинете у Маленкова и посадили в особую тюрьму, которая принадлежала не МВД, а комиссии партийного контроля, которую создали по указанию Сталина.
В результате арестов удалось выбить показания у второго секретаря горкома Я.Ф.Капустина о том, что он был английским шпионом, бывший председатель Ленинградского облисполкома Н.В.Соловьев стал «махровым шовинистом». Председатель комиссии партийного контроля М.Ф.Шкирятов обвинил Вознесенского в утрате документов Госплана. Допросы велись в присутствии Булганина, Берия и Маленкова. Расследование происходило со средневековой жестокостью, причем арестовывались жены и дети репрессированных. Этапируются в Сибирь все близкие к ним партийные и хозяйственные работники. Из видных ленинградцев почему-то уцелел только А.Н.Косыгин, родственник Кузнецова.
Кроме избиения партийных кадров начались репрессии по национальному признаку. 3 февраля 1948 г. секретариат ЦК под председательством Маленкова распустил объединения еврейских писателей и закрыл альманахи на еврейском языке. По приказу Сталина был убит в Минске выдающийся актер С.М.Михоэлс, а в конце 1948 г был распущен «Еврейский антифашистский комитет», который обвинялся в связях с сионизмом и шпионаже. Маленков лично принял участие в допросе члена ЦК ВКП(б) С.А.Лозовского, обвинявшегося в стремлении создать в
Крыму еврейскую социалистическую республику. Последовала серия ряда уголовных дел антисемитского характера. Сталин стал испытывать сильное недоверие к членам Политбюро женатым на еврейках - Ворошилову и Молотову.
Маленков принял участие в раскручивании пресловутого «дела врачей» на основе письма Тимащук о непонятном лечении Жданова.'53 В момент смерти Жданова это письмо оказалось никому не нужным, но теперь, спустя 4 года, его решили использовать в иных целях. 20 января 1953 г. Маленков пригласил к себе Тимашук и поблагодарил ее от имени Сталина и правительства за бдительность, а на следующий день газеты опубликовали указ о ее награждении орденом Ленина. Были немедленно арестованы все, кто лечил Жданова, а также умершего в 1945 году секретаря ЦК А.С.Щербакова, ряд других врачей. Поскольку большинство из них оказались евреями, дело приобрело антисемитский характер. МТБ утверждало, что террористическая группа врачей-вредителей действовала по указаниям Кузнецова, который якобы стремился уничтожить Жданова. Кроме того, подобное обвинение было выдвинуто против начальника охраны Сталина генерала Власика и бывшего министра МТБ Абакумова.
Маленков руководил расследованием дела МТБ, согласно которому его начальник генерал-полковник В.С.Абакумов занимался вредительством и саботажем. Этот генерал если и был в чем виноват, так это в выполнении преступных приказов организаторов репрессий и в моральном разложении. Все расследуемые дела были привязаны к делу «Еврейского антифашистского комитета». Начались аресты не только врачей и ученых, но и чекистов еврейского происхождения - организатора убийства Троцкого - Н.И.Эйтингона, сына Я.М.Сведлова - А.Я.Свердлова, Е.Анцеловича, Л.Л.Щварцмана и др.
В качестве второго человека в партии-государстве Маленков не только контролировал партаппарат, но более того стал руководителем «партгосбезопасности» - нового изобретения Сталина с целью ослабления своей зависимости от МТБ. Этот орган вместе с комиссией парткон- троля М.Шкирятова занимался специальными следственными действиями в отношении партийных руководителей и госбезопасности и имел собственную партийную тюрьму на 30-40 человек со своим штатом. Впрочем для допросов высокопоставленных заключенных возили в здание ЦК в кабинет самого Маленкова.
Наряду с следственными делами Маленков также отвечал за развитие сельского хозяйства. Хотя успехов в сталинском преобразовании природы он не добился, но он тем не менее все более укреплял свои по-
154
зиции.
Проявляя крайнюю осторожность, скрывая эмоции, контролируя каждый свой шаг и ни чем не выдавая своих планов и амбиций, Маленков сумел получить право подписи Сталина. Именно ему как своему преемнику в 1952 году Сталин поручил подготовку и чтение отчетного доклада на XIX съезде ВКП(б), состоявшемся в октябре 1952 г. В этом докладе Маленков дал завышенные оценки развития страны и даже демагогически заявил, что в СССР окончательно и бесповоротно решена зерновая проблема. СССР действительно достиг значительных успехов в послевоенном восстановлении народного хозяйства, но до полного решения экономических проблем было очень далеко. Маленков вошел в состав руководящей «пятерки» нового Президиума и его Бюро ЦК ВКП(б) вместе с Берия, Хрущевым, Булганиным и самим Сталиным.
5 марта 1953 г. при загадочных обстоятельствах умер диктатор СССР И.В.Сталин. Загадочность заключается в том, что генералиссимусу-вождю, перед которым трепетала Европа, не была оказана своевременная элементарная медицинская помощь, что логично наводит на мысль о злой воле каких-то сил. Существует ряд версий на этот счет. Илья Эренбург рассказывал, что удар постиг Сталина 1 марта 1953 года на заседании Политбюро, когда Каганович потребовал расследования «дела врачей» и отмены распоряжения о депортации евреев в отдаленную зону СССР. Позднее советский посол в Голландии П.К.Пономаренко повторил эту версию, дополнив подробностями о гнусном поведении Берия. Хрущев рассказывал, что удар хватил Сталина на Кунцевской даче, куда затем были вызваны Хрущев, Маленков, Берия и Молотов (или Булганин по др. сведениям) Сталин был еще жив, но врача привели только через пять часов, якобы из-за гололедицы. По версии старых большевиков Сталин собирался уничтожить весь старый состав руководства партии и привести новых людей и даже зафиксировал это намерение в специальном документе - обвинительном заключении. Когда Хрущев, Берия, Булганин, Маленков узнали об этом, они разработали план «Моцарт». Согласно первому варианту Сталина следовало отравить, а по второму варианту - взорвать Кунцевскую дачу. Но Берии удалось без проблем осуществить первый вариант. Существует относительно аргументированная версия известного антисоветчика- коллаборациониста А.Авторханова, изложенная в книге «Загадка смерти Сталина». Он все сводит к прямой или как минимум косвенной причастности к смерти Сталина кремлевской четверки: прежде всего Берии, а также Хрущева, Маленкова и Булганина. Современные отечественные историки, например А.Наумов, считают, что Сталин убил себя сам, создав такую атмосферу страха, что его собственные сподвижники, помощники и охранники не смогли помочь ему в смертный час. Однако считается документально установленным, что Сталин в ночь смерти не раздевался и не снимал зубных протезов. Ему не было оказано своевременной медицинской помощи, хотя на губах умирающего, по свидетельству профессора А.Л.Мясникова, были следы кровавой рвоты.
В политическом плане все версии сходятся в следующем: 1 .Смерть Сталина была объективно выгодна всему старому составу Политбюро, обоснованно опасавшемуся за свою карьеру и саму жизнь. 2. Практически вызов врачей зависел от Берии, которого Сталин собирался устранить в ходе расследования «мингрельского дела». Не подлежит сомнению тот факт, что Берия был морально готов и материально способен ускорить смерть Сталина, обладая необходимыми кадровыми и материальными возможностями.З. «Аппаратный гений» и «министр партийной безопасности» Маленков, как и честолюбивый секретарь ЦК Хрущев, были в курсе всех событий, разговоров, знали ситуацию. Маленков был причастен к репрессиям Власика и других охранников Сталина, уверенно вел переговоры о переходе власти в новые руки еще до получения официального известия о состоявшейся смерти Сталина.
Как бы то ни было, после смерти Сталина Георгий Маленков по предложению именно Берии занял пост Председателя Совета Министров СССР, который ранее занимал Сталин. Берия брал МТБ и МВД в свое распоряжение и становился его первым заместителем. Хрущев получал под свой контроль ЦК, Булганин - вооруженные силы. На второй день после похорон Сталина Маленков заявил о необходимости обязательно прекратить практику культа личности. Следующим шагом для закрепления политического лидерства должно было бы, по идее, стать избрание его генеральным секретарем ЦК коммунистической партии, однако Маленков принял ошибочное решение сосредоточиться подобно Сталину на правительственной деятельности. 14 марта Маленков решает отказаться от руководства секретариатом, хотя не исключено, что он был вынужден это сделать под давлением Хрущева. На наш взгляд, он вполне сознательно вместе с Берия последовательно проводил линию на перераспределение властных полномочий от партии к государственному аппарату. Это был типично технократический просчет деятеля сталинской эпохи, который давно внутренне отказался от идеологических основ Советской коммунистической государственности. Прагматик, аппаратчик и администратор Маленков, всю жизнь просидевший на телефоне, явно недооценивал роль и значение в коммунистическом государстве коммунистической идеологии и ее главного носителя - КПСС, бывшей стержнем Советского союзного государства. Именно благодаря этой идеологии удавалось возбуждать в широких массах трудящихся тот знаменитый, не утопический, а вполне реальный коммунистический энтузиазм, помогший построить, а затем восстановить индустрию, поднять целину, осваивать Сибирь... Именно от партийных профессиональных кадров, а не чиновников в исполкомах советов зависел в конечном счете успех политического лидера в СССР. Поэтому вопреки Маленкову и Берия, естественно, стал набирать процесс возвращения партийным комитетам властных полномочий. Иногда в научных работах звучит сожаление о том, что не удалось своевременно ограничить властные полномочия партии и превратить ее в политический организм, отвечающий только за идеологию. Представляется, что такие авторы переносят концептуальные подходы современной России в совершенно другие условия, которые диктовали свои требования.
В это время активно выдвинулся на первый план Лаврентий Берия, который провел реабилитацию обвиненных по последним политическим процессам и предложил амнистировать 1000000 человек. Он провел в жизнь ряд мер по отмене репрессивных указов, по частичной ликвидации ГУЛАГа, прекратил строительство народно-хозяйственных объектов, требовавших слишком много труда заключенных, типа Главного туркменского канала, самотечного канала Волга-Урал, Волго- Балтийского водного пути, железных дорог на Крайнем Севере. Авторитет Берия в народе стал расти и грозил «обогнать» известность Маленкова.
Близкий сподвижник Маленкова Лаврентий Берия родился в мегрельском селе в 1899 г.; в годы гражданской войны он сотрудничал с антибольшевистскими спецслужбами, хотя возможно по заданию самих большевиков. Во всяком случае, этот сюжет особым секретом не был. В 1920-х годах он работал в ВЧК, в 1931-1938 гг. работал секретарем Закавказского крайкома ВКП(б) и компартии Грузии, проявив себя как один из самых безнравственных руководителей и организаторов террора в Грузии. Он выпускает к шестидесятилетию Сталина книгу под своим именем, но написанную репрессированными идеологами - монографию «К истории большевистских организаций Закавказья». С 1938 г. возглавил НКВД и с санкции Сталина ограничил масштаб массовых репрессий, возложив всю ответственность на Ежова. Но при этом он продолжил репрессивную политику. В частности, Берия был прямо причастен к расстрелу польских офицеров в Катыни. Во время войны он руководил МВД и МТБ, обеспечивал насильственное выселение политически неспокойных народов -чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков, крымских татар в Сибирь и Среднюю Азию, входил в ГКО и отвечал за деятельность ряда важнейших наркоматов, в том числе за атомный шпионаж и создание атомной бомбы. Он становится заместителем председателя ГКО и председателем Оперативного бюро ГКО. В 1943 г. он удостаивается звания Героя Социалистического Труда за особые заслуги в области усиления производства вооружения и боеприпасов, а в июле 1945 г. ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1949 г. за организацию производства атомного оружия он был награжден орденом Ленина, и ему было присвоено звание лауреата Сталинской премии. Он профессионально разбирался в искусстве разведки и контрразведки и квалифицированно руководил соответствующими государственными органами, лично контролировал ход крупных чекистских операций, наконец, занимался функционированием гигантской лагерной экономики ГУЛАГа, обеспечивавшей строительство в Сибири, добычу золота и других полезных ископаемых т.д. Энергичный, хитрый, жестокий, коварный, циничный, безнравственный человек он оказался великолепным организатором и незаурядным политиком, хотя конечно нельзя забывать, что в основе его управленческого искусства находилась перманентная угроза превращения подчиненных исполнителей «в лагерную пыль». После войны положение Берии пошатнулось, он был освобожден от поста министра МВД. Будучи умным и чрезвычайно информированным человеком Берия был в курсе реального состояния страны и экономики и, вероятно, первым осознал необходимость относительно радикальных реформ. Он буквально завалил Президиум ЦК своими записками с планами серьезных преобразований, предварительно согласовав их с Маленковым. Однако он понимал, что поскольку в общественном сознании он связан напрямую с массовыми репрессиями, то он может остаться в высшем эшелоне власти только как проводник последовательной десталинизации общества. Берия не доверял никому и пытался использовать все свои связи для укрепления личных позиций. Он начал собирать компромат на всех членов правящего ареопага, в том числе на своего «друга» Маленкова, которого называл в своих записках «Маланьей» за женоподобную внешность (Хрущева -«Хрущем», Моло- това - «деревянной задницей», Ворошилова - «индюком», Булганина — «протодьяконом» и т.д.)
Обоснованно опасаясь своего союзника как абсолютно беспринципного и «деидеологизированного» деятеля, возглавившего под одной крышей МВД и МТБ, Маленков стал искать возможность избавиться от его контроля. Но он не понимал, что Хрущев обязательно со временем избавится от него самого, как от сподвижника Берии. Заговору помогла командировка Берии в Берлин, где он железной рукой пресек волнения и остановил кризис. Именно в этот период Маленков заключил кратковременный союз с Н.С.Хрущевым, но по его инициативе. С помощью маршала Г.К.Жукова и генерала К.С.Москаленко они арестовали на заседании Политбюро маршала Берию по подозрению в подготовке "дворцового переворота". Как теперь известно, никакого переворота на тот момент Берия не готовил, но он действительно вел подготовительную работу по ротации политической элиты, переоценил свои силы и недооценил своих конкурентов, которым страх придал дополнительную решительность.
В реальной действительности Берия не претендовал на первую роль (одного грузина во главе России было более чем достаточно) и нуждался в прикрытии - «русскоязычном» лидере - Маленкове или в ком- то другом. То есть, если бы Маленков просто хотел власти и спокойствия, то он мог вполне продолжить сотрудничество с Берия, при условии полного подчинения ему. Но Маленков при всех своих недостатках был настоящим политическим деятелем России, который имел свои представления о развитии страны, о необходимости демократизации общества, ограничения роли карательно-репрессивных органов, наконец, просто личные лидерские амбиции. Он не хотел быть связанным с такой одиозной в глазах общественности личностью, как Л.П.Берия. Это и заставило его изменить конфигурацию власти, в которой он все-таки рассчитывал остаться на своем первом месте. Как бы-то ни было на июльском пленуме ЦК КПСС 1953 г. ЦК по докладу Маленкова одобрил все радикальные меры в отношении Берия. Первоначально Маленков предполагал даже сохранить Берия в руководстве на посту министра нефтяной промышленности, в чем с ним солидаризировались Микоян и Ворошилов, но под нажимом Хрущева и Молотова согласился на полное его устранение. (Молотов считал Берия типичным «правым оппортунистом»). В своем докладе Маленков заявил: «После смерти т. Сталина Берия распоясался и вовсю развернул, с позволения сказать, деятельность, направленную на разобщение руководящего коллектива, на подавление принципов коллективности в работе, действуя так, чтобы руководящие товарищи работали с оглядкой друг на друга... Президиум ЦК единодушно признал необходимым действовать быстро и решительно, учитывая, что имеет дело с авантюристом, в руках которого большие возможности, с тем чтобы раз и навсегда покончить с язвой и гнилью, отравляющей здоровую атмосферу сплоченного и монолитного ленинско- сталинского коллектива. Президиум пришел к выводу, что с таким авантюристом нельзя останавливаться на полпути, а арестовать Берия как врага партии и народа». Все эти оценки были поддержаны участниками пленума без колебаний. Восторгов стало меньше, когда в выступлении Хрущева прозвучала робкая критика самого Сталина. Ворошилов, Андреев, Тевосян, Микоян попытались осудить Берия за подрыв авторитета Сталина и извращение сталинского учения. Маленков в своем заключительном слове был вынужден вернуться к вопросу о культе Сталина и высказался в том духе, что, во-первых, уродливый культ Сталина не только был, но принял «болезненные формы» и размеры, в результате чего был нанесен существенный ущерб делу руководства партией и страной. Во-вторых, враг народа Берия не был разоблачен своевременно, потому что «слыл приближенным к Сталину человеком». В-третьих, никто конкретно не вправе претендовать на роль преемника великого Сталина, ибо им может быть только «монолитный коллектив руководителей партии». В 6 пункте принятого пленумом постановления «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия» говорилось, что Берия раскалывал руководящее ядро партии, развертывал свои махинации по захвату власти, восстанавливал МВД против партии, тормозил решение народно-хозяйственных проблем, активизировал буржуазно-националистические элементы, взял курс на превращение ГДР в буржуазное государство и объединение ее с ФРГ, высказывал антиколхозные идеи, налаживал личную связь с лидером Югославии Иосипом Броз Тито и в целом стал «буржуазным перерожденцем».
Судебное присутствие Верховного суда СССР под председательством маршала И.Конева рассмотрело в декабре 1953 г. дело Берия. Специальная закрытая радиотрансляция хода суда шла прямо в кабинет Маленкова, Хрущева и других руководителей. В дополнение к партийным обвинениям были предъявлены обвинения в связи с вражескими разведками, в совершении террористических расправ над деятелями партии и государства, в фактах морального разложения. Берия и ряд его сообщников были приговорены к расстрелу с конфискацией имущества и лишением званий и наград. Приговор был, конечно, справедлив, не случайно спустя 45 лет Верховный Суд Российской Федерации отказался его пересматривать. Однако следует иметь в виду, что Берия отличался от других высших деятелей государства главным образом тем, что лично принимал участие в пытках и расстрелах, во всем же остальном он был весьма похож на них. Все члены сталинского окружения, включая Н.С.Хрущева, несут моральную и политическую ответственность за массовые репрессии и любого из них можно было бы в принципе осудить. Но осудили одного Лаврентия Берия как английского шпиона и сексуального маньяка.
Хотя Маленков много сделал для разоблачения Берия, это дело ударило сильным рикошетом и по нему лично. Когда начался процесс реабилитации жертв сталинских репрессий, в частности погибших в ходе постждановского «ленинградского дела» и «дела врачей», сфабрикованных при его участии, выяснилась его личная прямая причастность к этим репрессиям. Это был не парадокс, а определенная закономерность, ибо участие в репрессиях членов сталинского окружения было условием выживаемости и обязательной «нравственной» нормой личности.
Тем не менее это способствовало падению престижа Маленкова в народе и в среде партийной элиты. Моральный груз ответственности за совершенные проступки на грани преступлений давил на совесть, сковывал инициативу, сдерживал энергию, заставлял оглядываться...
Маленков в качестве главы государства проводил политику постепенного эволюционистского реформирования советской системы и более чем умеренной критики культа Сталина. Но следует особо подчеркнуть, что именно он первый официально поставил задачу критику культа личности Сталина и восстановления коллективности руководства. Первоначально Маленков даже предлагал созвать в апреле 1953 г. специальный пленум ЦК КПСС, чтобы осудить культ личности Сталина и написал проект своей речи для него. Но рассудив, он принял решение не форсировать темпы опасного для режима власти разоблачения. На июльском пленуме он и другие деятели партии обвиняли именно Берию в беззакониях, прямо обеляя личность Сталина. В ноябре 1953 г. он впервые выступил против коррупции и морально-бытового разложения партийно-государственной элиты. В области экономики Маленков предпринял попытку разработать реформы управления. В частности на V сессии Верховного Совета СССР он предложил новый подход, заключающийся в социальной переориентации экономики. В частности, имелось в виду перераспределение капиталовложений, направляемых в тяжелую промышленность, в пользу легкой и пищевой отраслей экономики, политика снижения цен на товары народного потребления. В области сельского хозяйства Маленков предложил аннулировать долги колхозов, снизить налоги с крестьянства и укрепить личные подсобные хозяйства, в пять раз увеличить приусадебные участки крестьян. В социальной сфере предлагалось поднять размер пенсий и снизить цены в торговле. А в области культуры начались плюралистические явления, например, выставка импрессионистов. Кроме того, Маленков впервые попытался развернуть борьбу с алкоголизмом. Все эти реформы не затрагивали сущность политической системы, которая тем не менее тоже частично видоизменялась. Кроме того нельзя не отметить тот факт, что подобные меры предлагались в недавнем прошлом ленинградской командой Жданова - Вознесенского-Кузнецова и были отвергнуты благодаря Маленкову.
Говоря об общей программе реформ Маленкова следует отметить ее предельно прагматический и реальный характер. Именно такие темпы не устраивали часть политической элиты, возглавляемой Хрущевым, который с ноября 1954 г. полностью контролировал партийные структуры. По его мнению, курс Маленкова был отрыжкой «правого уклона» Бухарина и Рыкова и заслуживал исключительно осуждения. Бросается в глаза, что аргументация Хрущева весьма напоминает доводы в прошлом Маленкова относительно ждановцев. Как отметил А.В.Пыжиков, спустя некоторое время сам Хрущев опять будет использовать эти же идеи социальной переориентации милитаризированной экономики, которые объективно отвечали интересам населения страны. К сожалению, внут- риэлитные разборки помешали последовательному воплощению этого прогрессивного курса, ставшего своеобразным заложником амбиций лидеров.
В январе 1955 г. пленум ЦК принял решение освободить Маленкова от обязанностей главы правительства и назначить на пост министра электростанций СССР. На пленуме Хрущев объявил речь Маленкова дешевкой, рассчитанной на получение политической популярности. Деятельность Маленкова была представлена как образец бюрократического стиля работы. Интересно отметить, что Молотов и Каганович поддержали это решение, обвинив Маленкова в оппортунизме. Особое возмущение вызвала идея Маленкова о. невозможности третьей мировой войны, которая может привести к гибели мировой цивилизации, так как она мешает классовой борьбе с империализмом. Кроме того, впервые официально прозвучали обвинения в причастности Маленкова к бериев- ским репрессиям.
В постановлении пленума «О т. Маленкове» говорилось, что «т. Маленков не проявил себя также достаточно политически зрелым и твердым большевистским руководителем. В этом отношении характерна речь т.Маленкова на V сессии Верховного Совета СССР. По своей направленности эта речь с большими, экономически мало обоснованными обещаниями напоминала скорее парламентскую декларацию, рассчитанную на снискание дешевой популярности, чем ответственное выступление главы советского правительства.... В течение длительного времени т. Маленков поддерживал близкие отношение с Берия... находился по многим вопросам под полным влиянием Берия, а иногда являлся безвольным оружием в его руках. Тов. Маленков несет моральную ответственность за позорное «Ленинградское дело», созданное Берия и Абакумовым, оклеветавшими перед Сталиным ряд руководящих работников, а также сфабрикованным Берия и Абакумовым «делом» маршала артиллерии Яковлева и других военных работников... Политическая бесхребетность т. Маленкова и его зависимость от Берия представляли особую опасность в период кончины т. Сталина. Вместо того, чтобы действовать в полном контакте с другими руководящими деятелями и правительством, Г. Маленков обособился от Берия...»
Ход обсуждения проблем и принятые решения свидетельствовали, насколько был силен дух сталинизма в руководстве партии, в том числе в деятельности самого Хрущева. На пост руководителя правительства был назначен бесцветный, вялый и нерешительный интриган Н.А.Булганин.
Не имея в своем распоряжении органов госбезопасности, Маленков не мог предпринять радикальных действий против Хрущева и подчинился партийной дисциплине, потому что, в отличие от Хрущева, Маленков никогда не был на самостоятельной работе и не руководил ни районом, ни городом или областью. Он всю свою политическую жизнь руководил аппаратом и обслуживал Сталина. Отсюда его политическая безвольность, боязнь риска и другие антилидерские качества.
Он не пытался возражать, когда Хрущев предложил осудить на XX съезде культ Сталина. Хрущев смело пошел на посмертную расправу над Сталиным, так как, во-первых, к этому времени уже были уничтожены документы о его личной причастности к репрессиям в Москве и на Украине, во-вторых, у него были личные мотивы ненавидеть Сталина. Хрущев выступил на закрытом заседании 25 февраля 1956 г. с докладом о культе Сталина, причем не от имени ЦК, а от себя лично как первого секретаря ЦК. В этом обличительном докладе Хрущев не только разоблачил преступления сталинизма, но в отдельных случаях дал карикатурно-шаржированный образ Сталина.
Выступая на съезде до доклада Хрущева, Маленков скромно обвинил в развязывании репрессий исключительно «агента мирового империализма» Берию, но это выступление никого не заинтересовало. Тем не менее Маленков вместе с Молотовым, Кагановичем некоторое время оставался в политическом руководстве и вместе с Хрущевым активно участвовал в принятии решения о вводе Советских войск в Венгрию в период вооруженного мятежа и в переговорах с руководителями Югославии, Польши, Румынии, Болгарии по поводу одобрения данной акции. Однако, когда Хрущев стал дальше развертывать широкомасштабное разоблачение культа Сталина, изменившее характер политического режима в СССР и ухудшившее положение в странах народной демократии и в мировом коммунистическом движении, стали очевидными не только позитивные, но и негативные последствия этих шагов.103
В частности, в Грузии прошли массовые выступления против решений XX съезда КПСС, которые завершились применением оружия и гибелью более 20 человек. Начался раскол коммунистического движения и ослабление в Европе его влияния. Позиции правящих коммунистических партий в Восточной Европе, например Венгрии, Польше оказались основательно подорванными и дискредитированными. Внутри страны Хрущев допустил целый ряд крупных промахов, осложнивших социально-экономическую ситуацию.
Маленков вместе с Кагановичем, Молотовым, Булганиным, Сабуровым, Первухиным, Ворошиловым и Шепиловым попытались путем голосования в Политбюро освободить Хрущева от обязанностей первого секретаря и назначить его на пост министра сельского хозяйства, в котором он считался крупным специалистом.
Было подготовлено заседание Политбюро аналогичное тому, на котором был арестован Берия. Но заговорщикам на этот раз «не повезло» - председатель заседания Булганин - бывший сослуживец Хрущева по Москве, провел заседание крайне нерешительно и по просьбе Хрущева перенес его на завтра. Утром Маленков вновь справедливо обвинил Хрущева в формировании нового культа личности, в авантюрном стиле руководства, в том, что вместо диктатуры пролетариата устанавливается диктатура партии. Он предложил ликвидировать пост первого секретаря ЦК, создать ряд постоянных комиссий, установить порядок председа- тельствования на заседаниях Президиума ЦК. Эти интересные и правильные предложения не были восприняты сторонниками Хрущева. Неожиданным для маленковцев стало появление на заседании группы сторонников ЦК вместе с военными, которые потребовали созыва пленума
ЦК. Маршал Жуков заявил, что Кремль окружен войсками, готовыми к действиям. Сторонники Маленкова были в панике. Вопрос был решен, но совершенно не так как планировало большинство. Хрущеву удалось срочно созвать пленум ЦК КПСС и, опираясь на поддержку среднего слоя партийной номенклатуры, отстоять свое лидерство. Характерным обстоятельством являлось возложение ответственности за репрессии периода сталинской диктатуры исключительно на группу Маленкова, а также Берия. По сравнению с XX съездом КПСС, это был явный шаг назад. Вновь на пленуме выступил маршал Жуков, слово которого стало решающим. Он заявил, что приход к власти людей запятнанных участием в бериевских репрессиях недопустим и привел документы о причастности Маленкова в терроре. Жуков сказал, что на Маленкове больше вины, чем на Кагановиче, так как ему было поручено наблюдение за НКВД, причем Маленков так и не раскаялся перед партией. Маленков пытался оправдываться, но ему ничего не удалось доказать. Конечно же, Маленков, бывший вторым человеком в сталинском Политбюро нес серьезную ответственность за все происходящее, но явно меньше, чем сам диктатор или Берия. Превращение Маленкова вместе с Берия в инициаторов репрессий и снижение уровня критики режима личной власти Сталина было связано с объявленной целью непосредственного строительства коммунизма на основе якобы уже построенного социализма. Возложение ответственности за массовый кадровый геноцид на вождя коммунистов Сталина, имя которого олицетворяло систему, могло поставить под вопрос факт «завершения строительства социализма» и соответственно вызвать сомнение в авантюрном курсе Хрущева.
Партаппаратная элита во главе с Хрущевым блестяще использовала номенклатурные методы борьбы и победила, объявив группу Маленкова антипартийной и фракционной. Значение этого обвинения можно понять, если только вспомнить, что согласно ленинской традиции для партии не было большего преступления, чем фракционность и оппортунизм. Маленков и его единомышленники переоценили как свою политическую роль в руководстве страны, так и популярность в народе. Они не осознали того факта, что энергичный Хрущев, возглавивший всю вертикаль партийной номенклатуры, не мог быть смещен кулуарно. Но самое главное - в руководстве страны в данный момент не было альтернативы Хрущеву, за исключением маршала Жукова. Именно поэтому хрущевцы обрушились всеми силами на Г.К.Жукова, обеспечившего ранее с помощью угрозы применения Вооруженных Сил политический разгром маленковцев. Г.К.Жуков обладал огромным авторитетом в обществе, полученным в ходе Великой Отечественной войны без помощи Хрущева. Когда он выступил за радикальную перестройку отношений между партией и армией, сокращение армейских политработников и существенное ограничение функций парторганизаций в армии, возникло подозрение, во-первых, в разрушении традиционного влияния партии на важнейший институт государства, во-вторых, в стремлении Жукова к полной власти не только в войсках. В московских партэлитных кругах стал гулять вопрос: если в США генерал Эйзенхауер стал президентом, то почему еще более выдающийся полководец, четырежды Герой, любимец нации - настоящий «Георгий-Победоносец» не может возглавить СССР? Все понимали, что маршал Жуков - это не Маленков и не Жданов, не имевших особой поддержки в силовых структурах. Не давая Жукову времени поразмышлять над ситуацией, оценить политику Хрущева, взвесить свои силы и решиться, Хрущев снимает его с должности министра обороны во время визита в Югославию, а затем созывает пленум ЦК КПСС. На октябрьском пленуме ЦК КПСС 1957 года после резкой критики со стороны И.Х.Баграмяна, Н.Г.Игнатьева и др. его вывели из состава Президиума ЦК КПСС. Таким образом Хрущев завершил обновление партийного и государственного руководства и укрепление режима своей власти. Оценивая политику Хрущева в сравнении с предлагавшейся вялой «альтернативой» Маленкова следует, вероятно, согласиться, что она выглядит более последовательной, энергичной, радикальной. Реформаторство Маленкова как и предложения Берии были вынужденными, конъюнктурными, если можно так выразиться - неискренними. Маленков как и Жданов были умеренными сталинистами, настоящими наследниками Сталина, и если бы они, в силу благоприятных обстоятельств, оказались у власти после 1953 года, они безусловно не допустили XX съезда КПСС.
Дальнейшая судьба Г.М.Маленкова не была особо трагической, хотя ее и нельзя назвать благополучной. Он был исключен из Президиума ЦК и ЦК, снят с ответственной работы, лишен всех государственных наград, но ему дали возможность достойно закончить жизнь. Как инженера и управленца-эгергетика Маленкова отправили на работу в Сибирь директором крупной Усть-Каменогорской ГЭС, однако здесь он неожиданно для партийного руководства пришелся ко двору и был избран делегатом на очередной съезд партии. После этого его назначили директором самой захолустной Экибазстузской ГРЭС, где он опять хорошо себя зарекомендовал среди населения. Правда, в 1961 году его на всякий случай исключили из партии, что явилось запоздалой местью вдогонку, но особого значения для него лично это уже не имело. После выхода на пенсию в 1968 году он вернулся в Москву, где и умер в 1988 г., пережив своего былого соперника А.А.Жданова на целых 40 лет. К слову сказать, другие члены группы Маленкова отличались завидным долгожительством, особенно преуспел В.М.Молотов, который дожил до своего восстановления в КПСС при К.У.Черненко
.Заключение
В диссертации впервые проведено комплексное исследование партийно-государственной деятельности одного из крупнейших деятелей советской эпохи Г.М. Маленкова.
В исследовании автор обосновывает следующие выводы. Назначение Г.М. Маленкова на высокий пост начальника управления кадров ЦК ВКП(б) связано с тем, что в середине 1930-х гг. он оказался в числе близких сподвижников И.В. Сталина в осуществлении курса форсирования индустриализации, коллективизации и организации политических репрессий. В мае 1935 г. ЦК ВКП(б) принял решение создать Особую комиссию для руководства ликвидацией врагов народа. Вместе со Сталиным, Ждановым, Ежовым, Шкирятовым и Вышинским в ее состав входит Г.М. Маленков.
Маленков входил в подчинение председателя комиссии партийного контроля Ежова и был обязан выполнять его распоряжения. Но одновременно Маленков имел прямой выход на Сталина, к которому постоянно обращался с предложениями о перестановках кадров. В январе 1938 г. он выступил на пленуме ЦК с докладом об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально- бюрократическом отношении к апелляциям и о мерах по устранению этих недостатков. В докладе в скрытой форме фактически осуждалась репрессивная политика Ежова, но не предлагались действительно кардинальные меры по ее пресечению.
На всех этапах партийно-государственной работы Г.М. Маленков был ориентирован не на догматическое следование принципам официальной советской идеологии, а на любые изменения в политической конъюнктуре, которая в исследуемый период полностью определялась личной позицией И.В. Сталина. Именно этим объясняется быстрое продвижение Г.М. Маленкова по карьерной лестнице: в 1925-1930 гг. - работа в аппарате ЦК ВКП(б), в 1930-1934 гг. - в Московском областном комитете ВКП(б), 1934-1939 гг.- заведующий Отделом руководящих партийных органов ЦК ВКП(б), с 1939 по 1946 гг. - начальник Управления кадров ЦК ВКП(б).
На всех этапах своей партийно-государственной деятельности Г.М. Маленков отвечал за наиболее сложные секторы народного хозяйства. В начале 1940-х гг. он занимался развитием промышленности и транспорта, что вполне отвечало его профессиональной подготовке как инженера. Осознавая неизбежность приближающейся войны, в своем докладе на XVIII партконференции Г.М. Маленков сделал главный акцент на необходимости мобилизации народного хозяйства для нужд армии. Позиция Маленкова, заключавшаяся в требовании усиления административных мер для повышения производительности труда, не получила поддержки ряда специалистов, среди которых были яркие сторонники экономических методов хозяйствования - H.A. Вознесенский, А.Н. Косыгин, A.A. Кузнецов и др. Не случайно в дальнейшем именно Г.М. Маленкову Сталин поручит ликвидацию ленинградской группы экономистов, обвиненных в антипартийном уклоне.
Особое внимание в работе уделено деятельности Г.М. Маленкова в Государственном Комитете Обороны, где во время Великой Отечественной войны он отвечал за промышленность, прежде всего авиационную. В условиях военного времени по заданию ГКО и лично Сталина Маленков регулярно выезжал на фронты, где оказывал помощь в организации обороны. В данной связи его вклад в организацию материально- технического снабжения фронта и развитие авиационной промышленности не вызывает сомнений, а полученная в 1943 г. звезда Героя Социалистического Труда была вполне заслуженным признанием его роли. В разделе показано, что в 1943 г. Маленков возглавил Комитет по восстановлению народного хозяйства в районах освобожденных от оккупантов, затем комитет по демонтажу немецкой промышленности.
Проведенный анализ позволил обосновать вывод о том, что активная деятельность Г.М. Маленкова на руководящих постах позволила ему обрести заметное влияние на все круги партийно-государственной элиты, в том числе и военных, которые видели в нем основного приемника И.В. Сталина.
В работе показано, что после снятия с ключевой должности начальника Управления кадров ЦК ВКП(б) в 1946 г., политическая позиция Г.М. Маленкова была несколько ослаблена. Анализ протоколов заседаний Секретариата и Оргбюро ЦК показывает, что в этот период Г.М. Маленков не появлялся и не принимал участие в работе этих органов. Все протоколы подписывал Жданов, сменивший Маленкова на посту фактического руководителя Секретариата и Оргбюро. Восстановить позиции одного из лидеров партии и ближайшего соратника Сталина Маленкову удалось лишь упорным трудом в Совете Министров, где он беспрекословно выполнял все поручения высшего руководства.
Значительное внимание в разделе уделено эволюции экономической концепции Г.М. Маленкова в период его работы на посту заместителя Председателя Совета Министров. Как показало исследование, несмотря на безоговорочное следование официальной концепции развития советского производства, Г.М. Маленков пытался неоднократно выступать с собственной программой экономических преобразований, которая значительно противоречила официальной. В частности, уже во второй половине 1940-х гг. он предлагал ввести в практику советского производства принцип материальной заинтересованности трудящихся, увеличить производство товаров народного потребления, что, в конечном итоге, так и не получило поддержки И.В. Сталина и оказалось бесперспективным направлением.
На рубеже 1940-1950-х гг., кроме «ленинградского дела», Г.М. Маленков руководил организацией преследования ряда известных партийных функционеров, именно он отвечал за раскручивание «дела врачей», лично принимал участие в допросе члена ЦК ВКП(б) С.А. Лозовского, обвинявшегося в стремлении создать в Крыму еврейскую социалистическую республику. Г.М. Маленков руководил расследованием дела МТБ, согласно которому его начальник генерал-полковник B.C. Абакумов занимался вредительством и саботажем.
В данной связи неслучайно, что именно Г.М. Маленкову как своему преемнику в 1952 г. Сталин поручил подготовку и чтение отчетного доклада на XIX съезде ВКП(б), состоявшемся в октябре 1952 г. В этом докладе Маленков дал завышенные оценки развития страны, в частности заявил, что в СССР окончательно и бесповоротно решена зерновая проблема. Автор отмечает, что СССР действительно достиг значительных успехов в послевоенном восстановлении народного хозяйства, но до полного решения экономических проблем было далеко. В начале 1950-х гг. Г.М. Маленков вошел в состав руководящей «пятерки» нового Президиума и его Бюро ЦК ВКП(б) вместе с Берия, Хрущевым, Булганиным и самим Сталиным.
Среди всех наследников умершего в марте 1953 г. вождя Г.М. Маленков, имевший все шансы стать новым лидером страны, проявил наименьшее упорство во внутрипартийной борьбе, что автор связывает не только с отсутствием у него политических амбиций, но и с его искренней верой в возможность коллективного руководства партией и государством.
Смерть И.В.Сталина и устранение Л.П. Берия поставили вопрос о разработке нового экономического курса, в чем Г.М. Маленков видел свою особую роль. Не случайно поворот в развитии экономики был намечен уже в траурной речи Г.М. Маленкова на похоронах И.В. Сталина 9 марта 1953 г. Если до смерти вождя Г.М. Маленков неизменно представал как сторонник жестких административных подходов в решении внутренних задач, то после смерти И.В. Сталина его позиция приобрела некоторую самостоятельность. С трибуны Мавзолея Г.М. Маленков определил новые приоритеты внутриполитического курса. Безусловной новизной отличалось объявленное стремление «неуклонно добиваться дальнейшего улучшения материального благосостояния рабочих, колхозников, интеллигенции, всех советских людей». Показательно, что еще пять месяцев назад, в отчетном докладе на XIX съезде партии (октябрь 1952 г.), повышение благосостояния граждан было определено только седьмым пунктом из девяти главных направлений работы в области внутренней политики.
Анализируя тенденции развития советской экономики за годы советской власти и признавая верность курса партии на развитие тяжелой промышленности в период индустриализации страны, Г.М. Маленков констатировал тот факт, что «за последние 28 лет производство средств производства в целом выросло в нашей стране примерно в 55 раз, производство же предметов народного потребления за этот период увеличилось примерно в 12 раз». Признавая создавшуюся ситуацию неудовлетворительной, глава правительства считал необходимым на базе успехов тяжелой промышленности организовать резкое увеличение производства предметов народного потребления.
Г.М. Маленков первым из руководителей сталинского окружения в 1950-е гг. связал обеспечение роста производства предметов народного потребления с подъемом сельского хозяйства, как источником сырья для легкой промышленности и снабжения населения продовольствием. Центральной мерой нового курса стало повышение закупочных цен на сельхозпродукцию, с благодарностью встреченное колхозниками. Значительное внимание в новой программе развития экономики уделялось развитию личного подсобного хозяйства колхозников, как одного из источников жизнеобеспечения сельских жителей.
Программное выступление Г.М. Маленкова на пятой сессии имело огромный резонанс как внутри страны, так и за рубежом. Характер поставленных задач и пути их решения свидетельствуют о том, что Г.М. Маленковым была разработана продуманная система мер по оздоровлению экономики. Однако рост популярности Г.М. Маленкова в среде советских граждан противоречил целям его политических противников, что послужило одной из причин обострения политической борьбы в середине 1950-х гг.
В работе обстоятельно проанализированы причины утраты Г.М. Маленковым политического лидерства. Автор отмечает, что дискредитация Г.М. Маленкова велась продуманно, для чего активно использовались возможности средств массовой информации. После XX съезда партии политическое влияние Г.М. Маленкова, как ближайшего соратника И.В. Сталина, продолжало неуклонно снижаться. Последовавший в 1957 г. разгром «антипартийной группы» привел к вынужденному уходу Г.М. Маленкова из политической жизни страны
.СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ Архивные фонды Государственный архив Российской Федерации
Ф. 9401 - Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР Ф. 9414 - Главное Управление Лагерей Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР
Ф. 6991 - Совет Народных Комиссаров - Совет Министров СССР
Российский государственный архив социально-политической
истории
Ф.17 - Центральный Комитет КПСС
Ф.82 - Молотов В.М.
Ф.83 - Маленков Г.М.
Ф.77 - Жданов A.A.
Ф.558 - Сталин И.В.
Законодательные и нормативные акты
Конституция и конституционные акты Союза ССР. 1922 - 1936. М., 1940.
Уголовный кодекс Союза Советских Социалистических Республик. М, 1939.
Уголовно - процессуальный кодекс Союза Советских Социалистических Республик. М., 1940.
Теоретические работы и выступления Г.М. Маленкова Маленков Г.М. Повышение производительности труда и задачи низовой партийной работы. - М., Л., 1929.
Маленков Г.М. Доклад Мандатной комиссии XVIII Съезда ВКП(б), 12 марта 1939г. -М., 1939.
Маленков Г.М. Сталин о большевистских кадрах. - Минск, 1940.
Маленков Г.М. О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта: Доклад на XVII Всесоюзной конференции ВКП(б), 15 фев.1941г. - М., 1941.
Маленков Г.М. Речь на предвыборном собрании избирательного округа г.Москвы. 7 фев. 1946г. - М., 1946.
Маленков Г.М. Информационный доклад о деятельности ЦК ВКП(б) на Совещании представителей некоторых компартий в Польше, в конце сентября 1947 г. - М., 1947.
Маленков Г.М. Товарищ Сталин — вождь прогрессивного человечества: [К 70-летию со дня рождения] - М., 1949.
Маленков Г.М. 32-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции: Доклад на торжественном заседании Московского Совета, 6 ноября 1949г. - М., 1949.
Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Ленинградского округа Москвы, 9 марта 1950 - М., 1950.
Маленков Г.М. Отчетный доклад XIX Съезду партии о работе Центрального комитета ВКП(б), 5 окт. 1952г. - М., 1952.
Маленков Г.М. Речь товарища Г.М.Маленкова [на траурном митинге в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина] // Коммунист, 1953. №4.
Маленков Г.М. Речь на пятой сессии Верховного Совета СССР 8 авг. 1953г.-М., 1953.
Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Ленинградского избирательного округа г.Москвы, 12 марта 1954-М., 1950.
Маленков Г.М. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР четвертого созыва, 26 апр. 1954г. -М., 1954.
Маленков Г.М. Речь на XX Съезде КПСС, 17 фев. 1956г. - М.,
1956.
Произведения государственных и общественных деятелей Берия Л.П. Речь на XIX съезде партии. М., 1952. Булганин H.A. Речь на XIX съезде партии. М., 1952. Вознесенский H.A. Военная экономика СССР в период отечественной войны. М., 1948.
Маленков Г.М. О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта. М., 1941.
Маленков Г.М. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). М., 1952.
Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. М.,
1952.
Сталин И.В. О великой отечественной войне. М., 1946.
Мемуары
Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М.: Терра.
Микоян А.И. Так было. Размышления о минувшем. М.: Вагриус.
1999.
Хрущев Н.С. Воспоминания. М.: Вагриус. 1997. Жирнов Е. (Смиртюков М.) «После расстрела Берии Маленков все время улыбался» // Коммерсантъ. 2000. №5. Зверев А.Г. Записки министра. М., 1973. Байков Н.К. От Сталина до Ельцина. - М., 1998. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. 11-е изд. В 3-х т. М.,
Каганович Л.М. Памятные записки. М., 1996.
Маленков А. О моем отце Георгии Маленкове. М., 1992.
Литература
Гатовский Л. О хозяйственно-организаторской деятельности Советского государства в послевоенный период // Вопросы экономики. 1951. №3.
Ашин Г.К. Миф об элите и «массовом обществе». М., 1966. Роль народных масс и личности в истории. М., 1976; Критика современных буржуазных концепций лидерства. М., 1978. Галкин A.A. Правящая элита современного капитализма. М., 1969. Очерки истории СССР. М., 1954; История социалистической экономики СССР. М., 1972.
Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина. В 2-х кн. М., 1989.
Волкогонов Д.А. Троцкий. Политический портрет. В 2 кн. М.,
1992.
Волкогонов Д.А. Ленин. Политический портрет. В 2 кн. М., 1994. Зубкова Е.Ю. Лидеры и судьбы: «посадник» Георгия Маленкова // Полис. 1991. №5.
Маленков, Хрущев и «оттепель» // История Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991.
Медведев Р. Они окружали Сталина. Несостоявшийся «наследник» Сталина // Юность. 1989. №9.
Небогин О.Б., Сланская М.Д. «...Нельзя оставить в рядах партии» // Вопросы истории КПСС. 1989. №5.
Опенкин Л.А. На историческом перепутье [штрихи к портрету Г.М.Маленкова] // Вопросы истории КПСС. 1990. №1.
Айзенштан Я. Маленков и другие // Континент. 1991. №61.
Зевелев А.И. Из истории утверждения единовластия Сталина. М.,
1989.
Васецкий H.A. Г.Е. Зиновьев (страницы политической биографии). М., 1989.
Горелов О.И. М.П. Томский (страницы политической биографии). М., 1989.
Старцев В.И. Л.Д. Троцкий (страницы политической биографии). М., 1989.
Николаевский Б.И. К биографии Маленкова и истории компартии СССР // Тайные страницы истории/ред.-сост. Ю.Г.Фелынтинский. М., 1995.
Зубкова Е.Ю. Маленков и Хрущев: личный фактор в политике по- слесталинского руководства // Отечественная история. 1995. №4. С. 103115.
Павлова И.В. Сталинизм: становление механизма власти. Новосибирск, 1993.
Материалы научно - практической конференции: «Роль личности в истории Отечества». М., 1993.
Аксютин Ю. Пятый премьер, или почему Маленков не удержал бремя власти // Родина. 1994. №5.
Аксютин Ю. Лечение после смерти // Родина. 1995. №8. Аксютин Ю. Пятый советский премьер // Россия XXI. 1999. №3. Морозова А.Ю. A.A. Богданов // Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993.
Овсянников A.A. Идейно-теоретическое наследие лидеров большевизма (источниковедческое исследование). М., 1997.
Пияшев Н.Ф. Человек из легенды. М., 1995; Горинов М.М. Громов Е.С. Сталин: Власть и искусство. М., 1998.
Березкина О.С. Проблема легитимации в истории коммунистической элиты (20-30-е гг.) // В кн.: Политические партии России. Страницы истории. М., 2000.
Хлевнюк О.В. Политбюро ЦК ВКП(б) в 1930-е годы. Механизмы политической власти в СССР. Автореферат на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 1996.
Данилов A.A., Пыжиков A.B. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы. М.: Росспэн, 2001.
Данилов A.A. Сталинское Политбюро в послевоенные годы. Статья в сборнике: Политические партии. Страницы истории. М.: Издательство Московского университета, 2000.
Костриченко Г. Маленков против Жданова (Игры сталинских фаворитов) // Родина. 2000. №9. С.85-92.
Решение январского (1955г.) пленума ЦК КПСС о Г.М. Маленкове // Вопросы истории. 1999. №1.
«Долой Хрущева, изберем Маленкова» [об антиправительственных настроениях избирателей во время выборов в Верховный Совет СССР в 1957г.] // Источник. 2001.
Пихоя Р.Г. Советский Союз. История власти. 1945 - 1991. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000.
Жуков Ю.Н. Тайны Кремля. Сталин, Молотов, Берия, Маленков. М.: Терра, 2000 и др.
Папушин А. «Пришел Маленков - поели блинков!» [Маленков Г.М.] // Российская газета. 1995. 24 марта.
Олейников Д. Дворянин, секретарь ЦК КПСС...// Родина. 1994.
№1.
Папушин А. «Голубятня» над Лужниками: [о Г.М.Маленкове] // Московская правда. 1994. 20 июля, 3 августа, 26 августа.
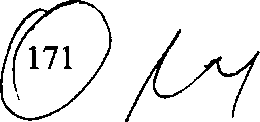
Шевченко В. Опальные годы Георгия Маленкова // Тюркский мир. .№1.
Пресса
Аргументы и факты. 1989 - 2000. Известия. 1988- 1993. Красная Звезда. 1988 - 1995. Комсомольская правда. 1988 - 2000. Литературная газета. 1989 - 2000. Московский рабочий. 1989. Московские новости. 1993 - 1995. Правда. 1939- 1953. Труд. 1988- 1993
.2 См.: Ашин Г.К. Миф об элите и «массовом обществе». М., 1966; Он же. Роль народных масс и личности в истории. М., 1976; Он же. Критика современных буржуазных концепций лидерства. М., 1978; Галкин A.A. Правящая элита современного капитализма. М., 1969.
3 См.: Очерки истории СССР. М., 1954; История социалистической экономики СССР. М.,
1972.
7 С.м: Николаевский Б.И. К биографии Маленкова и истории компартии СССР И Тайные страницы истории/ред.-сост. Ю.Г.Фельштинский. М., 1995.
8 См.: Зубкова Е.Ю. Маленков и Хрущев: личный фактор в политике послесталинского руководства // Отечественная история. 1995. №4. С.103-115; Павлова И.В. Сталинизм: становление механизма власти. Новосибирск, 1993; Материалы научно - практической конференции: «Роль личности в истории Отечества». М., 1993.
12 См.: Костриченко Г. Маленков против Жданова (Игры сталинских фаворитов) // Родина. 2000. №9. С.85-92; Решение январского (1955г.) пленума ЦК КПСС о Г.М. Маленкове // Вопросы истории. 1999. №1; «Долой Хрущева, изберем Маленкова» [об антиправительственных настроениях избирателей во время выборов в Верховный Совет СССР в 1957г.] // Источник. 2001.
21 Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993. С. 43.
22 РГАСПИ. Ф.83.0п.1.Д.39. Л.38.
25 Там же. С. 187.
27 Там же. С. 169, 170, 174.
28 Там же. С. 639.
31 См., например: По пути к коммунизму // Правда. 1949. 9 февраля; Советская женщина - активный строитель коммунизма // Правда. 1949. 17 февраля; Партия Ленина-Сталина ведет нас к коммунизму // Правда. 1949. 10 марта; К новым успехам в борьбе за коммунизм // Правда. 1951. 2 января и др.
32 XI съезд ВЛКСМ. 29 марта-7 апреля 1949 г. Стенографический отчет. М. 1949. С. 14.
35 XIX съезд КПСС. Бюллетень № 3. М. 1952. С. 38.
37 Ленин В.и. Поли. собр. соч. Т. 33. Л. 17.
38 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 96.
Особенно удачным Ленин признавал употребление самого термина «отмирание государства», считая, что он отражает суть процесса // Там же. Л. 90.
39 Там же. Т. 36. С. 74.
40 Сталин И.В. Вопросы ленинизма. Изд. 11. С. 604.
46 Вопросы философии. 1949. № 2. С. 28.
48 Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М. 1947. С.
146.
49 Гатовский Л. О хозяйственно-организаторской деятельности Советского государства в послевоенный период // Вопросы экономики. 1951. № 3. С. 18-20.
58 Подробнее см.: Громов Е. Сталин: власть и искусство. М. 1998. С. 369-456.
70 Вопросы истории. 1946. № 12. С. 9-11.
77 РГАСПИ. Ф. 83. Оп. 1. Д. 8. Л. 19.
80 Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. М. 1952. С. 40.
81 РГАСПИ. Ф. 83. Оп. 1. Д. 8. Л. 11.
82 Вопросы истории. 1947. № 2. С. 7.
83 Джилас М. Лицо тоталитаризма. М. 1992. С. 138.
84 РГАСПИ. Ф. 83. Оп. 1. Д. 8. Л. 5.
86 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1064. Л. 32.
93 Журнал московской патриархии. 1945. № 2. С. 44.
97 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 29. Л. 19-34; Журнал московской патриархии. 1945. № 11. С. 3842.
102 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 37. Л. 14, 24.
I0S ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. д. 149. Л. 98, 110; Д. 80. Л. 128.
112 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 493. Л. 5.
121 Правда. 1947. 5 мая.
122 Данилов A.A., Пыжиков A.B. Рождение сверхдержавы М., 2001. С.208.
126 Жуков Ю.Н. Борьба за власть в руководстве СССР в 1945-1952 годах // Вопросы истории. 1995. №1. С.31
127 Шепилов Д.Т. Воспоминания // Вопросы истории. 1998. №3-7.
128 Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М., 2001. С.630-632.
129 Медведев P.A. Свита и семья Сталина. М.-Пермь. 1991. С.278-281
131 Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997. С.261.
132 Жуков Ю.Н. Борьба за власть в руководстве СССР в 1945-1952 годах // Вопросы истории. 1995. №1. С.35.
133 Речь тов. Г.М. Маленкова// Коммунист. 1953. №4. С. 12.
134 Маленков Г.М. Отчетный доклад XIX Съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). 5 октября 1952 г. М., 1952. С.79.
137 Попов В.П. Российская деревня после войны (июнь 1945 - март 1953 гг.). Сборник документов. М„ 1993. С.87.
139 См.: Год 1955-й // Правда. 1955. №1. С.1; Во имя народного счастья // Правда. 1955. №2. С.1; А.Курский Экономический закон планомерного развития народного хозяйства // Правда. 1955. №5. С.; Социалистическая экономика на новом подъеме // Правда. 1955. №22. С.1; Резервы промышленности на службу Родине // Правда. 1955. №23. С.1.
146 Краскова В. Серые кардиналы Кремля. Минск 1998.
148 Карякин Ю. Ждановская жидкость или против очернительства // Огонек. 1998, № 19.
149 Демидов В. Ленинградское дело. Попытка реконструкции II Звезда. 1989. № 1.
150 Отечественная история. 1994 № 6.
153 Свободная мысль, 1991 № 18.
154 Рубин Н. Лаврентий Берия: мифы и реальность. М. - Смоленск. 1998.
1 См.: Гатовский Л. О хозяйственно-организаторской деятельности Советского государства в послевоенный период // Вопросы экономики. 1951. № 3.
2 См.: Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина. В 2-х кн. М., 1989; Он же. Троцкий. Политический портрет. В 2 кн. М., 1992; Он же. Ленин. Политический портрет. В 2 кн. М., 1994.
3 С.м: Зубкова Е.Ю. Лидеры и судьбы: «посадник» Георгия Маленкова // Полис. 1991. №5; Маленков, Хрущев и «оттепель» // История Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991; Медведев Р. Они окружали Сталина. Несостоявшийся «наследник» Сталина // Юность. 1989. №9; Небогин О.Б., Сланская М.Д. «...Нельзя оставить в рядах партии» // Вопросы истории КПСС. 1989. №5; Опенкин Л.А. На историческом перепутье [штрихи к портрету Г.М.Маленкова] // Вопросы истории КПСС. 1990. №1; Айзенштан Я. Маленков и другие // Континент. 1991. №61.
4 См.: Зевелев А.И. Из истории утверждения единовластия Сталина. М., 1989; Васецкий Н.А. Г.Е. Зиновьев (страницы политической биографии). М., 1989; Горелов О.И. М.П. Томский (страницы политической биографии). М., 1989; Старцев В.И. Л.Д. Троцкий (страницы политической биографии). М., 1989.
5 См.: Аксютин Ю. Пятый премьер, или почему Маленков не удержал бремя власти // Родина. 1994. №5; Аксютин Ю. Лечение после смерти // Родина. 1995. №8; Аксютин Ю. Пятый советский премьер // Россия XXI. 1999. №3; Морозова А.Ю. A.A. Богданов // Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993; Овсянников A.A. Идейно-теоретическое наследие лидеров большевизма (источниковедческое исследование). М., 1997; Пияшев Н.Ф. Человек из легенды. M., 1995; Горинов M.M. Громов Е.С. Сталин: Власть и искусство. М., 1998; Березкина О.С. Проблема легитимации в истории коммунистической элиты (20-30-е гг.) // В кн.: Политические партии России. Страницы истории. М., 2000.
6 См.: Хлевнюк О.В. Политбюро ЦК ВКП(б) в 1930-е годы. Механизмы политической власти в СССР. Автореферат на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 1996.
7 См.: Данилов A.A., Пыжиков A.B. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы. М.: Росспэн, 2001; Данилов A.A. Сталинское Политбюро в послевоенные годы. Статья в сборнике: Политические партии. Страницы истории. М.: Издательство Московского университета, 2000.
8 См.: Пихоя Р.Г. Советский Союз. История власти. 1945 - 1991. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000; Жуков Ю.Н. Тайны Кремля. Сталин, Молотов, Берия, Маленков. М.: Терра, 2000 и др.
9 См.: Папушин А. «Пришел Маленков - поели блинков!» [Маленков Г.М.] // Российская газета. 1995. 24 марта; Олейников Д. Дворянин, секретарь ЦК КПСС...// Родина. 1994. №1; Папушин А. «Голубятня» над Лужниками: [о Г.М.Маленкове] // Московская правда. 1994. 20 июля, 3 августа, 26 августа; Шевченко В. Опальные годы Георгия Маленкова//Тюркский мир. 1998. №1.
10 См.: Маленков Г.М. Повышение производительности труда и задачи низовой партийной работы. - М., Л., 1929; Маленков Г.М. Доклад Мандатной комиссии XVIII Съезда ВКП(б), 12 марта 1939г. - М., 1939; Маленков Г.М. Сталин о большевистских кадрах. - Минск, 1940; Маленков Г.М. О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта: Доклад на XVII Всесоюзной конференции ВКП(б), 15 фев.1941г. - М., 1941; Маленков Г.М. Речь на предвыборном собрании избирательного округа г.Москвы. 7 фев.1946г. - М., 1946; Маленков Г.М. Информационный доклад о деятельности ЦК ВКП(б) на Совещании представителей некоторых компартий в Польше, в конце сентября 1947 г. - М., 1947; Маленков Г.М. Товарищ Сталин - вождь прогрессивного человечества: [К 70-летию со дня рождения] - М., 1949; Маленков Г.М. 32-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции: Доклад на торжественном заседании Московского Совета, 6 ноября 1949г. - М., 1949; Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Ленинградского округа Москвы, 9 марта 1950 - М., 1950; Маленков Г.М. Отчетный доклад XIX Съезду партии о работе Центрального комитета ВКП(б), 5 окт. 1952г. - М., 1952; Маленков Г.М. Речь товарища Г.М.Маленкова [на траурном митинге в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина] // Коммунист, 1953. №4; Маленков Г.М. Речь на пятой сессии Верховного Совета СССР 8 авг. 1953г. - М., 1953; Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Ленинградского избирательного округа г.Москвы, 12 марта 1954 - М., 1950; Маленков Г.М. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР четвертого созыва, 26 апр. 1954г. - М., 1954; Маленков Г.М. Речь на XX Съезде КПСС, 17 фев. 1956г. - М., 1956.
11 См.: РГАСПИ. Ф. 83. Оп. 1. Д.14, Д.31, Д.ЗЗ.
12 См.: Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М.: Терра. 1991; Микоян А.И. Так было. Размышления о минувшем. М.: Вагриус. 1999. Хрущев Н.С. Воспоминания. М.: Вагриус. 1997; Жирнов Е. (Смиртюков М.) «После расстрела Берии Маленков все время улыбался» // Коммерсантъ. 2000. №5; Зверев А.Г. Записки министра. М., 1973; Байков H.K. От Сталина до Ельцина. - М., 1998; Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. 11-е изд. В 3-х т. М., 1992; Каганович Л.М. Памятные записки. М., 1996.
13 См.: Маленков А. О моем отце Георгии Маленкове. М., 1992.
14 РГАСПИ. Ф. 83. Оп. 2. Д. 5.Л. 32.
15 Костырченко Г. Маленков против Жданова (Игры сталинских фаворитов) // Родина. 2000. №9. С.87.
16 Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е годы: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. М.: РОССПЭН, 1996. С. 136.
17 XVIII съезд вкп (б). Стенографический отчет. М. 1939. С. 269.
18 Там же. С. 169.
19 Большевик. 1945. № 17. С. 3.
20 Правда. 1946. 16 марта.
21 Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. М. 1952. С. 66-67. Помимо теоретических рассуждений Сталин прибегал и к образному изображению пути в коммунизм. Например, в беседе по вопросам политэкономии, состоявшейся 15 февраля 1952 г., он говорил: "Никакого особого "вступления в коммунизм" не будет. Постепенно, сами не замечая, мы будем въезжать в коммунизм. Это не "вступление в город", когда "ворота открыты - вступай" // РЦХИДНИ. Ф. 83. Оп. 1. Д. 8. Л. 111.
22 XIX съезд КПСС. Бюллетень № 1. М. 1952. С. 105.
23 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 291-292.
24 Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. М. 1947. С. 171.
25 Сталин И.В. Вопросы ленинизма. Изд. U.C. 603.
26 Вышинский А.Я. Учение Ленина-Сталина о пролетарской революции и государстве // Советское государство и право. 1947. № 11. С. 17.
27 См.: Советское государство и право. 1948. № 10. С. 35.
28 См.: Советское государство и право. 1948. № 8. С. 10.
29 Козлов Г. Краткий курс истории ВКП(б) и развитие экономической науки // Вопросы экономики. 1948. № 6. С. 14.
30 Советское государство и право. 1947. № 12. С. 12.
31 РГАСПИ. Ф. 599. Оп. 1. Д. 5. Л. 49, 56-57.
32 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 117. Д. 607. Л. 196-197.
33 Правда. 1947. 7 ноября.
34 Сталин И.В. Вопросы ленинизма. Изд. 11. С. 590.
35 Вишневский В. Слово вождя о русском народе // Правда. 1950. 24 мая.
