
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
Исторический факультет
Ришелье как идеолог
абсолютной монархии
Доклад
студентки II курса д/о 2091 гр.
Веринчук К.Д.
Руководитель семинара
к. и. н., доц. Гусарова Т.П.
Москва, 2013
Оглавление
Введение 2
Понятие «идеология» 2
«Проблема абсолютизма» 3
Источники 4
Литература 6
Глава 1. Абсолютизм и абсолютная монархия 9
Глава 2. Идеология Ришелье 12
Теория 14
Практика 20
Глава 3. Особенности и сравнительный анализ 28
Заключение 32
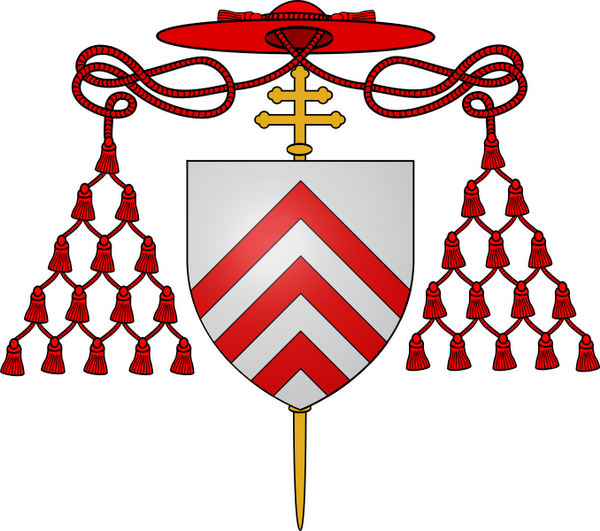
Введение
Личность Армана Жана дю Плесси, кардинала-герцога де Ришелье, главного министра Людовика XIII с 1626 по 1642 год, в известной мере определила целую эпоху. За это время он успел проявить себя в столь многих сферах государственной деятельности, что по сию пору многое остается не до конца изученным. Он известен как талантливый администратор, строитель флота, покровитель науки и искусств, искусный дипломат, в меньше степени – как теолог и писатель. Занятый укреплением королевской власти и национальным строительством, большее внимание он уделял идеям, владеющим умами французов. Отсюда его труды по созданию идеологической базы абсолютной монархии, какой он хотел ее видеть.
Итак, Ришелье как идеолог абсолютной монархии. Формулировка моей темы сама по себе проблематична. Что понимать под абсолютной монархией? Что такое идеология? Можно ли вообще называть идеологией то, что создавал Ришелье? Прежде чем определить цель и задачи работы, надо устранить терминологическую неразбериху.
Понятие «идеологии»
Какой смысл вкладывается в понятие «идеология» и насколько мы вправе употреблять его применительно к XVII веку, если само слово возникло в начале XIX? Я попробую ответить на эти вопросы.
Некоторые словари прямо пишут, что идеология – одно из самых дискутируемых понятий в социологии и политологии. Оно может быть нейтральным или резко негативным. Однако на основе нескольких современных специализированных словарей можно прийти к «усредненному» значению. Это совокупность (или даже система) связанных между собой идей и верований. Ее характеризуют такие положения: во-первых, она исходит из определенным образом познанной реальности. Во-вторых, она ориентирована на практические интересы и может содержать программы, лозунги, философские концепции. В-третьих, она связана с понятием «власть» и может служить теоретическим обоснованием политики субъекта идеологии.
В чем отличие идеологии от политической теории и практики? Почему «Ришелье как идеолог абсолютной монархии», а не «Ришелье как создатель абсолютной монархии» или «Ришелье как теоретик абсолютной монархии»? Дело в том, что идеология гораздо шире и объемнее любых политических трактатов. Она направлена вовне, обращена к населению, и включает в себя не только модель власти, но и конкретную программу действий, лозунги и формулировки, применяемые правительством, а также пропаганду посредством литературы, искусства и королевского церемониала. Именно это будет меня интересовать в контексте правления министра-кардинала.
Проблема «абсолютизма»
С термином «асболютизм» дело обстоит еще сложнее, чем с «идеологией». «Абсолютизм был некогда реальностью1» - пишет один современный историк. В самом деле, с 20-х годов XIX века и примерно до 80-х годов XX большинство историков полагало, что абсолютизм существовал как реальная стадия развития монархии, определившая целую эпоху развития западноевропейской цивилизации. Однако затем появились тенденции к пересмотру этого термина; в наиболее радикальном варианте они нашли выражение в работе Хеншелла «Миф абсолютизма» (1992). Основываясь на историографии прошедшего десятилетия, он предложил отказаться от понятия «абсолютизм» вообще. Несмотря на многие недостатки работы, она обозначила новый этап в историографии.
Создается впечатление, что существовашее единогласие после этого момента начинает стремительно разрушаться - критика привела к неразберихе, когда каждый исследователь, употребляющий это слово, вынужден объяснять его значение каждый на свой лад. Это впечатление ложно: при внимательном изучении историографии выясняется, что никакого единогласия вовсе не существовало. Абсолютизму «не удалось приобрести единообразное, всеми признанное определение2». Дальнейшие дискуссии лишь усугубили это положение. Абсолютная монархия, ранее современное государство (early modern state), административная монархия – все эти варианты сейчас употребляются историками.
Каких только королей не связывали с возникновением «абсолютизма» во Франции! Это Франциск I, Филипп IV Красивый, Людовик XIV и Людовик XIII (с Ришелье), даже Людовик IX Святой.
Примеров историографеческой разобщенности можно привести немало. Люблинская в русле теории истмата определяет «абсолютизм» как резкое усиление королевской власти в результате временного равновесия сил между дворянской элитой и буржуазией, благодаря чему король был независим от них обеих. Немецкий историк-социолог Элиас отдельно от советской историографии приходит к тем же выводам. Хачатурян представляет точку зрения, которую можно считать «классической» (с которой боролся Хеншелл): при «абсолютизме» государство поглощено личностью короля и аппаратом, максимум централизации в условиях феодализма, наличие разветвленного и независимого государственного аппарата. Однако Роберт Мандру и Ле Руа Ладюри, историки-анналисты, считают степень централизации и бюрократизации государства в изучаемый период довольно низкой, обращая внимание на активность коропораций и распространение клиентских связей.
Вместо «абсолютизма» использую термин «абсолютная монархия» как более близкий к риторике Раннего Нового времени – об этом подробнее в первой главе. Для меня принципиально важны не только и не столько государственно-административные реалии Франции XVII века, сколько политические убеждения эпохи и идейная политика Ришелье. Поэтому я изучаю не то, чем была «абсолютная монархия» Людовика XIII и Ришелье, а то, какой Ришелье хотел ее сделать и какой хотел показать французам.
Постановка вопроса
Теперь, когда мы немного разобрались с терминами в заглавии работы, перейдем к ее целям и задачам. Что представляет из себя идеология абсолютной монархии Ришелье? какими способами он ее создавал и распространял? На эти вопросы мне предстоит ответить.
Цель же работы – синтез создававшейся Ришелье идеологии абсолютной монархии, выявление ее особенностей в контексте современной ему философско-политической мысли, осуществления этой идеологии и распространения.
Чтобы достичь цели, я ставлю несколько задач: во-первых, определить суть термина «абсолютная монархия», как могли понимать в XVI-XVIII вв. Во-вторых, проследить идеологическую подоплеку внешней и внутренней политики кардинала. В-третьих, дать анализ его теоретических установок (по «Политическому завещанию»). Наконец, в-четвертых, выявить особенности идей Ришелье в ходе сравнительного анализа (используя трактаты других мыслителей).
Для этого придется изучить такое важное наследие кардинала, как «Политическое завещание», в котором нашли свое отражение его теоретические установки, и его конкретные действия на основе документов и историографии, где он предстает как непревзойденный практик.
Источники
Основным источником по моей теме является «Политическое завещание, или принципы управления государством господина кардинала де Ришелье». Точное время его написания неизвестно (конец 1630-х годов), и не сохранилось полного оригинала рукописи. Историки располагают 17 копиями и черновиками, что затруднило публикацию и привело к спорам о подлинности «Завещания». В XVIII веке особенно яростно его подложность доказывал Вольтер, и хотя его аргументы были признаны неосновательными, дискуссия продолжалась и в первой половине XX века. Сейчас подлинность всех сочинений Ришелье считается доказанной.
Первое издание «Политического завещания» вышло в 1688 году в Амстердаме. Почему не в Париже? Можно предположить, что это связано с политикой Людовика XIV. После смерти Мазарини он отказался назначать ему преемника и заявил, что король должен править сам, не полагаясь на могущественных вельмож. Поэтому о двух министрах-кардиналах - Ришелье и Мазарини - предпочитали не вспоминать. Кроме того, огромную важность имел вопрос о религиозной толерантности, бывшей принципом знаменитого кардинала: отмена Нантского эдикта и антипротестансткая политика Короля-Солнца делали невозможным публикацию «Завещания» в его правление. Амстердамская публикация – голос протестантской оппозиции. Во Франции этот политический труд напечатали только в 1764. Среди позднейших французских публикаций стоит отметить критические издания Л. Андре в 1947 и Ф. Ильдесаймер в 1995.
Первый перевод этого источника на русский язык был сделан в 1725, вероятно, по заказу Петра I, но издан так и не был. В русской печати «Завещание» появилось уже при Екатерине I в 1766-67 и 1788 годах. В советское время издавались только отрывки документа, например в хрестоматии по истории Средних веков С.Д. Сказкина, вышедшей большим тиражом. Наконец, в 2008 году в московском издательстве «Ладомир» вышел новый полный перевод «Завещания» на русский язык3. Он был выполнен по изданию 1691 года и отредактирован по изданию 1995 года. Я использую именно этот текст.
«Завещание» было написано на французском, а не на латинском, его язык вполне современнен. Легко заметить, что он отличается от сочинений передовых мыслителей того времени «некоторой бедностью и слабостью стиля», однако повторы и нередкую банальность можно объяснить тем, что работа не была завершена и мы имеем дело с черновиком.
«Завещание» было написано как наставление для Людовика XIII. Сознавая, что хрупкое здоровье оставляет ему мало времени, Ришелье дает королю сборник советов, основанных на личном опыте. Франсуа Блюш называет его «работой по обобщению…педагогики государственных дел», то есть попросту учебником, и довольно резко определяет его как «самое умелое и лицемерное оправдание прагматичной и фактически циничной политики, которую взяло на себя христианство или то, что от него осталось4». Энтони Леви подчеркивает искреннюю религиозность кардинала и называет его ценности типичными для эпохи барокко. Что это значит, нам еще предстоит выяснить.
Может быть, автор «Завещания» не столь блестяще теоретизирует, как известные мыслители Раннего Нового времени, однако это не делает его труд напрасным. В нем использован весь многолетний опыт первого министра, что делает документ таким особенным и важным для историков.
Неизвестно, предназначал ли кардинал свой труд для публикации. Хотя есть мнение, что «Завещание» носило интимный характер, больше распространена гипотеза о «создании собственного образа для потомков5». На это есть указания в тексте, особенно в «Посвящении королю», например: «это сочинение увидит свет под заглавием "Политическое завещание"6».
Если бы я взялась за рассмотрение политической истории Франции, то для меня первым вопросом была бы достоверность. Я сочла бы нужным подчеркнуть такие недостатки труда Ришелье, как его ощутимая субъективность, стремление подчеркнуть авторские заслуги, обеление своего поведения и проводимой политики. Однако для исследователя, занимающегося историей идей, «Завещание» оказывается документом, информативность которого трудно переоценить. Здесь все недостатки превращаются в плюсы, так как нужна именна субъективность. Важны становятся не факты, не скрытый смысл, а идеи и примеры, которые кардинал выдвигает на первый план.
Кроме этого, я использую некоторые важнейшие королевские указы, изданные при деятельном участии Ришелье. Это указ о снесении крепостей, эдикт против дуэлей, запрещение парламентам вмешиваться в королевские дела и т.п. Сведения о других мероприятих кардинала по утверждению своих политических идей среди масс я почерпну из многочисленных его биографий. Наконец, еще один ценны й источник – сочинения других политических философов: Гоббса, Макиавелли, Бодена и прочих.
Литература
Специальных работ по своей теме мне не удалось обнаружить. Ришелье изучался как политик, дипломат, администратор, строитель флота, меценат, и в гораздо меньше степени – как теолог и политический философ (эти две роли были связаны теснее, чем кажется на первый взгляд).
Описание же всей массы литературы о Ришелье не входит в мои задачи, к тому же, эту важную работу уже проделала А.Д. Люблинская, внимательно изучившая историографию персонажа с 19 века и до ее дней. Ограничусь поэтому рассмотрением нескольких важных современных работ, как касающихся Ришелье, так и более общих, но имеющих отношение к теме.
Книга Франсуа Блюша «Ришелье» - не биография в собственном смысле слова, а сборник небольших эссе, в которых он рассматривает разные аспекты жизни, личности и окружения кардинала. Тонкий анализ и впечатляющее знание эпохи в ее политико-культурной сфере отличают эту работу. Автор специально останавливается на те пунктах, которые, по его словам, в историографии упрощаются. В центре его внимания – не Тридцатилетняя война, как у большиства биографов, а христианство после Тридентского собора, основание Французской академии, спор о «Сиде» Корнеля и т.п. Помимо этого, книга собирает все мелочи, слухи и факты о личной жизни кардинала и его привычках. Сознавая недостатки политики Ришелье, его лицемерие, Блюш тем не менее признает его огромные заслуги. Помимо этого, стоит отметить его труд о Людовике XIV, который Хеншелл назвал лучшей биографией этого короля. В ней содержится внимательный анализ правления и взвешенное мнение автора об абсолютной власти, которая на практике оказывается вовсе не безграничной.
Еще одна биография – Энтони Леви «Кардинал Ришелье и становление Франции» - особенно хороша вниманием автора к культурно-социальным аспектам. Рассматривая начало министерства Ришелье как период необычайного культурного оптимизма, Леви исследует политику кардинала и приходит к выводу,
Отечественная историография не столь богата исследованиями этой эпохи. Советская историография занималась сферой социально-экономической, поэтому появляются работы Поршнева о народных восстаниях в правление Ришелье и Фронде. Значительный вклад в разработку марксистского понимания абсолютной монархии внесли А.Д. Люблинская и один из известнейших советских медиевистов Сказкин Д.С.
На данный момент написаны две отечественные биографии кардинала – П.Черкасова и А.Андреева. Первая работа – классическое и добротное жизнеописание, точное в деталях и даже немного сентиментальное. Несмотря на некоторый героический пафос, оно имеет хороший стиль и представляет интересные мнения автора о политике и личности Ришелье. Книга Андреева совсем другая. Она больше напоминает компиляцию мемуарных источников, которые часто и обильно цитируются, заменяя авторский пересказ. Такой подход интересен читателям, ведь они имеют дело с живым словом первой половины 17 века. Однако от серьезной работы ожидается критический анализ и собственное мнение, чего у Андреева значительно меньше, чем отрывков из Таллемана де Рео или Ларошфуко.
Не менее важны работы, не относящиеся напрямую к Ришелье, но значимые опсианием эпохи. Это «Королевская Франция» Ле Руа Ладюри и «Франция Раннего Нового времени» Робера Мандру, известных историков-анналистов, уже упоминавшийся «Миф асболютизма» Хеншелла. Что касается истории идей, здесь мне помогла классическая работа Даннинга «History of Political Theories: From Luther to Montesqieu».
