
XX век: судьба проблемы бытия.
Сохранил ли XX век верность античной традиции? О какой традиции идет речь? Выше уже говорилось о том, что философ XX в. М. Хайдеггер связывал судьбу западного мира с проблемой бытия, рожденной интуицией Парменида. Греческое понимание бытия как бытия сущностного, неизменного, неподвижного определило на многие века тенденции духовного развития Европы, ориентированного на поиски субстанции. Субстанциализм (лат. substantio сущность, нечто, лежащее в основе), т. е. нацеленность на поиски предельных основ существования мира и человека, был характерной чертой как античной, так и средневековой философии.
Атичйая традиция наделяла субстанцию свойством быть объективной реальностью, т. е. быть независимой от человека, его познания и сознания. Новое время, как мы показали ранее, следуя установкам номинализма, объявило, что для нас нет большей и самоочевиднейшей, достовернейшей реальности, чем субъективность. Если античность и средневековый реализм не сомневались в существовании объективного мира и объективного Абсолюта, то, начиная с Декарта, философы ставят это существование под вопрос и предпринимают усилия для его обоснования и доказательства. Сфера бытия — не только Абсолютного, но и предметно-конечного - становится в зависимость от трансцендентальной струкруры личности, человеческого «я». Что это значит?
Понятие «трансцендентальное» воникло еще в схоластической философии и означало бытие, выходящее за сферу конечного, эмпирического мира (лат. transcendens - перешагивающий, выходящий за пределы). Кант придал этому термину иное значение: он употреблял его для обозначения априорных форм чувственности и рассудка, которые, следуя его учению, являются формальными условиями возможности познания мира. То есть Кант считал, что небытие проявляется непосредственно через нас, а мы, благодаря существующим до всякого опыта (априори) пространственно-временным формам созерцания и категориям рассудка, как бы «вылавливаем», а затем соединяем в какие-то целостности те фрагменты бытия, которые могут принять пространственно-временные характеристики. Канта интересовала не проблема бытия, а проблема познания, но познания, занимающегося не предметами, а формами нашего познания предметов, поскольку, с его точки зрения, это познание должно быть возможным априори. Кант был уверен, что человек в познании конструирует, «творит» бытие мира явлений, а в конечном итоге и Абсолютное бытие, Бога.
Кантовская
идея трансцендентализма, имеющая
номиналистически-протестантские
истоки, получила развитие, например
в философии экзистенциализма. В отличие
от Канта, экзистенциализм использует
термин «трансцендентальное»
не в гносеологическом (теоретико-познавательном:
смысле, а в морально-этическом. Если
Кант не видел в трансцендентальной
структуре человеческого «я» ничего,
кроме
априорных форм чувственности и рассудка,
которые и делали возможным познание,
то экзистенциализм вводит в
эту структуру априорную (ни откуда не
выводимую данную
до всякого опыта) внутреннюю готовность
желать безусловного,
признавать его, стремиться к нему. Тем
самым экзистенциализм признает:наличие
в структуре человека внутреннего
«зова» к вечному, абсолютному.
Фундамен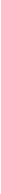
тальная
предрасположенность человека стремиться
к абсолютному и безусловному заставляет
его переживать беспокойство,
испытывать тоску и смятение, если
отсутствует возможность реализовать
данное желание и стремление.
Экзистенциалисты убеждены, что стремление к безусловному — это стремление найти трансцендентную опору, которая помогала бы человеку переносить все житейские трудности и невзгоды. Такой опорой и является Бог. Но Бог, в интерпретации экзистенциалистов, имеет специфическую особенность: он не вне человека, а в нем. Идея Бога как бы вторична, ибо она появляется как ответ на попытки человека успокоить свое стремление к чему-то вечному и устойчиво-надёжному. Субстанциальность Бога становится проблематичной. Бог делается возможным благодаря наличию в трансцендентальной структуре «я» стремления к абсолюту: такое стремление сопровождаемое переживанием, представляет единственную безусловную достоверность.
Итак, Новое время начало трансформировать античную идею объективного бытия: бытие стало субъективным. В XX в. этот процесс углубился и теперь даже Абсолют - Бог стал зависеть от априорной внутренней установки человека на поиски безусловного. И все же новое время не отказалось от античной традиции поиска опоры для человеческого существования. Место Бога занял человеческий разум. Пустынность и неуютность мира без Бога-опоры была закамуфлирована верой в могущество разума. И хотя речь при этом шла не о Разуме, Логосе, а о конечном разуме, имеющем человеческую размерность, но не вселенски-космическую (как это было у Парменида); попытка найти в разуме опору имела явно античные корни. Человеческому разуму были приписаны все способности Разума-Логоса: постигать истину, верно целеполагать, системосозидать, упорядочивать хаос эмпирического бытия, устанавливать причинно-следственную необходимость в связях и отношениях между вещами и явлениями, философы Нового времени опирались на предположение, что человек обладает способностью быть «мерным» (от слова «мера») разуму, который строг и последователен, един у всех людей, сам себе диктует свои законы и принципы мышления. Разум есть условие единства «я» и мира. Он оправдывает существование идеалов общественного развития и в конечном итоге — разумность истории. В силу своей разумности люди признали цённость общих интересов и необходимость самопожертвования во имя общей исторической цели, Торжествовали рационалистические проекты. Ленин в 1908 году высказал мысль о том, что «… в фундаменте самого здания материи можно… предполагать существование способности, сходной с ощущением, и поэтому, логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу родственным с ощущением, свойством отражения».
Возрождения и Просвещения — великих эпох, выразивших доверие разуму и признавших его право на законодательство во всех сферах жизни.
XX век ознаменовался крестовым походом против разума, а это означало разрыв с античной традицией. «Наше ученичество у греков кончилось: греки не классики,— заявил в начале века Ортега-и-Гассе,— они просто архаичны — архаичны и конечно же... всегда прекрасны. Этим они особенно интересны для нас. Они перестают быть нашими педагогами и становятся нашими друзьями. Давайте станем беседовать с ними, станем расходиться с ними в самом основном». Что же предсталяет собой это «самое основное»? Во-первых, греческое понимание бытия как чего-то сущностного, неизменного, неподвижного, субстанциального. Отказ от всякого рода субстанциональности стал нормой философствования в XX в. Во-вторых, признание разума в качестве опоры человеческого существования; разуму было отказано в кредите доверия со стороны человека и общества XX в.
Поход против разума и проблема безопасности человеческого существования. Отказ от античных рационалистических традиций начался еще в середине XIX в. Современник и ученик Гегеля, датский философ С. Кьеркегор выступил против притязаний разума еще при жизни своего учителя, а Ф. Ницше объявил разум «больным пауком», ткущим паутину, опутавшую жизнь людей и превращающую ее тем самым в нечто высохшее и обескровленное, в то время, когда К. Маркс разработал теорию разумного устройства общественной жизни.
Как отреагировало общество на хулу в адрес разума? XIX век еще не готов был расстаться с верой в него, а потому благосклонность и ученых и всего общества была на стороне тех философов, которые верили в разум," в его законодательные способности, гарантирующие универсальный порядок в мире на основе открываемых им истин. К идеям Кьеркегора, Ницше и других критиков разума отнеслись как к бреду шизофреников, и не случайно все они стали клиентами психических клиник. Мысли о несостоятельности разума были'оттеснены на периферию общественной жизни и сознания: они не стали нормой для интеллектуалов, общество ещё не готово было жить без опоры на разум, не готово было отказаться от античной традиции, понимания бытия.
XX
век востребовал идеи критиков разума
и переместил их
в центр интеллектуального пространства.
Кьеркегор, Ницше,
Паскаль и другие были реабилитированы
и стали почита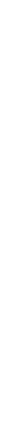 емы.
Возникла даже некая хронологическая
аберрация (искажение, заблуждение):
Гегеля стали воспринимать как далекое
прошлое, а Кьеркегора — как современника.
Щей критиков разума привлекли внимание
3. Фрейда, М. Хайдеггера, Гадамера, Ж.
Деррида, Л. Шестова и других мыслителей
нашего века. Общество объявило их
выдающимися мыслителями еще при их
жизни и тем самым продемонстрировало
свою готовность принять критику
разума. Вывод теории относительности
А.Эйнштейна гласит: «пространство и
время не существуют вне бытия и их
свойства определяются бытием мира».
емы.
Возникла даже некая хронологическая
аберрация (искажение, заблуждение):
Гегеля стали воспринимать как далекое
прошлое, а Кьеркегора — как современника.
Щей критиков разума привлекли внимание
3. Фрейда, М. Хайдеггера, Гадамера, Ж.
Деррида, Л. Шестова и других мыслителей
нашего века. Общество объявило их
выдающимися мыслителями еще при их
жизни и тем самым продемонстрировало
свою готовность принять критику
разума. Вывод теории относительности
А.Эйнштейна гласит: «пространство и
время не существуют вне бытия и их
свойства определяются бытием мира».
Но такого рода «готовность» есть показатель происшедших в мировоззрении и мироощущении людей сдвигах, трансформациях, изменениях. В пользу такого предположения говорит и следующий факт. Люди всегда знали о том, что существует безумие, секс, бессознательное, тюрьма. Но вплоть до конца XIX в. высокая классическая мысль невпускала в пространство своего осмысления и публичного обсуждения эти темы. Государство же относилось к этим сторонам жизни недоброжелательно и часто репрессивно. Причина такого отношения — уверенность в том, что все указанные формы жизни по сути своей антиразумны, а потому разрушительны как для отдельного человека, так и для всего общества. Однако в конце XIX в. во многих европейских странах проблемы секса, безумия, бессознательного легализуются. В XX в. они становятся доминирующими на всем европейском континенте, заполняя собой все виды искусства, проникая в массовое сознание. Так, М. Фуко пишет еще в начале XX в. историю безумия, сексуальности, базируясь на работе Ф. Ницше «Генеалогия морали». Самое загадочное заключается в том, что люди оказались как бы уже готовы отнестись к этой стороне жизни с серьезным почтением, столь серьезным, что в наши дни проблемами сексменьшинств, детской сексуальности занимаются парламенты, дебатируя о возможности юридического узаконивания браков между лицами одного пола, о выделении специальных парков и мест для «свободной» любви. Ученые заняты поисками средств пропагандировать знаний по детской сексуальности ребенку с пятилетнего возраста, Эти процессы зафиксировал язык — самый чуткий индикатор изменеий и мироощущений людей: слово «любовь» уходит из лексики, уступая место слову «секс». Налицо факт: в XX в. изменились люди, вернее их мироощущение, мировоспитание, их душевно-духовно-мыслительные установки. Выступив против разума, мыслители выразила порастающее в обществе осознание бессмысленности и безопорности существования. Почему люди разуверились в разуме как опоре мироздания и порядка, почему они отказались от идеи бытия даже в его субъективной форме? Строго научно ответить на эти вопросы трудно, так же как, считал Хайдеггер, нет ответа па вопрос, почему люди отказались от Бога в качестве опоры бытия. Правда, некоторые философы объясняют кризис веры в разум мировыми войнами — первой и второй, обнаружившейся в XX в. неспособностью людей разумно устроить свою жизнь по законам справедливости, равенства, братства и т. д. Но страшные войны и тяжелые бедствия человечество переживало не только в XX в. Почему же именно на этот век пришлось массовое разочарование в возможностях разума быть опорой и гарантом мира и порядка в нем? Человечеству еще предстоит или найти ответ на этот вопрос, или признать свое бессилие в прояснении подобных вопросов.
Культурные последствия отказа от античной традиции в понимании бытия. Отказавшись от Бога («Бог умер» — Ницше), не надеясь более на разум, человек XX в. остался один на однн со своим телом. Начался культ тела, сменивший культ духа и разума, а это — главный признак язычества. Язычество, или, вернее, неоязычество конца XX в. быстро распространилось по планете, благодаря телевидению и другим средствам массовой информации. Ночные эротические и порнографические телепрограммы взяли на себя своеобразную функцию организаторов массовых оргий на манер диописийских, но с несравненно большим количеством участников. Если в античности культ фаллоса, например, был символичен и ритуальные действия с этим органом скрывали тайные смыслы, связанные с плодородием, здоровьем, судьбой и т. д., то современный секс не содержит символов: его назначение — непосредственное, открытое воздействие на половые инстинкты и удовлетворение, вызываемых ими желаний чувственного наслаждения.
Процессы своеобразного
оязычивания проникли во все виды
искусства. Некоторые авторы
считают, что, к примеру,
рок-культура
представляет собой аналог архаики
(гр.— древний) раннего этапа в развитии
искусства в Древней Греции
и Египте,
а также
Африки. В этом
смысле архаичен и
авангардизм. Его приверженцы попытались
вернуться к изначальным,
самым древним формам жизненной и
художественной практики, к архаике,
к спрятанным в глубинах человеческой
психики
бессознательным
началам
всякой
интеллектуальной
и эмоциональной активности. Так, кубизм
—авангардистское
течение в европейском изобразительном
искусстве
начала XX
в изображая предметы в виде ша ров,
конусов, кубов и других геометрических
фигур, использовал традиции африканской
культуры. Геометрические
фигуры, по мнению авангардистов, являются
теми изначальными
до-культурными символами, которые
оказались
скрытыми под напластованиями культуры,
и с помощью которых
докультурный человек воспроизводил
реальность. Смысл картины Малевича
«Черный квадрат» — в изображении
— открытие этих древних символов.
Авангардное искусство
только на первый, непосвященный взгляд
кажется оригинальным. На самом деле
оно просто «цитирует» сакральные
священные, относящиеся к религиозному
культу
и ритуалу знаки абсолютного начала,
известные архаике.
ров,
конусов, кубов и других геометрических
фигур, использовал традиции африканской
культуры. Геометрические
фигуры, по мнению авангардистов, являются
теми изначальными
до-культурными символами, которые
оказались
скрытыми под напластованиями культуры,
и с помощью которых
докультурный человек воспроизводил
реальность. Смысл картины Малевича
«Черный квадрат» — в изображении
— открытие этих древних символов.
Авангардное искусство
только на первый, непосвященный взгляд
кажется оригинальным. На самом деле
оно просто «цитирует» сакральные
священные, относящиеся к религиозному
культу
и ритуалу знаки абсолютного начала,
известные архаике.
Языческое мироощущение проявилось в музыке А. Н. Скрябина, о чем писали отечественные мыслители А. Ф. Лосев и Г. Флоренский. Скрябин выразил языческое обожествление мира со всеми его несовершенствами и злобой. Слушая Скрябина, хочется броситься куда-то в бездну, хочется вскочить с места и сделать что-то небывалое и ужасное, хочется ломать и бить, убивать и самому быть растерзанным. Нет больше никаких норм и законов, забываются всякие правила и установки... Нет большей критики западноевропейской культуры, как творчество Скрябина, и нет более значительного знака «Заката Европы» (А. Ф. Лосев).
Таким же «знаком» может служить все искусство абсурда. В его основе лежат следующие мировоззренческие установки: существование человека бессмысленно, безысходно, непредсказуемо, повергнуто в хаос и алогизм, человеческий разум бессилен противостоять абсурдности бытия. Поэтому драматурги абсурда, например. Э. Ионеско, чаще всего обращались к гротеску (фр. grotesgue — причудливый, затейливый), создавая образы, вызывающие чувства отвращения, страха, презрения, негодования.
Примеров мировоззренческих изменений, последовавших вслед за отказом признавать разум человека предельным основанием его бытия и гарантом его нормального существования, можно приводить бесконечно много. Но приведенные выше свидетельствуют 6 начавшемся разрыве культур: XX век отверг все основания существования мира и человека, которые признавались прежде, не успев, или не пожелав, предложить новые опоры жизни. Человечество вновь, как и во времена. Парменида, испытывает шок открывшегося сиротства, неприкаянности, неукорененности ни в чем. На смену «онтологическому нигилизму» (Хайдеггер) пришло отрицание разума и разумности человеческого существования, что явно проявилось также в нашей стране после развала СССР, закончившегося парадом «суверенитетов» и бессмысленными, жестокими межнациональными и межрелигиозными войнами и кровавыми распрями. Нарастающий ужас осознания бессмысленности, безопорности, алогичности, неразумности жизни стал фактом нынешней истории страны. Именно в таком смысле мы «вписались» в западную цивилизацию.
Психологический портрет современного европейца, мировоззрение которого не содержит ни опоры на Бога, ни опоры на разум, очень образно рисует Ортега-и-Гассет: человек напоминает избалованного ребенка, с присущим ему беспрепятственным ростом жизненных запросов и, следовательно, безудержной экспансией собственной натуры, а также врожденной неблагодарностью ко всему, что дало ему жизнь и облегчило ее. Философ сравнивает современного человека со «взбесившимся дикарем», именно «взбесившимся», ибо «нормальный дикарь» чтит традиции, следует вере, табу, заветам и обычаям. М.А. Лифшниц считает: « идеальное существует независимо от объективной реальности в форме эйдосов, идеалов, идеальных моделей».
Таким
образом, в XX
в. Европа окончательно отказалась от
античных традиций в понимании бытия.
Люди вдруг ощутили себя живущими в мире,
где нет никаких гарантий и
никаких опор, где все зыбко и плохо
устроено. Разум не сумел
предотвратить страшных войн XX
в. и более того, сам
поработал над созданием средств массового
уничтожения
людей, создав невиданные ранее виды
оружия. Он не мог
обеспечить гармонию и порядок в мире.
Возникло ощущение безопорности во
всех сферах жизни: в экономике, политике,
морали и т. д. Сформировалась эпоха
тотального плюрализма,
для которого нет никакой иерархии
ценностей. Плюрализм (лат. pluralis
— множественный) стал главной
идеей общественного устройства, соласно
которой общественно-политическая жизнь
есть состязание множества
социальных групп и представляющих их
интересов; плюрализм ценностей стал
основой жизни человека и общества: все
стало равно всему, исчезли приоритеты
(лат. prior
— первый):
нравственные, политические, государственные,
экономические,
классовые и т. д. общество атомизирова-лось
в атомы-индивиды, разрушив ценностную
вертикаль, где
был низ — верх, конец — начало,
спроецировали все ценности
на горизонтальную поверхность, уравняв
их в пространстве
и времени своего бытия. Возникло огромное
разнообразие
ценностей, каждая из которых замыкается
на личностное
«я так хочу»
претендуя
на свое право утверждать себя без
оглядки на другие ценности, без попытки
соотнести
себя с ними; если нет вертикали — иерархии
ценностей,
то нет и надобности примерять свое
содержание к тому, что выше и, следовательно,
более истинно.
Все сказанное выше напоминает ситуацию времен Парменида, но с одной оговоркой: во времена Парменида люди, испытав ужас осознания безопорности бытия, вызванного разрывом с традицией, начали искать новые силы, которые блокировали бы переживания этого ужаса. В XX в. люди пытаются уйти от переживания страха, сопровождающего разочарование в возможностях разума быть опорой, в разрушении иерархий ценностей, а в конечном счете — в игру, правила которой создаются людьми и ими же произвольно изменяются. Наш век рекомендует людям не быть очень серьезными, ибо никто не знает, как правильно жить, никто не вправе диктовать, какой должна быть жизнь. Все оправдано тем, тем что ничего в этом мире нет навеки.Надо жить, но знать, что ни в чем нет опоры, и нет таких ценностей, которые выступали бы в качестве эталонов истинности и меры бытия.
Изменение мировоззрения в XX в. повлекло за собой не только новую постановку вопроса о бытии, по пересмотр стиля и правил интеллектуальной деятельности.
Философия постмодерна: новая идея бытия. Термин «постмодерн» означает буквально «после модерна». Слово «модерн», (от фр. modern — современный) впервые было употреблено в V в. и. э. для разграничения обретшего официальный статус христианского настоящего и языческого римского прошлого. С тех пор «модерность», как принадлежность к современности, всегда предполагала необходимость для сознания эпохи соотносить себя с античностью. Европа пережила немало периодов перехода от старого к новому, поэтому «модерными» (новыми, современными) считали себя практически все века. Но каким бы ни был новый культурный век, он не просто формировал новые ценностные ориентиры, правила интеллектуальной деятельности и т. д., но всегда делал это на базе обновленного отношения к античности. Культура «модерна» любой эпохи всегда оглядывалась на античность и критикуя ее, все же никогда полностью от нее не отказывалась. Например, художники «модерна» во все времена воспринимали античное искусство как нормативный образец. То же происходило в области философии и философствования, Как показано выше, философия вплоть до середины XIX в. воспроизводила, с теми или иными отклонениями, античный способ философствования, положенный парменидовским вопросом о бытии. Именно отношение к бытию определило специфику антично-греческого филососрствования, отличную, например, от формы философствования в Древней Индии, в которой бытие рассматривалось как нечто призрачное, что целиком закрывало путь к реализму.
Постмодерн в философии - это отказ от греческой традиции, который обозначил, сделал явным тот факт, что в мировоззрении людей в их менталитете произошли глубинные подвижки-изменения. Выше уже говорилось о том, что еще в середине XIX в. ученик Гегеля Кьеркегор отошел от классической философии, выступил против разума, отказался работать в классических философских категориях, что потребовало перехода на новый философский язык, изменило привычный философский текст. Постмодерн в философии — это транссрормация классического образа философии, которая началась в эпоху философской классики, Гегель и Кьеркегор - современники. Поэтому нельзя считать, что постмодерн пришел на смену модерна и что в хронологическом порядке; он есть нечто, возникшее после модерна. Постмодерн в философии жашет рядом с классикой, как Кьеркегор жил рядом с Гегелем, принял его диалектику, чтобы потом разрушить ее.
Ставится
ли проблема бытия в философии
постмодернизма,
и если — да, то как она решается? Чтобы
ответить на данный
вопрос, сделаем снова небольшой экскурс
в V
- IV
вв. до
н. э., вернувшись к рассмотрению ситуации,
когда греки потеряли веру в традиционных
богов, однако испытав ужас безопорного
существования, начали поиски сил,
гарантирующих
порядок и душевный покой. В этот переходный
период, когда
традиционные опоры человеческого
существования рухнули,
а новые еще не сформировались, Парменид
ввел в философию
проблему бытия как чего-то устойчивого,
неподвижного,
вечного, находящегося за миром конечных
явлений. Но
в
это
же самое
время
другой философ Гераклит — предложил
грекам иное толкование бытия. Он заявил,
что бытие по
своей сути есть вечное изменение,
процесс, развитие, движение. Грека
предстоял выбор: они, как мы знаем,
предцрч-ли
парменидовскую трактовку бытия. Несколько
огрубляя проблему,
можно сказать, что постмодерн
востребовал гераклитовскую
версию бытия,
что сразу же повлияло на сложившиеся
традиционные для Европы (формы философского
мышления, а также на его словесное
выражение в тексте: философские
тексты потеряли границы, отличающие
их от
иных текстов, например, художественных.
К
середине XX
в стало ясно, что философы, развивающие
идею бытия как становления, попытались
во – первых,

обосновать
эту идею, доказать ее право на доминирование
в культуре,
а во-вторых, найти соответствующую
словесную терминологическую,
понятийную, мыслительную форму для
выражения данной идеи.
Почему же потребовались столь радикальные изменения в практике философствования с переходом к идее бытия как становления? Вспомним, что парменидова идея бытия определила на многие века тенденцию выводить все изменяющееся из неизменного. На процесс изменения накладывались рамки необходимости, законособразности, подчиняющие хаос изменений порядку причинно-следственного отношения, не позволяющего процессу изменения протекать как угодно. Такое понимание и легло позже в основу научного мировоззрения. Мышление же в подобной ситуации отрабатывало приемы и методы описания порядка, устойчивых связей и отношений, которые с необходимостью формировались в мире конечных эмпирических вещей то ли под влиянием Божественного Логоса (как считал Парменид), то ли в силу конструктивной деятельности трансцендентального субъекта (как это понимал Кант). Но в любом случае философы, даже если предметом их внимания был процесс изменения, развития (к примеру, Гегель), описывали его с помощью логических форм мышления (суждений, умозаключений) и логических форм мысли (категорий): сущность, явление, возможность, действительность, причина, следствие и т. д. Отсюда неизбежная системность изложения проблемы, четкая постановка цели исследования, строго логическое развертывание рассуждений.
Можно сказать иначе. Философы-классики описывали не столько процесс, сколько его результат, рационально систематизированный. В философский текст была заложена четкая и жесткая исследователская программа, он всегда содержал глубокий смысл, который передавался с помощью категориального мышления. Философское произведение всегда представало перед читателем в своей завершенной форме, с систематизированным содержанием, и читатель мог, приложив определенные усилия, проследить логику мысли автора. Все главы и параграфы текста были связаны между собой: все они представляли развертку, все более «и более глубокую, рассуждений об одном и том же предмете или предметах. При этом автор-философ, конечно же, никогда сразу не находил ни нужного объяснения исследуемо предмета, ни тем более адекватных слов для передачи своих мыслей. И то, и другое всегда было сопряжено с поиском часто "мучительным, с многолетними раздумьями," с огромной и трудной работой «выговаривания» в слове их результатов. Однако все следы этой «черновой», предшествующей работы мысли и поиск адекватных слов из текста всегда устранялись, и читатели имели дело с «отстоявшимися мыслями», с более или менее удачной, но всегда законченной, формой их выражения.
Итак, философия давно знала, что мысль существует как бы в двух временных интервалах: есть время мышления, когда оно еще не оформлено, еще хаотично и пульсирует, нагромождая мысль на мысль, перебивая их образами; мысль течет, не придерживаясь строгих логических правил и требований категориальной упорядоченности. Мысль как бы нащупывает подступы к решению проблемы, ее форма находится в становлении, она еще не прояснила для себя самой своего содержания. И есть другое время существования мысли, когда она пытается привести свое содержание в порядок, в систему, опираясь на логические законы и категории. И если в первом случае мысль не предназначалась для внешнего наблюдателя или читателя, то во втором случае она озабочена тем, чтобы обдуманно выстроить свои доводы, расположить аргументы «за» и «против» логически четко и точно и этим сделать свое содержание понятным для внешнего наблюдателя.
Философия постмодерна, опираясь на идею бытия как становления, взяла на себя задачу показать, объективировать мысль, находящуюся в становлении. «Естественная природа мысли», по мнению таких философов, как Ф. Ницше, М. Фуко, М. Мерло-Понти, Т. Адорно, Ж. Деррида и др., «не передается в полной мере с помощью логики». Совсем наоборот: логико-категориальная аранжировка (фр. arranger — приводить в порядок) мыслей, неизбежно вносит изменения в их содержание, лишает их первозданной эмоциональной наполненности, превращаем их в «выжимки» из полнокровной мыследеятельности. Разумеется, никто не отрицает, по мнению названных философов, что переложение мыслей на язык логики облегчает не только изложение мыслей, но и. их понимание другими, ибо категории и законы логики универсальны для всех культур. Однако при этом мы трансформируем ее, навязываем ей порядок, не свойственный пребыванию ее в бесформенном состоянии.
Но
чтобы выразить в слове-тексте данное
состояние мысли,
нужны иные, отличные от классических,
правила интеллектуальной
деятельности, стили говорения, нужен
новый категориальный
язык. Поэтому все вышеуказанные философы
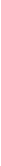

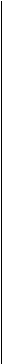
 занялись
своеобразным экспериментированием в
поисках соответствующей
словесной и категориальной формы для
выражения становящейся мысли. Отсюда
резкое отличие текстов классического
и неклассического философствования.
занялись
своеобразным экспериментированием в
поисках соответствующей
словесной и категориальной формы для
выражения становящейся мысли. Отсюда
резкое отличие текстов классического
и неклассического философствования.
Философ постмодерна отказывает разуму в правах, всякую претензию на поиск истины объявляет ложной, отказывается от построения философской системы, не признает подчинение мышления заданным формам и законам, утверждает, что словесно-языковое выражение мысли всегда случайно, считает, что наиболее адекватной формой выражения становящегося мышления служит внерациональная словесная текучесть. Эти особенности философского текста прямо связаны с изменением отношения к бытию. В постмодернистском философском произведении отсутствует все объясняющий концепт: за описываемыми явлениями нельзя обнаружить никакой глубинной сущности, будь то Бог, Абсолют, смысл жизни, Истина, Разум и т. д., которая, во-первых, служила бы условием возможности существования этих явлений, во-вторых, гарантировала бы возможность их постижения, в-третьих, являлась бы смысловым центром как для автора, так и для читателя, не допуская возможности бесконечного множества интерпретаций (лат. interpfetatio — посредничество), или истолкований содержания текста.
Философский текст становится многоосмысленным, авторы больше не претендуют на истинность своих исследований-рассуждений. Они часто рассматривают себя в качестве участников бесконечной коммуникации, в пространстве которой сообщения бродят по каналам коммуникации, искажаясь, меняя адресат. Источник первоначального сообщения теряется в неопределенном прошлом, постичь которое нельзя принципиально. Философы, литераторы, поэты получают информацию — послание неизвестно откуда, передают ее дальше наугад, без определенного адресата, искажая ее.
Именно так, по мнению Ж. Деррида, писалось даже Откровение Св. Иоанна, т. е. так называемое Апокалиптическое послание, в котором, считает философ, «источник информации неясен и даже скрыт». Как это понимать?
Р. Деррида утверждает: «проанализировав текст Апокалипсиса, я пришел к выводу: Иоанн пишет не о том, что ему самому непосредственно открывается, но лишь передает содержание, диктуемого мне неизвестно кем». Ему слышится голос цитирующий Иисуса, голос самого Иисуса, речь, цитирующая Бога слышатся голоса ангелов и т.д. Все эти послания постоянно перекрещиваются, и неясно, кто и кому говорит. Нет никакой гарантии, что именно Иоанн был главным адресатом названных посланий. Ситуация напоминает бесконечный компьютер, в котором заложено бесконечное число коммуницирующих, что делает невозможным выделение «начального сигнала» (читай — Бога) и определение четкого адресата.
Философия теряет своп границы, очертания философского текста размываются и философия начинает существовать в каком-то «рассеянном» виде — внутри стихов, фильмов, музыки и т. д. Возникает ситуация, когда акт философствования практически уже не зависит от профессиональной подготовки и более того, последняя рассматривается как помеха этому акту. Философия становится уже не профессиональной деятельностью, к числу философов постмодерн XX в. относит писателей, например, А. Белого, В. Хлебникова, М. Пруста, Е. Шварца, кинорежиссеров — С. Эйзенштейна, Феллини и др. «Все дозволено», «ничего не гарантировано» - главный пафос сознания постмодерна. Все «священное» и «высокое» воспринимается как результат самообмана людей, иерархия «тело - душа - дух» давно разрушена, а духовность и душевность воспринимаются как признаки слабоумия и шизофрении. Человек больше нн во что не верит и ему уже «нечем» верить.
Если в классической философии, опирающейся на парменидовское понимание бытия, акт непрерывного трансцендирования (ритуального, интеллектуального и т. д.) признавался в качестве важнейшего момента существования человека, ибо он был гарантом существования идеалов, иерархии ценностей, вертикали «высшее — низшее», то в философии постмодерна человеку рекомендовано, не строить иллюзии по поводу обретения новых ценностей (ведь прежние, как мы отметили, уже разрушены), а просто воспринимать жизнь как она есть, без попыток диктовать, какой ей быть. Мир повседневности и обыденности превращается в главную, ценность и главную тему философских размышлений (см. подробно в главе «Философия повседневного мира»). «В этом мире господствуют сиюминутные интересы конечных эмпирических индивидов, каждый из которых считает Себя законодателем своих этических, эстетических, политических и иных устремлений. Добро, Истина, Красота — эти Абсолютные ценности — оттеснены на периферию общественной и индивидуальной жизни и сознания».
Философия
больше не работает с категориями
сущность, закон,
причина устойчивый
порядок бытия, его определенность;
главной ха
 рактеристикой
общества и природы
объявляется
неопределенность.
Возникло целое научное направление -
синергетика, которое
исходит из признания в качестве принципа
самодвижения
материи возникновение порядка из
беспорядка, хаоса. Ученые Л. М. Жаботинский,
Б. П. Белоусов, а также их последователи
— бельгийская школа во главе с И.
Пригожиным,
разрабатывают новую, нетрадиционную
концепцию самоорганизации природы
как процесса взаимодействия противоречивых
тенденций: неустойчивости — устойчивости,
дезорганизации
— организации, беспорядка — порядка.
Однозначно
предсказать результат такого взаимодействия
невозможно:
в ситуациях неопределенности в силу
вступает вероятность,
как мера превращения возможности в
действительность.
Впоследствии вероятностно-неопределенностные
характеристики
были перенесены на общество.
рактеристикой
общества и природы
объявляется
неопределенность.
Возникло целое научное направление -
синергетика, которое
исходит из признания в качестве принципа
самодвижения
материи возникновение порядка из
беспорядка, хаоса. Ученые Л. М. Жаботинский,
Б. П. Белоусов, а также их последователи
— бельгийская школа во главе с И.
Пригожиным,
разрабатывают новую, нетрадиционную
концепцию самоорганизации природы
как процесса взаимодействия противоречивых
тенденций: неустойчивости — устойчивости,
дезорганизации
— организации, беспорядка — порядка.
Однозначно
предсказать результат такого взаимодействия
невозможно:
в ситуациях неопределенности в силу
вступает вероятность,
как мера превращения возможности в
действительность.
Впоследствии вероятностно-неопределенностные
характеристики
были перенесены на общество.
Итак, рассмотренное нами изменение отношения к бытию сопряжено с глубинными мировоззренческими сдвигами, которые философия осмысляет, каждый раз заново перетолковывая тему бытия на своем языке и своими специфическими средствами.
Постмодернистская философия в своем понимании бытия не начинает, а завершает старую линию развития той культуры, в которой «Бог умер». Подлинно же новое толкование бытия в философии будет возможно в том случае, если сформируется мировоззрение, в корне отличное от современного. Но это вопрос будущего.
