
1678 Млн дол. (10 046 млн - 8368 млн), тогда как год назад сальдо движения капитала было положительным (200 млн дол.).
Этот очень тревожный факт лишний раз свидетельствует о том, что хотя привлекательность вложений в экономику западных стран, переживающую сейчас не лучшие времена, очевидно понизилась, российские предприниматели и держатели капиталов все же отдают им предпочтение перед вложениями в экономику собственной страны. Возможно, здесь сказывается и определенная инерционность экономического поведения, характерная для российских предпринимательских кругов.
Отраслевая структура иностранных капиталовложений носит неустойчивый характер, однако по наиболее принципиальным направлениям она существенно не меняется.
В первом полугодии 2002 г. по сравнению с первым полугодием 2001 г. доля промышленности в общей их сумме повысилась с 37,2 до 38,8%, торговли, включая оптовую, и общественного питания — соответственно с 38 до 44, транспорта — понизилась с 5,9 до 0,9, строительства — с 2,7 до 0,4%.
В промышленности основная часть притока иностранного капитала пришлась на долю нефтедобывающей отрасли (24,7% всех вложений в промышленность), пищевой (19,8), цветной металлургии (15,4) и машиностроения, включая металлообработку (7,5%). Доля нефтедобывающей промышленности и цветной металлургии в общей сумме поступления ресурсов заметно повысилась, других отраслей — осталась примерно прежней или немного понизилась.
Крупнейший компонент притока иностранного капитала — «прочие инвестиции» распределились следующим образом: торговля, включая оптовую, и общественное питание — 48% (против 42,3% за идентичный период предыдущего года), промышленность — 36 (38,8), общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка — 5,6 (7,2), связь — 4 (3,1), прочие отрасли — 6,4% (8,6%).
Доля внешнеторговых кредитов, учитываемых в строке «торговля, включая оптовую, и общественное питание» (это, видимо, только часть кредитов такого рода), составила 28,4%. Среди промышленных отраслей основными получателями «прочих инвестиций» были все та же нефтедобывающая отрасль, черная и цветная металлургия, а также пищевая промышленность.
Из незначительных по размерам портфельных инвестиций почти половина пришлась на долю промышленности.
В прямых инвестициях резко упал удельный вес строительства, транспорта и связи. Доля же промышленности возросла с 33,2 до 47,4%, хотя сам объем вложений в эту отрасль увеличился незначительно.
В составе промышленности повысилась доля прямых инвестиций в машиностроение и металлообработку, но это скорее всего случайное явление. Размеры вложений в эту отрасль могут меняться в ту или иную сторону, но неизменно остаются очень небольшими. В развитых экономиках основная часть прямых иностранных инвестиций в промышленности обычно падает как раз на долю машиностроения. Практически не привлекает иностранный капитал находящаяся в глубоком кризисе отечественная легкая промышленность.
В 2002 г. уменьшились объемы прямых инвестиций в черную металлургию, в лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную отрасль.
Основным источником иностранных прямых инвестиций в российскую промышленность были поступления из Великобритании (16,7%), США (15,5), Кипра (13,7), Германии (12,6) и Нидерландов (11,4%). В том числе основная часть вложений в машиностроение и металлообработку поступила из США (47,8%) и Германии (19,6%).
К середине 2002 г. по сравнению с серединой 2001 г. объем накопленных иностранных инвестиций возрос на 4,3 млрд дол., а по сравнению с концом 2001 г. — на 2,5 млрд, т.е. соответственно на 12,7 и 7,1%. В общей сумме этих вложений доля прямых инвестиций значительно выше, чем в сумме притока иностранного капитала за полугодие (49% против 22%), что вполне объяснимо, если вспомнить об экономическом содержании категории «прямые инвестиции» и их долгосрочном характере.
С «прочими инвестициями» ситуация обратная: в притоке капитала за полугодие они составляют 75%, в накопленных на середину года капиталовложениях — 47,5%.
Список стран, являющихся крупнейшими «поставщиками» иностранного капитала в первом полугодии 2002 г., не полностью
совпадает со списком стран, являющихся основным источником накопленных иностранных инвестиций по состоянию на середину того же года.
Наиболее заметно отличие по США, которые в первом списке занимают лишь 6-е место (их инвестиции в российскую экономику сократились за год на 32%), а во втором списке — 2-е место (среди прямых инвесторов даже 1-е место).
Второй список за год почти не изменился, лишь Франция и Великобритания поменялись в нем местами.
В число семи крупнейших долгосрочных прямых инвесторов по состоянию на середину 2002 г. входят Япония (6-е место) и Швейцария (7-е место).
В 2002 г. на 2-е место по размерам накопленных прямых инвестиций вышел Кипр, вложения которого в экономику России в последние годы особенно возросли. Однако инвестиции Кипра — это фактически беглый российский капитал, возвращающийся в страну. Впрочем, и в инвестициях других стран такой капитал, видимо, занимает немалое место.
Официальные данные об инвестициях России за границей очень ненадежны, но за отсутствием других приходится пользоваться ими.
Вывоз капитала из России за рубеж значительно возрос в первом полугодии 2002 г. по сравнению с таким же периодом прошлого года — на 3562 млн дол., или в 1,55 раза, достигнув 10 046 млн дол.
Характерная особенность этих инвестиций, немало говорящая об их природе и краткосрочном характере, — значительное превышение суммы ежегодного (и даже полугодового) вывоза (оттока) российского капитала над суммой накопленных за все годы российских инвестиций в других странах.
Последняя составляла на середину 2002 г. всего лишь 3809 млн дол. (в середине 2001 г. — 2553 млн, в начале 2000 г. — 1785 млн).
Во всех инвестициях российских организаций за границей в первом полугодии 2002 г. по сравнению с данными за первое полугодие предыдущего года доля прямых инвестиций составляла всего лишь 0,8% (3,4%), портфельных - 0% (0,3%) прочих - 99,2% (96,3%).
Прочие инвестиции включали торговые кредиты — 37,3% (19,6%), прочие кредиты — 3,6% (0,3%), банковские вклады — 58,3% (80%).
Или в другом сопоставлении: на банковские вклады приходилось 57,8% всех российских зарубежных вложений капитала.
Из общей суммы вывоза российского капитала за полугодие более половины пришлось на вложения в США (5556 млн дол., в первом полугодии 2001 г. — 4790 млн), в основном совершаемые в форме банковских вкладов.
Два последующих места в списке крупнейших импортеров российского капитала занимают офшорные зоны — Кипр (2136 млн дол.) и Виргинские о-ва (702 млн).
Накопленные на середину 2002 г. российские инвестиции за рубежом по видам распределяются следующим образом: прямые — 63,3%, портфельные — 4,2, прочие — 32,4%. Среди стран, в которых они размещены, на первое место вышла Белоруссия (15,3%, в том числе 24,1 накопленных прямых инвестиций), которой еще год назад вообще не было в числе десяти крупнейших импортеров российского капитала. Второе место занимает Иран (15,1%, в том числе 23,9 прямых инвестиций), третье — Кипр (12,8), четвертое — Нидерланды (11,6) и пятое — Либерия (6%).
Интересно, что если в вывозе (оттоке) российского капитала за первое полугодие 2002 г. на США приходилось 55,3%, то в накопленных на середину года инвестициях — лишь 2,1% (79 млн дол.). Это результат того, что вложения в США делаются в основном в форме краткосрочных банковских вкладов.
Помимо Белоруссии более-менее заметные суммы накопленных российских инвестиций в странах СНГ зафиксированы в Молдавии (170 млн дол.) и Армении (127 млн).
Российские вложения на Украине составляют пока всего лишь 59 млн дол. (6,2% всех накопленных российских инвестиций в странах СНГ). Доля Белоруссии в этом же измерении — 61,7%, Молдавии — 18 и Армении - 13,4%.
В настоящий период по различным причинам в нашей стране, к сожалению, нет четкой экономической программы, способствующей значительному притоку инвестиций в экономику России. Программа есть, но приток инвестиций незначителен. Нет особого смысла рассуждать о том, плохая или хорошая программа, — важен результат. Если инвесторы не хотят вкладывать финансовые ресурсы в предприятия России, то существует необходимость в определенной корректировке экономической программы.
Существенное повышение мировых цен на нефть, девальвация национальной валюты и сокращение импорта обеспечил в 1999— 2000 гг. значительное положительное внешнеторговое сальдо, увеличение промышленного производства и ВВП — вот то немногое, что привлекает рисковый капитал в Россию в виде портфельных инвестиций. В случае снижения по различным причинам (падение цен на энергоресурсы, увеличение импорта, выплата внешнего долга и т.д.) положительного сальдо платежного баланса страны вновь возникают условия для девальвации рубля, снижения уровня жизни населения, резкого падения цен на все финансовые инструменты и бегства капитала.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешное развитие экономических процессов в России зависит от конъюнктуры на мировых товарных и финансовых рынках. Для такой страны, как Россия, это неприемлемо. Списать неудачи в экономических реформах на плохую финансовую конъюнктуру в других странах — значит снять с себя ответственность. Россия в большей степени, чем другие страны, обеспечена ресурсами, и благоприятная ситуация на товарных и финансовых рынках должна только ускорять развитие экономики.
В отношении к мировому финансовому рынку в России многое предстоит сделать. Еще более неопределенным видится участие России в операциях с производными финансовыми инструментами. При этом проблема осложняется действием как объективных, так и субъективно российских причин.
Международный срочный рынок достиг достаточно высокого уровня развития. Ситуация внутри России, можно сказать, обратная.
Некоторого развития биржевой рынок срочных контрактов в современной России достиг в 1997 г. В это время действовали три фьючерсные биржи с хорошими оборотами торгов — Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ), Московская центральная фондовая биржа (МЦФБ) и секция срочного рынка ММВБ. У каждой из трех бирж была своя специализация.
На РТСБ в 1997—1998 гг. торговались преимущественно поставочные фьючерсные контракты на акции трех эмитентов — нефтяная компания «Лукойл», Российское акционерное общество «ЕЭС России» и акционерное общество «Мосэнерго».
Особенностью фьючерсных контрактов было то, что их цена выражалась в долларах. Это обстоятельство было крайне важным для
хеджеров, поскольку они несли валютные риски не на всю стоимость хеджируемого портфеля, а лишь в пределах среднедневной вариационной маржи, начисляемой в рублях.
Все же главную роль на РТСБ играли не хеджеры, а спекулянты. Ими выбирался одни контракт, как правило, с поставкой в ближайшем месяце, на который приходилась львиная доля всего оборота биржи.
На РТСБ помимо электронной была и торговля «с голоса», существенно более дешевая для участников (практически бесплатная). Поэтому спектр участников был чрезвычайно широк — от банков и крупных брокерских контор до студентов и пенсионеров.
Электронная система этой биржи была чрезвычайно удобна для исполнения заявок: чтобы отправить заявку в торговую систему, достаточно было нажать две клавиши.
Показателем, демонстрирующим активность спекулянтов на РТСБ, может служить факт, что дневной оборот по избранному контракту в несколько раз превышал совокупный объем открытых позиций, оставляемых «на ночь». Такая активность обеспечивала сверхвысокую ликвидность контракта: спрэд между спросом и предложением почти всегда равнялся минимальному шагу цены, а объем, с которым можно было легко разместиться «в моменте», в несколько раз превышал величину стандартного лота в РТСБ. Такая ликвидность привлекала и арбитражеров.
В отличие от РТСБ на МЦФБ гораздо дольше сохранялась ликвидность по контрактам на ГКО и доллар. Это обусловлено тем, что на МЦФБ гораздо сильнее были представлены банки: среди участников был и Сбербанк России. Коммерческие банки по инерции продолжали торговать контрактами на курс ГКО и среднюю доходность даже в 1997 г., когда рынок ГКО был «зажат» Банком России и утратил свою привлекательность для спекулянтов. Несколько позже МЦФБ допустила к торговле фьючерсные и опционные контракты на акции Лукойла.
Ликвидность по контрактам на корпоративные бумаги на МЦФБ была несколько ниже, чем на РТСБ.
Срочная секция ММВБ начала свою деятельность в сентябре 1996 г. Традиционными для нее были именно валютные инструменты. Участниками торговли в секции стали крупнейшие московские банки. К весне 1998 г. дневной оборот составлял приблизительно 100 тыс.
контрактов (100 млн дол.), а объем открытых позиций достигал фантастических величин — 1 млрд дол. Глубина торговли контрактом на доллар составляла полгода.
В июне 1998 г. к торговле были допущены инструменты, очень похожие на опционы. Формально же они были названы фьючерсами с минимальной и максимальной ценой. В секции также торговались контракты на ГКО, акции и сводный индекс ММВБ, но их доля в общем обороте секции была ничтожно мала.
На каждой бирже была своя система управления рисками, свой подход к маржированию, гарантиям и расчетам. Однако ни одной из трех срочных бирж не удалось сохранить торговлю.
Первым ударом для российских срочных бирж стал кризис 29 октября 1997 г., когда индекс Доу-Джонса упал на 500 пунктов, а русские акции посыпались на одну четвертую и более.
РТСБ и ММВБ продолжали торговлю, не считая это обстоятельство форс-мажором. А МЦФБ не устояла: позиции участников были ликвидированы по некоторой абстрактной расчетной цене, не соответствующей рыночной. Часть клиентов, обслуживавшихся на МЦФБ, перешли на РТСБ. Однако спустя некоторое время МЦФБ смогла убедить участников в своих возможностях и продолжила торговлю вплоть до осени 1998 г.
Второй жертвой стала РТСБ. В конце мая 1998 г. биржа прекратила исполнять клиентские поручения на отзыв денежных средств. А1 июня было объявлено о прекращении торговли и ликвидации позиций. Сделки, заключавшиеся в этот день, были признаны недействительными, кроме адресных, которые урегулировались самими брокерами. Новые органы управления биржей впоследствии пытались возобновить торговлю, но дневной оборот был в сотни раз меньше оборота до краха и не позволял бирже оправдывать свое существование.
Часть брокеров РТСБ ушли на ММВБ. Кто-то вступил в срочную секцию, а кто-то стал клиентом. В результате ликвидность на ММВБ возросла по всем контрактам. Но, к сожалению, ненадолго, так как приближалось 17 августа 1998 г.
После объявления Правительством РФ своих решений руководство биржи инициировало ликвидацию всех позиций. Не помогли ни предварительное увеличение депозитной маржи, ни страховой фонд ММВБ. Решение было оправданно: через две недели рубль стал стоить около 5 центов.
Некоторые участники срочной секции не согласились с ситуацией и подали в суд на биржу. Но суд решил дело в пользу руководства биржи.
Эффективно решить задачу управления валютными рисками при помощи ММВБ участники и их клиенты не смогли, и в декабре 1998 г. никто им доллары по 9 руб. не поставил.
Следует отметить, что непосредственно перед кризисом, когда его можно было предвидеть, руководство секции не отрицало возможности ликвидации позиций по некоторой абстрактной цене в случае девальвации рубля, т.е. девальвация рубля признавалась форс-мажором. Это помогло избежать убытков осторожным и предусмотрительным инвесторам, имевшим летом 1998 г. намерение хеджировать свои риски по рублевым активам на ММВБ и впоследствии от них отказавшимся.
Сегодня фьючерсной торговли в России почти нет, есть только ее отдельные микроскопические проявления. Возродить торговлю в объемах, близких к прежним, не удалось. Фьючерсные брокеры, создавшие «критическую массу» на рынке в 1997—1998 гг., рассеялись. Одна часть из них стала клиентами на американские биржи, другая — торгует на наличном рынке.
В помещении бывшей РТСБ несколько контор предлагают «плечевую» торговлю акциями. Именно они делают обороты на ММВБ по акциям РАО «ЕЭС России». Так, один из банков наторговал почти на 1 млрд дол. — очень хороший показатель на настоящий момент.
Опросы профессиональных участников рынка показывают, что интерес к срочному рынку сохранился у всех, но необходимо построить четкую, понятную, законодательно обеспеченную систему гарантий и конкретный механизм контроля над финансовой деятельностью бирж.
Среди возможных и наиболее перспективных инструментов называются срочный контракт на покупку (продажу) долларов США за российские рубли, фьючерс на индекс РТСБ, а также фьючерсы и опционы на «голубые фишки»: на РАО «ЕЭС России», Газпроме, Лукойле, Татнефти.
Как наиболее перспективную в отношении фьючерсной торговли следует отметить биржу «Санкт-Петербург». Сейчас это самая активная биржей, на которой ведется торговля срочными контрактами.
Биржа «Санкт-Петербург» реализует проект создания межрегионального рынка фьючерсов и опционов с целью сделать этот рынок более удобным и привлекательным для участников торговли из разных регионов России, прежде всего из Москвы. Совершенствуется система удаленного доступа к торгам. Создано представительство в бывшем помещении РТСБ.
Руководящий состав биржи «Санкт-Петербург» считает, что основные проблемы, препятствующие развитию срочного рынка, — это отсутствие прежде всего необходимой нормативной базы, а также чрезмерно высокая динамика цен на рынках базового актива, что создает дополнительные трудности для системы гарантий на срочном рынке. Нужен новый закон, четко регулирующий торговлю фьючерсными и опционными контрактами в России. Необходимо также обеспечить абсолютную прозрачность расчетной системы, ее подконтрольность со стороны участников торгов.
Бирже «Санкт-Петербург» удалось преодолеть кризис благодаря тому, что их гарантийная система изначально была построена таким образом, чтобы выдержать максимальный риск. Они требовали авансового внесения средств гарантийного обеспечения, причем денежные средства всегда составляли значительную ее часть. К тому же управление средствами гарантийного обеспечения и страхового фонда, формирование залоговой политики находятся на этой бирже под контролем биржевого совета и его комитетов, состоящих из самих участников рынка.
С октября 1999 г. на бирже активно работают четыре маркет-мей-кера, в обязанности которых входит поддержание жестких двусторонних котировок с крупными лотами по фьючерсному контракту на курс акций РАО «ЕЭС России».
Дальнейшие планы биржи «Санкт-Петербург» по организации торговли срочными контрактами: развитие депозитарной системы, которая обеспечила бы обращение контрактов на акции РАО «ЕЭС России» и Лукойла с их поставкой; проведение дальнейших мероприятий по повышению прозрачности расчетной системы рынка; развитие сети удаленных терминальных залов, в том числе региональных.
Как видим, планы у руководителей биржи «Санкт-Петербург» масштабные. Что из этого выйдет — покажет время. Можно только надеяться, что им удастся оживить торговлю производными финансовыми инструментами в России.
Что касается российского РКД, то он находится в зачаточном состоянии. Обладая значительными преимуществами и неоспоримыми достоинствами, РКД тем не менее представляет собой относительно молодой рынок с еще не сложившейся структурой, невысоким уровнем ликвидности и недостаточно мощной нормативной базой. Его развитие на текущем этапе происходит преимущественно вокруг мировых финансовых центров (Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур), и это отчасти объясняет весьма скудную российскую практику применения кредитных деривативов. Кроме того, существуют и следующие объективные причины:
высокий уровень недоверия иностранных инвесторов к рос сийским заемщикам, включая Правительство РФ, что находит отра жение в высоком уровне странового риска и соответственно высо ком уровне премий по кредитным деривативам;
отсутствие минимально возможного набора информации о российских корпоративных заемщиках, необходимой для адекват ной оценки страхуемого кредитного риска;
крайне низкий уровень развития российского рынка произ водных финансовых инструментов и фактическое отсутствие в Рос сии законодательного регулирования операций с деривативами.
Эти причины обусловили нынешний характер операций с кредитными деривативами на российские долги и крайне медленное развитие собственно российского РКД.
Российскую практику на РКД можно разделить на два крупных блока:
заключаемые в мировых финансовых центрах операции купли-продажи кредитных деривативов, выписанных на российские долговые обязательства (от государственных бумаг до корпоратив ных облигаций) либо на кредитные риски российского происхожде ния (синдицированные кредиты, программы проектного финанси рования, риски по различным инвестиционным проектам и т.д.);
операции с кредитными деривативами, совершаемые непо средственно российскими участниками, в том числе по инструмен там, предоставляющим защиту от российских кредитных рисков.
Развитие РКД сопровождалось ростом инвестиционного интереса к странам с новыми развивающимися рынками. Высокие темпы роста иностранных инвестиций в экономику стран Центральной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Китая и России привели к возникновению потребности в эффек-
тивном страховании рисков по инвестиционным проектам в этих странах. Реструктуризация долга бывшего СССР, выход Правительства РФ на мировой рынок ссудных капиталов в качестве крупного заемщика способствовали бурному развитию рынка российского внешнего долга и росту операций с российскими долговыми обязательствами.
Крайняя неравномерность экономического развития России в посткоммунистический период, непредсказуемая политика российских властей в экономической сфере, нарастающие объемы внешних заимствований — все эти факторы сформировали острую потребность со стороны иностранных инвесторов в страховании российского странового риска. Появление кредитных деривативов смогло частично удовлетворить эту потребность.
На конец 90-х годов XX в. российские кредитные риски стали одним из самых популярных объектов торговли на РКД. Около трети участников рынка систематически торговали кредитными деривативами, выписанными на российские долговые обязательства. С помощью этих инструментов хеджировались в основном страновой и корпоративный риски иностранных инвесторов в России.
Многие инвесторы рынка капиталов, банки-кредиторы Правительства РФ, кредиторы крупных российских компаний выступали в роли покупателей защиты от риска дефолта России по своим долговым обязательствам. Совершение выплат по этим контрактам обусловлено наступлением определенного кредитного случая: снижение российского суверенного кредитного рейтинга, реструктуризация государственного или гарантированного государством долга, приостановление Правительством РФ выплат по внешнему и внутреннему долгу и др. Наиболее популярными инструментами среди участников, страхующих российские кредитные риски, являлись дефолтные свопы, свопы на совокупный доход и связанные кредитные ноты.
Российский финансовый кризис 1998 г. стал весьма тяжелым и поучительным испытанием для иностранных инвесторов. Он позволил выявить ошибки и недоработки в использовании кредитных деривативов. Отказ большинства российских банков исполнять форвардные обязательства или их исполнение по заниженному курсу привел к разрыву звеньев комплексной схемы страхования кредитных рисков. В итоге иностранные инвесторы остались с долларовой суммой, недостаточной для выплаты основного долга по эмитиро-
ванным им нотам даже с учетом страхового покрытия по дефолт-ным свопам. Это, однако, не единственная проблема, с которой столкнулись нерезиденты, работавшие на российском финансовом рынке. Объявление 17 августа 1998 г. Правительством РФ реструктуризации российского долга вызвало бурные дискуссии и споры среди участников РКД относительно оценки размеров выплат по кредитным деривативам и самой необходимости их совершения.
С одной стороны, объявленная реструктуризация по многим признакам отвечала указанному в условиях кредитных деривативов понятию «кредитный случай». Это означало необходимость совершения продавцами кредитной защиты соответствующих условных платежей по контрактам, выписанным на российские долги. С другой — неопределенность и нечеткость понятийного аппарата дали основание для различных интерпретаций условий контрактов, что привело к весьма драматичным результатам. Многие банки и финансовые компании, выступавшие в роли продавцов кредитной защиты, начали оспаривать условия заключенных ранее сделок, некоторые из организаций были вынуждены пойти на дополнительные затраты и привлечь независимую третью сторону для достижения объективного решения возникших проблем.
К числу вопросов, вызвавших наиболее горячие прения, следует отнести определение момента наступления кредитного случая, размер и дату осуществления платежей, механизм расчетов, адекватность примененных ценовых моделей.
Вокруг понятия «кредитный случай» сложился целый комплекс проблем, вызвавших горячие дискуссии и ожесточенные споры. Во-первых, в документации по сделкам с кредитными дерива-тивами, страховавшими российские кредитные риски, не проводилось четкого различия между дефолтом по суверенному долгу, выраженному в иностранной валюте, и дефолтом по рублевым долговым обязательствам. В условиях избирательного дефолта, объявленного Правительством РФ по внутреннему долгу, а также по части внешнего долга, приходящегося на Парижский и Лондонский клубы кредиторов, эта неточность не позволяла определить события 17 августа 1998 г. в качестве одного из кредитных случаев, указанных в контрактах.
Такая ситуация привела к тому, что большинство покупателей кредитной защиты по российским еврооблигациям, по которым не был объявлен дефолт, понесли большие потери в результате резкого
■
падения их курсовой стоимости и отрицательной переоценки своих рыночных позиций. Исключение составили лишь инвесторы, занимающие позиции плательщиков совокупного дохода в свопах на СД. Во-вторых, в документации не было ответов на многочисленные вопросы, возникавшие при реструктуризации суверенного долга или при объявлении моратория на осуществление платежей. Это, в частности, объясняется тем, что участники РКД применяли стандартные формы, выработанные ISDA для кредитных деривативов, покрывавших риски по несуверенным долгам, для документального оформления сделок с кредитными деривативами, выписанными на суверенный долг России.
В-третьих, условия некоторых контрактов не принимали в расчет временные рамки реструктуризации, что привело к истечению сроков действия контрактов еще до момента объявления условий реструктуризации.
Приостановление торгов на рынке ГКО сделало невозможным поставку облигаций инвесторами для выполнения условий некоторых из кредитных деривативов. Кроме того, отсутствие торгов не позволило определить объективную расчетную цену облигаций и адекватно оценить размер потерь.
Приостановка валютных торгов на ММВБ, прекращение процедуры биржевого фиксинга и отсутствие рыночного валютного курса создали ряд дополнительных проблем. Проблема определения валютного курса затронула и участников РКД. Многие позиции по кредитным деривативам требовали периодического внесения обеспечения или маржи, рассчитываемых исходя из курса рубля к доллару США. В большей степени это коснулось позиций хеджевых фондов и других участников РКД, искавших возможность применения финансового рычага по российским долговым обязательствам. Таким образом, проблемы, возникшие при использовании кредитных деривативов для страхования российских кредитных рисков, еще раз доказали, что, несмотря на все его преимущества, РКД пока нельзя отнести к зрелым, высоколиквидным рынкам.
Из-за отсутствия необходимой законодательной базы, эффективной рыночной инфраструктуры и крайне невысокого уровня развития рынка производных финансовых инструментов российский РКД развивается весьма медленными темпами.
Первыми его участниками следует считать российские банки, активно торговавшие российскими еврооблигациями на мировых
финансовых рынках. Именно они в 1997—1998 гг. стали вводить в российскую практику наиболее ликвидные и простые для понимания инструменты РКД — дефолтные свопы. Приобретая дефолтные свопы по еврооблигациям России, российские банки тем самым страховали свои позиции на наличном рынке.
Логика их действий весьма проста: если правительство не сможет расплатиться по еврозаймам, то банки будут иметь возможность компенсировать свои потери, получив соответствующие выплаты по свопам. В обратном случае перед ними открывается весьма привлекательный шанс хорошо заработать: если дефолт не объявляется и состояние России как заемщика улучшится, цены на еврооблигации существенно вырастут.
Ключевой характеристикой российского РКД того времени было обязательное наличие иностранного банка или компании в качестве контрагента при заключении сделки. Объемы операций с участием российских банков существенно уступали средним показателям по всему рынку, а сделки между российскими участниками практически не заключались. Такое положение дел обусловливалось отсутствием какого-либо регулирования этих операций в российском законодательстве, а также особенностями отечественной системы бухгалтерского учета. До сих пор нет какой-либо статистической информации по операциям российских банков с кредитными дери-вативами, что существенно затрудняет анализ национального РКД. Финансовый кризис, поразивший Россию во второй половине 1998 г., вернул национальный рынок производных финансовых инструментов на стадию первоначального развития: ведущие срочные площадки либо обанкротились, либо вышли из кризисного состояния с минимальными показателями биржевой активности, деятельность на внебиржевом рынке была парализована. Кризис доверия иностранных инвесторов к российским контрагентам вынудил заморозить или свернуть многие проекты по развитию инфраструктуры и расширению круга инструментов российского рынка деривативов. Положение дел начало меняться с улучшением экономической конъюнктуры в конце 1999 — начале 2000 гг. Организовано несколько площадок по торговле фьючерсами на акции российских организаций, оживляется внебиржевой рынок срочных контрактов, разморожена часть проектов с участием иностранных партнеров.
Ведущая российская биржевая площадка ММВБ совместно с австрийской биржей разрабатывают проект по развитию инфраструк-
туры срочного рынка на российские активы с одновременным и равноправным доступом российских и австрийских инвесторов.
Весьма возможно появление проектов, направленных на развитие в России рынка кредитных деривативов. Интерес, проявляемый к этим инструментам со стороны российских банков и инвестиционных компаний, пока не велик, но вполне очевиден. Это подтвердил прошедший в Москве в марте 2000 г. рабочий семинар, организованный одной из ведущих международных аудиторских фирм, VriceWaterhou.se Coopers, и посвященный будущему кредитных деривативов на российском рынке.
Остающаяся неудовлетворенной потребность участников российского финансового рынка в страховании своих кредитных рисков будет способствовать росту интереса к имеющемуся мировому опыту и появлению в скором времени ряда проектов по развитию соответствующей рыночной инфраструктуры в России. Реализация подобных проектов посредством применения прогрессивных коммуникационных технологий и оказания финансовой поддержки со стороны заинтересованных участников рынка, сопровождаемая разработкой необходимой законодательной базы, позволит говорить о становлении полноценного российского РКД.
Хотя российские инвесторы пока не освоили новую рыночную нишу РКД, в этом направлении объективно имеется значительный потенциал.
По мере формирования соответствующей инфраструктуры российский РКД первоначально будет представлен ограниченным набором инструментов. Наилучшие перспективы в этом отношении имеют дефолтные свопы и свопы на совокупный доход. Именно эти инструменты отличаются простой и понятной структурой, позволят эффективно управлять кредитными рисками. По ним накоплен достаточно обширный мировой опыт, к тому же по дефолтным свопам выработан пакет стандартной документации, что заметно облегчает их использование в российской практике.
Являясь сравнительно простыми для понимания инструментами, дефолтные свопы и свопы на СД отличаются редкой многофункциональностью, что несомненно привлекательно для российских участников.
На первых этапах развития российского РКД большинство участников будут использовать кредитные деривативы преимуще-
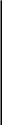 ственно
в целях страхования, т.е. по их прямому
назначению. Многие
российские банки желают списать с
баланса неблагоприятные кредиты,
не прибегая к их прямой продаже и не
ухудшая отношений
с заемщиком. Широкий круг субъектов
позволит им кардинально
менять структуру кредитных портфелей,
снижать риск региональной
или отраслевой концентрации. Выступая
в качестве продавцов кредитной защиты,
российские банки смогут эффективно
диверсифицировать
свои кредитные портфели, не загружая
баланс излишней
дебиторской задолженностью и не боясь
нарушить установленные
Банком России нормативы банковской
деятельности.
ственно
в целях страхования, т.е. по их прямому
назначению. Многие
российские банки желают списать с
баланса неблагоприятные кредиты,
не прибегая к их прямой продаже и не
ухудшая отношений
с заемщиком. Широкий круг субъектов
позволит им кардинально
менять структуру кредитных портфелей,
снижать риск региональной
или отраслевой концентрации. Выступая
в качестве продавцов кредитной защиты,
российские банки смогут эффективно
диверсифицировать
свои кредитные портфели, не загружая
баланс излишней
дебиторской задолженностью и не боясь
нарушить установленные
Банком России нормативы банковской
деятельности.
Весьма перспективным представляется использование кредитных деривативов крупными страховыми и торговыми компаниями. Для российских страховщиков актуальна проблема перестрахования больших по размеру рисков и весьма велик риск отраслевой концентрации страховой защиты. Кредитные деривативы смогут составить достойную конкуренцию обычному перестрахованию своей гибкостью и относительно невысоким уровнем издержек, а нежелательная концентрация легко устранима с помощью продажи излишних рисков и приобретения рисков, обладающих низкой корреляцией с общем уровнем риска по страховому портфелю.
Большинство крупных компаний, занятых в сфере торговли, также смогут оценить всю выгоду применения кредитных деривативов в своей деятельности. В частности, они получат возможность застраховать часть кредитных рисков по дебиторской задолженности, а также обеспечить бесперебойный характер финансирования, хеджировав риск неисполнения обязательств финансирующего банка. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что многих участников российского РКД привлечет возможность обхода всевозможных ограничений, препятствующих доступу к различным сегментам финансового рынка. При условии выработки благоприятной, с точки зрения налогообложения, нормативной базы использование кредитных деривативов для занятия синтетических позиций по существующим активам и формирования позиций по активам с характеристиками, недоступными на наличном рынке, достигнет впечатляющих размеров.
Первоначально на российском РКД будут обращаться инструменты, выписанные на риски по первоклассным кредитам. Это объясняется тем, что именно по ним легче всего найти полный пакет необходимой информации, что существенно облегчает процесс оценки
Кредитного риска. К тому же отрабатывать непосредственно технологию страхования кредитных рисков с помощью деривативов лучше п безопасней на наиболее ликвидных активах. В отношении возможного несовпадения интересов потенциальных покупателей и продавцов кредитной защиты кредиты с высокими характеристиками могут сыграть роль обоюдно привлекательного актива.
С технологической точки зрения, эффективное функционирование российского РКД можно обеспечить на базе существующих внебиржевых торговых платформ. Это наиболее быстрый и наименее дорогостоящий способ создания центра торговли новыми инструментами. Использование биржевых площадок также возможно, однако это не самый выгодный вариант в силу высокой степени индивидуализации кредитных деривативов по сравнению с другими инструментами финансового рынка.
Реализация этого проекта возможна путем создания на базе функционирующей площадки специального терминала, где потенциальные участники РКД могли бы обозначать имеющиеся интересы и помещать индикативные котировки. Посильную помощь мог бы оказать западный опыт организации торговли кредитными дери-вативами через всемирную компьютерную сеть Интернет (открытие торговых платформ на специально созданных сайтах Credit Trade, Creditex, EnronCredit и др.)
Становлению полноценной рыночной инфраструктуры способствует и организация работы специальных брокерских фирм, оказывающих различного рода информационные услуги фирмам и банкам — участникам РКД.
