
- •Глава 1. Формирование мировоззрения Глава 2. Прислушиваемся к голосу науки
- •Глава 1. Формирование мировоззрения а. Зачем нужно мировоззрение
- •Роза. Сорт "Шэннон"
- •Глава 2. Прислушиваемся к голосу науки а. Научный метод
- •1. Введение
- •2. Эмпирические данные, модели (patterns), зависимости и гипотезы
- •5. Одни и те же данные могут быть объяснены с помощью разных гипотез
- •6. Фальсифицируемость
- •Часть 2
- •7. Начало Вселенной
- •Планета Сатурн.
- •Человеческая клетка
- •Глава 4. Как устроен живой мир
- •1. Удивительный мир живого
- •2. Нередуцируемая сложность биологических систем
- •3. Строительные блоки жизни
- •Глава 5. Споры вокруг эволюции
- •9. Принципиальная сложность
- •Глава 6. Языковая способность
- •Глава 7. Совпадения между научными
- •Глава 13. Как человек осуществляет свою власть
- •Глава 14. Что ждет человека в будущем
- •Глава 9. Человеческая свобода и опасность непонимания ее ценности
- •Глава 10. Природа нравственности и ее основания
- •Глава 11. Сравнительный анализ
- •4. Не существует абсолютной морали: мораль является отражением крупных экономических изменений в ходе истории.
- •Глава 12. Предназначение человека и его власть над природой
- •Мир и Квант
- •Ремонт телескопа Хаббла
- •Глава 13. Как человек осуществляет свою власть
- •2. Что нас ждет в будущем
- •3. Вопрос человеческого достоинства и прав
- •4. Может ли человек стать богом?
- •2. На самом деле, человек не страдает никакими нравственными дефектами.
- •Глава 14, Что ждет человека в будущем
Глава 13. Как человек осуществляет свою власть
Глава 14. Что ждет человека в будущем
202
203
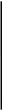
 Глава
8. Ценность
человеческой
жизни
Глава
8. Ценность
человеческой
жизни
Не пытаясь начать с определения, что такое человеческая жизнь, — так как решение этой задачи может потребовать слишком много времени, если она вообще имеет решение, — начнем с конкретного вопроса о том, какую ценность мы придаем и должны придавать жизни человека. В конце концов, все мы люди и все мы живем на этом свете, и, что еще более важно, имеем непосредственный личный опыт того, что значит жить. Поэтому нам нужно понять, какую ценность мы приписываем человеческой жизни; как нашей собственной, так и жизни других людей.
Давайте уточним, что кроется под выражением "придавать ценность человеческой жизни". Наверное, мы не говорим при этом о том, как хорошо было в прежние времена, или о том, приносит ли удовлетворение людям жизнь сегодня. Для нас важно, какую ценность мы придаем жизни самой по себе, независимо от того, чем она наполнена. Действительно ли человеческая жизнь, будь то наша собственная или жизнь другого человека, представляет собой такую ценность, что было бы предосудительно обращаться с ней неподобающим образом или как-то умалять ее значимость, или даже разрушать ее? Понятно, что ответ на этот вопрос является решающим с точки зрения нашего отношения к себе и к другим.
Для начала рассмотрим одну из животрепещущих проблем жизни и смерти, которая поможет понять суть поставленных нами вопросов.
Проблема убийства новорожденных
Все мы когда-то появились на свет и, вероятно, благодарны судьбе, что не стали жертвой детоубийцы. Но есть ли что-нибудь предосудительное в детоубийстве? И если есть, то что это и почему?
В Древней Греции отец или оба родителя нежеланного ребенка имели право поместить его в открытый короб или сосуд и оставить в горах на съедение диким зверям. Так они пытались успокоить свою совесть, делая вид, что ребенка убили не они, а дикие звери. Специалисты по истории древнего мира, профессора М. Кэри и Т. Дж. Хаархофф пишут, что после 200 г. до н. э. такой способ избавления от нежеланных детей стал, по-видимому, "довольно часто использоваться для поддержания постоянной численности населения Греции, а в некоторых городах даже вызвал ее резкое снижение"1. Может быть, преднамеренно, а может быть, и нет, детоубийство служило, вероятно, как средством уменьшения семейных расходов, так и средством регулирования численности населения.
В связи с этим возникает вопрос: правомерно ли такое детоубийство с точки зрения морали? Вопрос этот касается и нас, потому что это проблема не только древнего мира. Мы тоже когда-то были младенцами. А вдруг по какой-то причине наши родители не захотели бы нашего появления на свет? Позволительно ли было бы с позиций морали нас уничтожить? За последние двадцать или тридцать лет жизнь миллионов зародышей, мозг и нервная система которых уже сформировались, была прервана посредством аборта просто потому, что родители не захотели их появления на свет. Разве они не были тоже людьми? А если были (хотя многие упорно отрицают это), мы могли бы задать вопрос, который мы обсуждали выше: правомерно ли их уничтожение с позиций морали?
Вернемся к новорожденным детям, так как никто не отрицает, что они — человеческие существа. Является ли их жизнь абсолютной ценностью, так что убивать их нельзя, даже если родители не могут себе позволить их иметь, или по какой-то причине не хотели их появления на свет, или если государство решило сократить избыточный рост населения?
204
205
 В
начале нашего века многие хозяева
держали в доме кошек, чтобы дом не
наводнили мыши. Так делают многие и
сегодня. Если же кошка принесла четырех
котят, а хозяйка не желает их иметь и
нет желающих их забрать, хозяйка обычно
топит котят в ведре. Никому и в голову
не приходит, что с позиций морали это
нечто неподобающее.
В
начале нашего века многие хозяева
держали в доме кошек, чтобы дом не
наводнили мыши. Так делают многие и
сегодня. Если же кошка принесла четырех
котят, а хозяйка не желает их иметь и
нет желающих их забрать, хозяйка обычно
топит котят в ведре. Никому и в голову
не приходит, что с позиций морали это
нечто неподобающее.
Сегодня многие убеждают нас поверить в то, что человеческие существа — это просто животные, которые в результате случайной мутации генов и последующего процесса естественного отбора по воле случая эволюционировали дальше, чем другие приматы. Если это так, то на каком основании мы можем говорить, что убийство маленького котенка не нужно считать нарушением морали, а убийство новорожденного человека — нужно? Каково же в таком случае кардинальное отличие человеческого существа от животного?
Если, как считают многие, во Вселенной нет ничего, кроме материи, а у человеческих существ нет ни души, ни духа и они, подобно животным, являются высокоорганизованной формой материи, то тогда почему нельзя разделываться с ними так же, как с детенышами животных? В чем разница?
Кто-то может ответить на этот вопрос так: "Разница состоит в том, что люди более ценны, чем животные, и поэтому аморально убивать человеческих младенцев, да и вообще человеческих существ любого возраста, на любом этапе их жизненного пути".
Понимание того, что человеческая жизнь почему-то представляет особую ценность — это хорошее начало. Но термины "ценность", "ценный" обычно используются в нескольких различных смыслах. Поэтому нам нужно определить, в каком смысле можно сказать, что, во-первых, человеческие существа представляют собой ценность, а во-вторых, — большую ценность, чем животные.
Ценность человеческой жизни не может зависеть от субъективного суждения людей
Некоторые вещи не имеют ценности сами по себе. Они приобретают ценность только в глазах людей. Возьмем, к примеру, сигареты. Одним они нравятся, и для них пачка сигарет представляет ценность. Другим — не нравятся, и они даже думают, что сигареты вообще не имеют никакой ценности и их нужно просто сжечь.
Можно ли, следуя этой линии рассуждения, сделать вывод, что жизнь человека является ценной, если кому-то данный человек кажется ценным и считается, что его не следует уничтожать? Или аналогичный вывод: если каким-то людям данный человек не нравится и он не является ценным для них, то они могут его уничтожить?
Звучит страшно, и это действительно страшно; но именно так иногда ведут себя некоторые народы. В древние времена один из египетских фараонов, желая подчинить себе своих рабов, проводил государственную политику, согласно которой дочерей, родившихся в семьях рабов, оставляли живыми, а сыновей сразу после рождения повивальные бабки топили в реке. Приведем пример из современной жизни. Многие люди в Китае по разным причинам явно предпочитают сыновей дочерям. Китайское правительство, встревоженное колоссальным ростом рождаемости, недавно приняло закон, запрещающий родителям иметь более одного ребенка. Этот закон провоцирует поведение людей, которое кажется совершенно невероятным: имеются веские доказательства того, что в отдаленных районах Китая первенца-девочку родители могут спокойно убить в надежде, что следующий ребенок окажется мальчиком.
Таким образом, когда мы говорим о ценности человеческой жизни, мы должны придерживаться более жесткого принципа, который несовместим с рассуждением, что желанного и любимого ребенка родители не должны уничтожать, а родители, для которых новорожденный не желанен и не любим, должны быть свободны в своем выборе: убить или
206
207
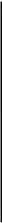
 оставить
его в живых. Нельзя сводить ценность
человеческой жизни к проблеме чисто
произвольного личного выбора
и вкуса. Но если человеческая жизнь
имеет ценность в принципе,
то следует полагать, что она должна
всегда и везде
быть одинаково ценной, независимо от
того, нравится ли носитель
этой жизни другим людям или нет.
оставить
его в живых. Нельзя сводить ценность
человеческой жизни к проблеме чисто
произвольного личного выбора
и вкуса. Но если человеческая жизнь
имеет ценность в принципе,
то следует полагать, что она должна
всегда и везде
быть одинаково ценной, независимо от
того, нравится ли носитель
этой жизни другим людям или нет.
Возможно, кто-то возразит: "Новорожденные дети и взрослые люди имеют разную ценность. Взрослый развитой человек, несомненно, имеет большую ценность, чем новорожденный неразвитой младенец; а взрослый, наделенный даром, скажем, художника, ученого или инженера, имеет большую ценность, чем взрослый, который не обладает ни одним из этих талантов и который может быть даже полным тупицей. Разве широкие массы не ценят знаменитого футболиста или кинозвезду больше, чем они ценят заводского рабочего или ребенка-калеку?"
Конечно, мы ценим и должны ценить уровень развития ребенка и огорчаться, если мы сталкиваемся с какими-то сбоями; конечно, мы ценим и должны ценить мастерство хорошего повара или опытного врача, талант педагога, романиста или музыканта. Но когда мы признаем, что восхищаемся и ценим одаренных людей за их таланты, то что конкретно мы имеем в виду? Наверное, мы все-таки не имеем в виду, что для соответствия требованиям, предъявляемым к классу "человек", данный индивид должен быть исключительно одаренной личностью или что простая пожилая женщина в меньшей степени является человеком, чем, скажем, молодая кинозвезда. Попробуйте представить себе человека, начисто лишенного каких-то способностей. Разве у него не человеческая жизнь? И разве не следует эту жизнь ценить и рассматривать как священную и неприкосновенную просто потому, что это жизнь человека?
Или, может быть, кто-то скажет, что существуют люди разных сортов, или категорий, и жизнь человека более высокой категории следует хранить и лелеять, а жизни людей
низших категорий вряд ли стоит сохранять, ими можно по праву пренебречь или даже уничтожить? Ценность человеческой жизни нельзя ставить в зависимость от природных качеств и одаренности человека
Это не просто академический вопрос, поскольку распространение точки зрения, согласно которой ценность человеческой жизни зависит от степени развития человека, пользовалась в нашем веке колоссальной популярностью и имела далеко идущие последствия. Приведем несколько примеров. 1. Антисемитизм Гитлера
Профессор 3. Стернхилл2 показывает, какие ценностные суждения лежат в основании политики Гитлера, приведшей к уничтожению шести миллионов евреев. Основываясь на извращенных экстремистских представлениях о социал-дарвинизме (которые, между прочим, современные дарвинисты сурово осуждают), люди типа Ж. Вашера де Лапужа во Франции3 и Отто Аммона в Германии4 "не только утверждали абсолютное физическое, нравственное и социальное превосходство арийцев, которое они основывали на измерениях черепа и других социальных, антропологических и экономических критериях), но и выдвинули новое понятие человеческой природы и сформулировали новое представление об отношениях между людьми. Социал-дарвинизм, связанный с расизмом, имел прямое влияние на десакрализацию сущности человека и приравнивание социального существования к физическому. Человеческий вид считался подчиненным тому же самому закону, что и другие виды, а человеческая жизнь рассматривалась как непрестанная борьба за существование. Представители этого учения полагали, что мир принадлежит сильнейшему, который благодаря своей силе является лучшим, и потому нужно следовать новой этической системе, которую Вашер де Лапуж назвал "селекционистской" и которая заменила ему традиционную христианскую этическую систему. На рубеже веков идея этнического неравенства стала очень влиятельной". Германия и
208
209
 Франция
были наводнены публикациями, где это
представ ление сочеталось с арийским
антисемитизмом. Неудивительно, что
политическое мышление Гитлера
сформировалось под воздействием
литературы подобного содержания. И мы
все знаем слишком хорошо, к чему это
привело.
Франция
были наводнены публикациями, где это
представ ление сочеталось с арийским
антисемитизмом. Неудивительно, что
политическое мышление Гитлера
сформировалось под воздействием
литературы подобного содержания. И мы
все знаем слишком хорошо, к чему это
привело.
2. Массовые убийства в Камбодже
Пол Пот тоже был сторонником точки зрения, согласно которой некоторые люди представляют собой большую ценность по сравнению с другими. Он относил к людям более низкой категории интеллектуалов и поэтому уничтожил около двух миллионов тех, кто принадлежал к этой социальной группе.
3. Дети-бродяги в некоторых латиноамериканских странах
Это либо дети-сироты, либо дети, оставленные своими родителями в раннем детстве. Они живут на улицах, вырастают дикарями, живут случайными заработками или воруют, будучи неизменным источником общественных беспорядков. Они, конечно, тоже человеческие существа. Но они никому не нужны и никто не считает их ценностью. Время от времени полиция делает рейды по улицам и отстреливает их как бездомных животных или преступников. С ними обращаются как с низкосортными, а потому ненужными человеческими существами.
Но нам не следует ограничиваться рассмотрением таких крайних случаев. Если ценность человеческой жизни ставится в зависимость от дарований и способностей ее обладателя, или от его полезности для человеческого общества, а не от того простого факта, что это человеческая жизнь и что она неприкосновенна, то как, например, относиться к жизни стариков? Когда-то они приносили пользу обществу. Но теперь все их способности ушли в прошлое, они ослабли и не только не приносят никакой пользы, но зачастую являются обузой для семьи. В некоторых странах сегодня есть сильные и громкоголосые сторонники принятия законодательства, согласно которому родственники имели бы право "помогать"
старикам отправляться на тот свет. Это называется "самоубийство с чужой помощью". Будет ли оно нравственным?
А как же тогда быть с детьми, имеющими физические или психические отклонения, умственно отсталыми? Не должны ли мы сами или государство заботиться о них, насколько позволяют возможности, в силу того что они, будучи в каком-то отношении ущербными, являются все же человеческими существами? Или мы имеем право оставить их пребывать в грязи, как животных?
До сих пор мы поставили больше вопросов, чем дали ответов. Но уже на этом этапе рассуждения ясно следующее.
Ценность человеческой жизни нельзя ставить в зависимость от субъективного отношения к ней данного человека или нации. Ее нельзя делать предметом чьего-то произвольного личного вкуса или предпочтения.
Крайне опасно ценность человеческой жизни ставить в зависимость от степени развития данного человека и его "полезности" для общества.
Исходя из этих тезисов, рассмотрим следующую возможность.
Ценность человеческой жизни заключена в самой жизни. Она объективна
Если однажды вечером вы увидите на западном небосклоне необыкновенный закат, то вы почти невольно воскликнете: "Как красиво!". Более того, от всякого, кто увидит это зрелище, вы будете ожидать подобной реакции. А если кто-то останется равнодушным, вы решите, что этот человек, видимо, не совсем нормален, или что он страдает дальтонизмом или совершенно неспособен воспринимать прекрасное. Мы решаем так потому, что действительно считаем, что закат прекрасен сам по себе. Наверное, каждый скажет, что закат прекрасен независимо от того, смотрим мы на него или нет.
Далее. Мы приходим к этому выводу не на основании сложного логического анализа. Закат вызвал паше восхищение в силу красоты, свойственной ему независимо от нашей
211

 оценки.
Для этого не потребовалось мнения
других людей и вывода
на основе консенсуса.
оценки.
Для этого не потребовалось мнения
других людей и вывода
на основе консенсуса.
В природе можно наблюдать множество подобных явлений. Ученые говорят, что, сталкиваясь с устройством физического мира, с его сложностью и вместе с тем с простотой его фундаментальных законов, они не могут не испытывать чувства благоговения. В результате неустанного экспериментирования и теоретического анализа ученым удалось выявить эти прекрасные своей простотой и элегантностью законы. Но возникли эти удивительные законы не в результате неустанного труда исследователей. Их красота объективна. Она является их сущностной природой. И именно эта сущностная природа возбуждает благоговение того, кто с ней соприкасается.
То же самое можно сказать и о человеческой жизни: именно ее объективная сущность и природа приводят нас к признанию ее ценности.
Ниже мы рассмотрим редукционистские концепции человеческой жизни, не признающие ее фундаментальной ценности.
Редукционистские объяснения
Если вы расскажете о прекрасном закате редукционисту, то он, наверное, ответит вам, что его величественная красота - это всего-навсего ваша субъективная реакция на явления материального мира. Он скажет вам, что наука может дать исчерпывающее объяснение природы этих явлений с помощью понятий солнечного излучения, фотонов, нервных импульсов и проч., не прибегая при этом к идеям значения, ценности, величия и красоты. А поскольку последние не могут быть измерены научными методами, то они не обладают объективной реальностью. Это просто иллюзии, возникающие в нашем воображении и помогающие нам смягчать воздействие голых безличных фактов, вскрываемых путем научного исследования.
Редукционисты говорят то же самое и о человеческой жизни. Человеческая жизнь для них — не что иное, как оду-
шевленная материя. Благодаря присущим ей качествам материя стихийно дала начало белкам, клеткам, генам, хромосомам, которые в какой-то момент случайно сложились в определенную структуру. Эта структура, в свою очередь, вне связи с какой-либо целью послужила источником низшей формы жизни, претерпевшей постепенную эволюцию, завершившуюся развитием человека.
Таким образом, материя и сопутствующие ей факторы действовали вне какой-либо сознательной цели или понимания ценности. Вещество, образующее гены, не заключает в себе никакой цели. Гены не обладают сознанием. Материя, из которой они состоят, при некотором случайном стечении обстоятельств слепо идет по пути максимально возможного самовоспроизведения (репликации) в последующих поколениях5.
Если считается, что человеческая жизнь возникает таким образом, то как она может иметь непреходящую ценность? Но даже если человек все-таки убеждается в неотъемлемой ценности жизни, то редукционист сообщит ему, что его психологическая оценка и осознание этой ценности управляется нейронами головного мозга. Чего же стоят ощущения ценности, если они являются продуктами не обладающих сознанием, безликих электрохимических процессов?
Как мы убедились выше (см. Раздел 2. Б), не все ученые разделяют крайний редукционизм. И когда мы обращаемся к наиболее сложным и загадочным сторонам природы человека, таким как функционирование головного мозга, устройство памяти, а также к сложнейшему вопросу о соотношении сознания и мозга, мы не можем не испытывать благодарности за труд ученых (включая редукционистов!), работавших над раскрытием тайн человеческого организма.
С другой стороны, когда дело доходит до понимания природы и ценности человеческой жизни, мы не зависим исключительно от науки и ее эмпирических методов: мы распола-
212
213
 гаем
другим, более прямым путем познания.
Мы можем прислушаться к голосу
интуиции.
гаем
другим, более прямым путем познания.
Мы можем прислушаться к голосу
интуиции.
Каждодневный опыт и понимание ценности жизни
Говорят, что грамм опыта стоит тонны теорий, и это особенно верно, когда речь идет о том, что такое жизнь. Мы, люди, знаем из собственного опыта, что значит быть живым. Нам не нужно спрашивать об этом ученого. У нас есть непосредственный опыт жизни, и на этом уровне нам гораздо полезнее философская рефлексия, чем эмпирическая наука.
Благодаря опыту каждый из нас твердо знает, по крайней мере, две вещи и каждый может сказать:
"Я жив(а)", "Я существую" и
"Я осознаю, что я жив".
То же самое верно и относительно мышления. Я могу снабжать свой мозг информацией, заставлять его работать над какой-то задачей, и даже когда я сплю, он будет продолжать обрабатывать поступившую информацию благодаря моему "нейронному компьютеру". Но процесс мышления — это мое дело. Я не могу "поручить" его электрохимическим нейронным процессам своего головного мозга. Сведение мышления к нейронным процессам в конечном итоге подрывает само себя, поскольку уничтожает рациональность, как указывает профессор Джон Полкингхорн (см. Раздел 2. Б). Приведем его соображения по этому поводу в более полном виде: "Мышление заменяется электрохимическими нейронными явлениями. Два таких явления оказываются несопоставимыми в рамках одного рационального рассуждения. Они не могут быть ни истинными, ни ложными. Они просто имеют место. Если наша психическая жизнь не что иное, как интенсивная деятельность исключительно сложного "мозга-компьютера", то кто должен сказать, верна или неверна программа, заложенная в этот "компьютер"? Ясно, что эта программа передается из поколения в поколение, будучи закодированной в ДНК, но вместе с ней может передаваться и ошибка. Если мы попались в редукционистскую ловушку, то у нас нет способа оценивать истинность суждений. Ут-
верждения самого редукциониста — не что иное, как всплески в нейронной сети его головного мозга. Мир рационального рассуждения растворяется в абсурдной "болтовне" синапсов. Честно сказать, подобная картинка не может быть верной и никто не считает ее верной"6.
Далее. Если электрохимические нейронные процессы по самой своей природе не могут быть частью рационального рассуждения, тогда как "я", или субъект, может рассуждать и рассуждает, то в силу этого "я" не может быть просто совокупностью электрохимических явлений или материальным веществом в какой-либо форме. "Я" всегда было и остается душой или духом, как указывал много веков тому назад Аристотель и как говорится в Библии. Человеческая жизнь и "я" — субъект этой жизни — не сводимы к материи. И именно это "я" в каждом из нас вопрошает: какова ценность жизни? чего стою я сам?
Есть и еще одно качество, которое характеризует человеческое существо в отличие от остального мира. Философы называют его трансцендентностью, и каждый из нас может сам проверить, действительно ли это качество присуще человеку. Трансцендентность человеческой жизни
Достаточно минутного размышления, чтобы убедиться в том, что мы можем мысленно выйти за пределы нашего непосредственного жизненного опыта, что, собственно, и означает термин "трансцендентность". Мы можем, например, абстрагировавшись от самих себя, размышлять о далеких галактиках, изучать их, не приписывая им своих собственных человеческих качеств, а воспринимать их характеристики, качества, функции и законы как характеристики независимых от нас объектов.
Наша любовь к другим в самом глубоком смысле этого слова (наше уважение и нравственное отношение к ним) также зависит от нашей способности к трансцендированию, к выходу за пределы нашего "я", за пределы наших чувств и
214
215
 интересов.
И этим мы отличаемся от животных. Собака
может встретить вас радостным лаем
и прыжками, которые можно принять за
признаки привязанности и любви. И это
будет ее реакцией на хороший уход. Но
человеческие существа могут
восхищаться кем-то, с кем они лично не
соприкасаются. Иногда им достаточно
для этого увидеть человека по телевизору
или услышать о его качествах от кого-то
другого. Точно также, когда мы
восхищаемся неодушевленными вещами,
типа заката, мы делаем это безотносительно
к нам самим.
интересов.
И этим мы отличаемся от животных. Собака
может встретить вас радостным лаем
и прыжками, которые можно принять за
признаки привязанности и любви. И это
будет ее реакцией на хороший уход. Но
человеческие существа могут
восхищаться кем-то, с кем они лично не
соприкасаются. Иногда им достаточно
для этого увидеть человека по телевизору
или услышать о его качествах от кого-то
другого. Точно также, когда мы
восхищаемся неодушевленными вещами,
типа заката, мы делаем это безотносительно
к нам самим.
Как человеческие существа, мы можем выходить за пределы материального субстрата Вселенной и думать в математических терминах о законах ее функционирования.
Мы можем мысленно выйти за пределы нашего теперешнего существования и обратиться к тем временам, когда нас еще не было на свете, или заглянуть в будущее, когда наша земная жизнь уже закончится. Когда мы рассуждаем подобным образом, то встает вопрос: откуда мы пришли? Поскольку наша трансцендентность несет в себе неизбежный отказ от того, чтобы довольствоваться существованием здесь и сейчас, как нас самих, так и материальных и нематериальных вещей вокруг нас, мы рано или поздно начинаем задаваться вопросами, связанными с нашим существованием, его конечной целью, значением и ценностью.
Человеческие существа не являются просто материей. Каждый из нас еще и личность, а не совокупность нейронов или электрохимических явлений. Человек — это и материя, и дух. И поскольку человек — дух, он осознает, что он выше материи. Любой из нас, в действительности, обладает большей значимостью и ценностью, чем весь материальный мир Вселенной.
Именно способность к трансцендированию вместе с твердым осознанием того, что мы не сами себя сотворили, приводит людей, во всяком случае, некоторых из них, к поискам источника своего существования в Боге-Творце, Который,
как говорит Библия, есть Дух и Который сотворил человека по образу Своему и подобию как существо, способное, по крайней мере отчасти понять Его природу и любить Его и поклоняться Ему в ответ на Его совершенную благость.
Если такова сущность дела, то легко понять, как иудеи, христиане и мусульмане ответят на вопрос: что именно придает высшую ценность жизни человека? Это то, что человек сотворен Богом, по образу и подобию Бога и для Бога. Именно поэтому жизнь человека неприкосновенна (Быт. 1: 26-29; 9: 6; Кол. 1: 16-17) и является бесконечно ценной и значимой (Мф. 22:31-32).
Христиане, помимо этого, добавят, что ценность человека как создания Божьего неизмеримо возросла в связи с тем, что Иисус Христос ценой своей собственной жизни и крови открыл путь, идя по которому люди смогут преодолеть свое отчуждение от Бога, вызванное проступками и греховностью человечества (1 Петр. 1: 18-19; Откр. 5: 9-10).
И все же многие люди не хотят верить, что человеческая жизнь обладает столь высокой ценностью. В частности, атеисты очень резко выступают против такого понимания ценности человека и его жизни. Они считают, что введение представления о Боге-Творце унижает человека и лишает его свободы и достоинства. Именно к этой теме мы и обратимся в следующей главе.
ПРИМЕЧАНИЯ
Сагу М.. Haarhoff T. J. Life and Thought in the Greek and Roman World. 5th cd. L., 1951. P. 143.
Miller D. ct al. (eds.) The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought. Oxford: Basil Blackwell, 1991. P. 414 - 416.
Pouge Vacher de. Les Selections sociales. Paris: Fontemoing, 1899.
Ammon O. Die Gesellschafftsordnung und ihre naturlichen Grundlagen. Jena: Fisher, 1895. См. также: Biddiss M. D. Father of Racist Ideology: the Social and Political Thought of Count Gobineau. N.Y.: Weybright and Talley, 1970.
Приписывание генам эгоизма, которое делает Ричард Докинз в своей знаменитой книге "Эгоистичный ген", является совершенно некорректным. Поскольку термин "эгоистичный" обычно подразумевает личность,
217
218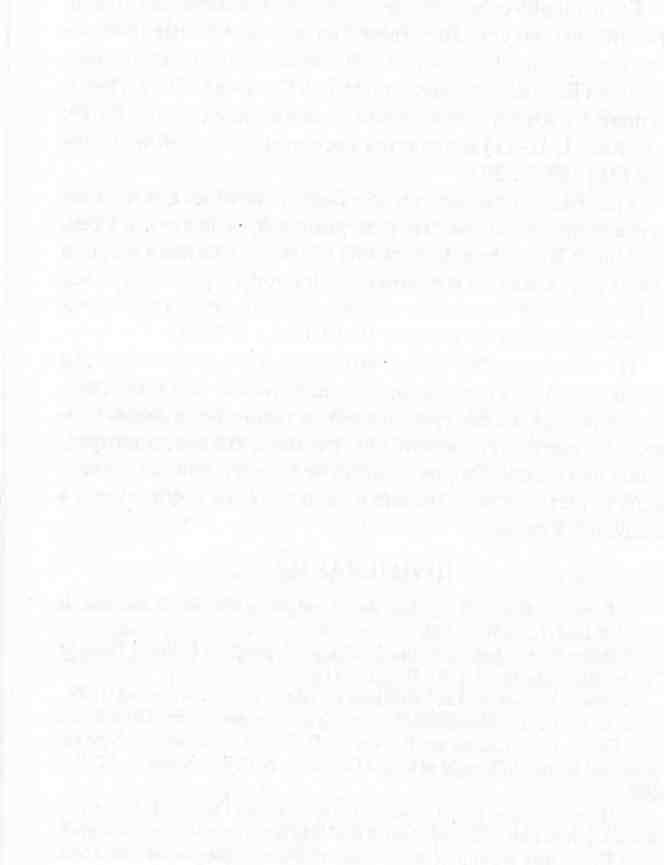
6. Polkinghone J. One World... P. 92 - 93.
