
- •Статья Белкина. Обычаи и обыкновения.
- •1) С точки зрения порядка принятия, Конституции могут делиться на октроированные, референдумные и представительные.
- •25 Декабря 1991 года Президент ссср издал Указ о сложении с себя полномочий в связи с прекращением существования государства.
- •1) Соотношение государственного суверенитета и прав человека.
- •2) Проблема, проявляющаяся в международных отношениях.
- •3) Проблема распределения суверенитета федерации.
- •А. Дайси «Господство права».
- •1) Вмешательство может осуществлять только государство.
- •4) Это принцип, который в рф признан в качестве фундаментального, он в Конституции. Это не единственно возможный подход.
- •Керимов. Об избирательном праве.
- •1 Вариант – тот, который принят гд и одобрен сф либо в активной, либо в пассивной форме.
1) С точки зрения порядка принятия, Конституции могут делиться на октроированные, референдумные и представительные.
Октроирование – это дарование Конституции монархом, либо иным главой государства. Октроирование предполагает акт самоограничения власти. Октроированная Конституция устанавливается тем самым лицом, чья власть ограничивается, которое принимает на себя и своих потомков ограничение, связанное с установлением конституционного строя. Октроирование предполагает переход от абсолютизма к демократическому государству, соответственно, ограничение полномочий власти монарха. В этом случае возникает вопрос об источнике легитимации, возникает вопрос, насколько монарх действует, реализуя народный суверенитет. Это вопрос, который можно обсуждать и говорить о том, что исторически многие Конституции возникли путем октроирования.
Референдумные Конституции вызывают меньше всего споров относительно их правовой природы, они издаются гражданами путем голосования за текст документа. Способ принятия Конституции РФ, с некоторыми оговорками, может быть отнесен к референдумным, т.к. Конституция РФ принята всенародным голосованием. Этот способ больше всего вызывает сомнение с точки зрения осмысленности голосования. Как показывали исследования, чуть ли не 80% граждан, которые голосовали за Конституцию, ее, в принципе, не видели. Поэтому формулировать какое-нибудь отчетливое представление не могли. Они, скорее, голосовали за политическую идею, которая всем была понятна.
Учредительно-представительная Конституция – это тот способ принятия, который предполагает принятие Конституции специальным представительным органом. Он может быть похож на законодательный орган и формироваться иногда из самого законодательного органа, но это не делает его органом законодательным. Он реализует не законодательную власть, а власть учредительную. Власть учредительная принадлежит изначально народу, реализуется в рамках народного суверенитета, и в этом отношении, она не может приравниваться к той власти, которую осуществляют законодательные органы в рамках своих полномочий. Соответственно, учредительные собрания принимают Конституции, которые могут считаться учредительно-представительными.
2)Для Конституций в целом, характерна такая черта как повышенная стабильность. Потому что считается, что Конституции, устанавливая самые общие правила, устанавливая самые основные элементы системы государственной власти, должны быть также стабильны, как это устройство государственное, которое ими создается. Не каждый год меняется общая система распределения власти государства, следовательно, внесение изменений в Конституцию часто не предполагается. Это событие, это определенная политическая реформа, внесение изменений – это то, что должно быть максимально затруднено и отражать складывающийся новый компромисс по поводу системы государственной власти. При этом, некоторые Конституции считаются относительно гибкими, другие относительно жесткими. Даже гибкие Конституции должны меняться в более сложном порядке, чем обычные законы. А жесткие предполагают особые правила, требования, которые необходимы, чтобы внести изменение в конституционный текст.
Конституция РФ характеризуется иногда просто жесткой, иногда супержесткой. Потому что ее изменение затруднено. Есть два основных способа изменения: пересмотр Конституции и Поправка к Конституции. И то, и другое требует очень сложной процедуры. Пересмотр – созыва специального органа – Конституционного собрания, а поправки – не только принятия квалифицированным большинством в федеральном парламенте, но и одобрение субъектами федерации (законодательными органами). Модель использована из Американской Конституции.
3) Здесь классификация не совсем точно возведена, т.к. кодифицированные и некодифицированные – это разновидность писаной Конституции. А вот разница между некодифицированными и неписанными Конституциями иногда вызывает сложности, споры.
То, что касается неписанной Конституции, предполагается, что есть некие правовые принципы, которые юридически не зафиксированы, о которых можно судить по вторичным источникам. Мы уже несколько раз говорили о системе английского права, говорили, что там существует даже научные сочинения, из содержания которых можно судить о конституционных принципах, о требованиях конституционного строя. И в этом случае нет никакого документа (документов), в которых бы это все формализовалось и закреплялось, устанавливалось бы как правовые нормы. В этом случае, в частности, затруднена охрана Конституции, т.к. нет того текста, в отношении которого можно установить эту охрану. По крайней мере, охрана Конституции не формализована. В Великобритании принципиально не может существовать КС, т.к. нет писаной Конституции. КС может охранять только такую Конституцию, которая сформулирована на бумаге, но не абстрактное представление о принципах Конституции. Но это не означает отсутствия Конституции. Конституция существует, ее значение не преуменьшается, просто она имеет специфическую форму выражения.
Что касается некодифицированных Конституций, то здесь наилучшим примером может быть Французская Республика. Сегодня во Франции действует не только сама Конституция Пятой республики 1958 года, но и отдельные части из прежних Конституций, включая Декларацию прав человека 1789 года. Этот документ считается частью корпуса конституционных текстов. В рамках всего этого корпуса Конституционный Совет Франции обнаруживает опору, источники для принятия своих решений. Он может признать законы несоответствующие не только тексту Конституции 1958 года, но и другим текстам, образующим единое целое. В этом отношении доктрина устоялась во Франции и предполагается, что есть набор текста. Мы говорим о писаной, но не кодифицированной Конституции.
Писаная кодифицированная Конституция гораздо проще, пример, Конституция РФ 1993 года. Все конституционные положения сведены в один текст и рассматриваются как общий документ – Конституция.

Весьма проблемный и неоднозначный элемент теории Конституции, вопрос об изменении и преобразовании Конституции.
Со времен Г. Еллинека, в отечественной науке мало кто обращался непосредственно к этому вопросу, но на практике те характеристики, которые касаются изменения и преобразования Конституции имеют чрезвычайно важный и постоянно актуальный характер.
Г. Еллинек написал работу «Конституции: их изменение и преобразование». Он изложил на материале многих конституционных систем, современных ему и тех, которые существовали в прошлом, проблемы, которые касались разных способов развития Конституций. Одним из главных предположений выступает идея о том, что Конституции нуждаются в развитии. Текст, который сформулирован однажды, он может прожить несколько лет, несколько десятилетий, но со временем, его содержание потребует модернизации. Это связано с появлением новых социальных отношений, новых проблем, новой социальной реальности, связанной с развитием науки, техники, просто с развитием общества и тех проблем, которые раньше никак не могли стать предметом внимания разработчиков Конституции, но со временем становятся весьма и весьма актуальны. В этом отношении конституционный текст неизбежно требует развития. Это развитие, как посчитал, Еллинек, может происходить двумя путями: либо путем изменения Конституции, либо путем ее преобразования. Изменение текста происходит путем изменения ее текста, внесения поправок в текст Конституции. В соответствии с вновь складывающимися социальными отношениями, в соответствии с вновь складывающейся социальной реальностью, прежний конституционный текст корректируется. Это самый очевидный способ развития Конституции. Он сопряжен со многими сложностями, в частности, он лишает Конституцию, во многих случаях, необходимой священности, сакральности, она перестает быть настолько базовым и фундаментальным документом, который обладает высочайшим авторитетом в обществе, что возникает соблазн ее изменять в угоду изменения политической ситуации, кроме того, учитывая, что многие Конституции требуют достаточно сложной процедуры внесения изменений в текст, это всё еще и затруднено практически. Соответственно, изменения далеко не всегда – это тот путь, с помощью которого развивается Конституция.
Есть представления глубинные о том, что Конституция должна сохраняться неизменной, или наоборот она должна меняться с тем, как меняется общество.
В частности, представление о необходимости существования неизменной Конституции характерно для США¸ где Конституция существует уже больше двухсот лет, в нее вносятся поправки, но их было около 30. И эти поправки представляют собой очень редкое явление, а сам текст Конституции остается неизменным.
Другая доктрина была характерна для СССР, где каждый этап социально-экономического развития нужно было ознаменовать принятием новой Конституции. Это всё отражало то представление, те взгляды и ту оценку, которую Конституция имела в доктрине и государственной идеологии.
Изменения важны, но те изменения, которые не могут быть внесены, а иногда они нежелательны, породили иную практику, практику, которую Еллинек назвал преобразованием Конституции. Преобразование предполагает изменение содержания конституционного текста без изменения его самой текстуальной формы. Это значит, что в одни и те же нормы, в одни и те же понятия начинает вкладываться другой смысл, начинает толковаться положение Конституции по-другому, в соответствии с тем, как изменились общественные отношения.
Например, практика Верховного суда США. Примерно в 1930-е гг. Верховный суд рассматривал дело, в котором нужно было оценить, насколько посягает на свободу, неприкосновенность жилища прослушивание телефонных разговоров без физического проникновения в жилище. В 30-е гг. Верховный Суд США написал, что поскольку телефонов в 1787 году не было, не имелось ввиду то, что прослушивание каких-то сообщений будет вмешательством в защищенную сферу неприкосновенности. Прошло несколько лет и Верховный Суд США пересмотрел это решение, он пришел к выводу, что несмотря на то, что текст не содержит упоминаний о телефонных сообщениях, но сам смысл, сама идея, само содержание конституционного текста предполагает защиту в целом всего, что относится к личности, то проникновение в тайну личной жизни путем прослушивания телефонного сообщения не будет рассматриваться как допустимое в рамках конституционных норм. Соответственно, при одном и том же тексте, смысл в него стали вкладывать разный. Нужно сказать, что Еллинек выводил, определял несколько источников, способов преобразования Конституции. Он писал о том, что Конституцию можно преобразовывать с помощью судебной практики, законодатель, толкую конституционные положения, тоже может их изменять, это же касается и практики деятельности самих государственных органов, которые действуют на основании Конституции, наконец – доктрина, наука, право может тоже постепенно развивать представление о конституционных нормах без изменения их текстуального выражения.
Этому уделяется внимание, потому что Белов хочет подчеркнуть потенциальную возможность развития конституционного текста путем его нового истолкования. Эта идея для многих кажется совершенно неприемлемой, кажется совершенно недопустимой. Многие считают, то никакого преобразования Конституции быть не может. Это связано с формалистскими представлениями о праве в нашей стране, когда норма едва ли не ассоциируется с ее текстуальным воплощением в законе, и едва ли не сводится только к тому тексту, который закреплен в НПА. В этом случае допустить саму возможность изменения конституционного текста путем его нового истолкования и применения предполагает посягательство правоприменительных органов на те полномочия, которые должны принадлежать только нормотворческим органам. Когда, например, КС РФ со временем меняет свои подходы и начинает истолковывать положения Конституции иначе, нежели он это делал прежде, то это вызывает совершенно яростную критику в адрес КС, который посягнул на самое святое – на Конституцию. Наша доктрина нуждается в развитии и эта доктрина должна исходит из существующего положения вещей. Здесь вопрос философии. Правовая наука должна говорить о том, как должно быть или как есть в действительности? Нельзя переходить определенную грань и оправдывать существование всего, что происходит, в том числе таких явных и отчетливых нарушений. Но, если сами нормы Конституции, создают достаточные пределы для их истолкования, для их развития и преобразования путем практики их применения, то в этом отношении, мы не можем усмотреть ничего явно антиконституционного и в то же время того явления, которое существует на практике и нуждается в каком-то объяснении, если не говорить о простой фиксации.
Самое громкое дело, которое КС в этом отношении рассматривал, было решение по делу о назначении губернаторов. В 1996 году КС, рассматривая конституционность Устава Алтайского края, пришел к выводу, что из Конституции вытекает необходимость прямых всеобщих выборов высших должностных лиц субъектов федерации. Те положения Устава, которые предусматривали избрание главы субъекта законодательным органом, были признаны неконституционными, ввиду противоречия 3 ст. Конституции, народному суверенитету. Прошло 8 лет, в 2004 году федеральный законодатель установил новый порядок наделения полномочиями высшего должностного лица субъекта, как раз путем наделения полномочий решением законодательного органа власти субъекта федерации. В 2005 году конституционность этого закона оценивалась КС, в декабре 2005 года КС вынес постановление, в котором признал эти нормы не противоречащими Конституции. Породив в свой адрес самую ожесточенную критику тех, кто считал, что КС отступил от конституционных положений и принял фактически политическое решение.
Белов не может сказать, что аргументация КС абсолютно убедительна, но КС попытался объяснить, что изменилось за прошедшие годы в правовой системе РФ, какие новые обстоятельства привнесли объективные посылки для изменения тех положений, которые зафиксированы в Конституции. Самым важным доводом КС было то, что в 1996 году еще не существовало 184 ФЗ об общих принципах организации власти в субъектах федерации. Тогда субъекты федерации были ограничены конституционными положениями, которые должны были пониматься так, как их истолковал КС в 1996 году. Но, в последствии, федеральный законодатель, реализуя положение 77 статьи Конституции, придал новое истолкование конституционным нормам и создал условия для изменения понимания конституционного текста. Это было основанием изменения смысла конституционных норм. Произошло преобразование Конституции и решением КС, и законодателем, который внес свой вклад, что создало новое содержание конституционных норм.
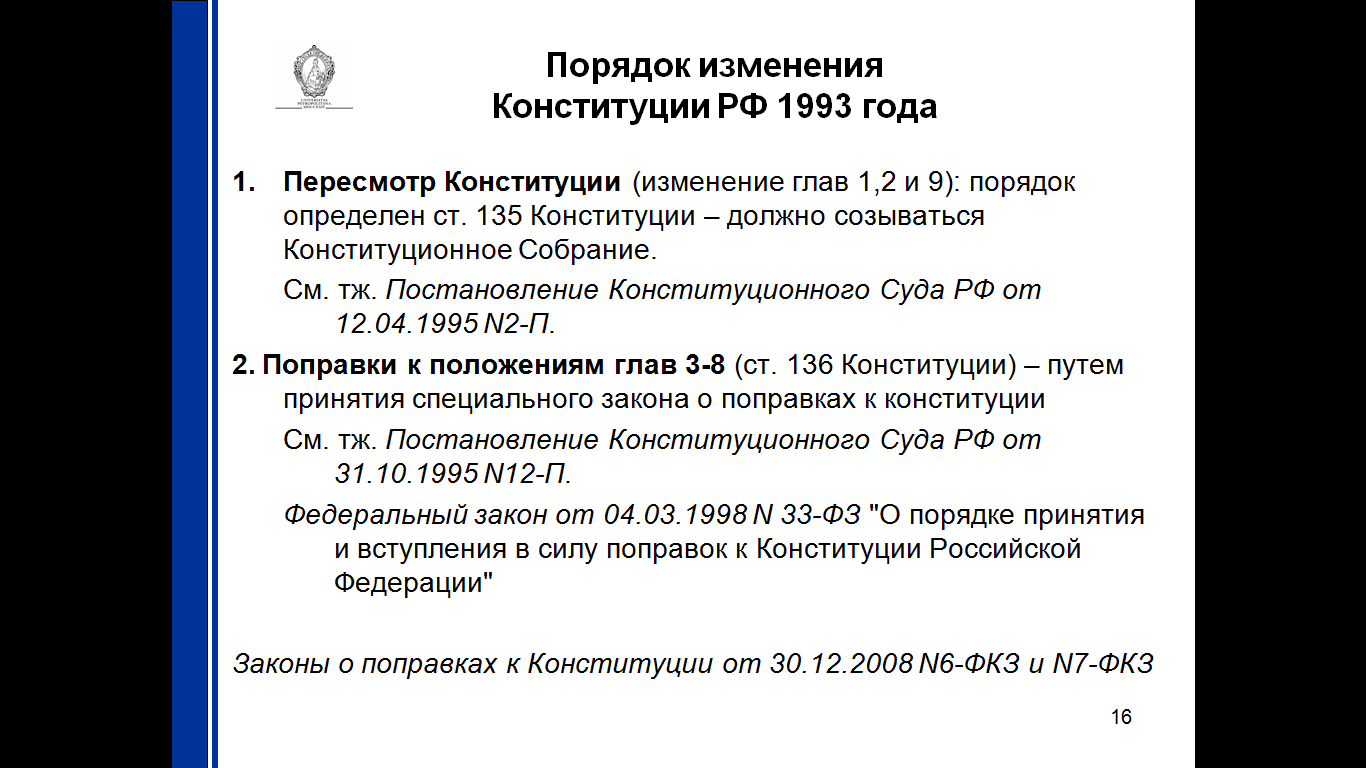

З
десь, с некоторыми дополнениями изложен конституционный текст.
Существует 4 способа внесения изменений в текст Конституции.
Во-первых, это пересмотр, в отношение которого КС в 1995 году осуществлял толкование 135 статьи, в отношении которого написал, что это должно быть обязательно Конституционное собрание. Референдум может дополнять, но не заменять Конституционное собрание.
Поправки, которые предполагают принятие специального закона, закона о поправках к Конституции. В Постановлении КС указывается на то, что это не ФКЗ, а это особый вид НПА – закон о поправке к Конституции.
Есть еще изменение 65 статьи Конституции, либо связанной с изменением статуса субъекта федерации, либо не связанной с таким изменением. Если изменение статус не затрагивают, речь идет об изменении наименования, и в этом случае, как КС решил, делать это должен Президент своим Указом, выполняя функцию гаранта Конституции. Если речь идет об изменении статуса субъекта федерации, тот закон, который изменяет статус субъекта, это ФКЗ, этот закон вносит изменение в 65 статью непосредственно.

Мы остановимся на двух свойствах Конституции, которые отчасти, характеризуют ее как правовой акт.
1 )
ВерховЕнство Конституции. Верховенство
предполагает, что Конституция находится
на особом положении во всей правовой
системе.
Что Конституция условно встроена в
иерархию нормативных актов. Если бы
Конституция была на вершине иерархии
тех документов, которые принимаются в
государстве, мы бы говорили, что она
обладает высшей юридической силой. Она
действительно обладает высшей юридической
силой, но это отдельное юридическое
свойство.
Мы говорим сейчас не о высшей юридической
силе, а о верховенстве Конституции.
)
ВерховЕнство Конституции. Верховенство
предполагает, что Конституция находится
на особом положении во всей правовой
системе.
Что Конституция условно встроена в
иерархию нормативных актов. Если бы
Конституция была на вершине иерархии
тех документов, которые принимаются в
государстве, мы бы говорили, что она
обладает высшей юридической силой. Она
действительно обладает высшей юридической
силой, но это отдельное юридическое
свойство.
Мы говорим сейчас не о высшей юридической
силе, а о верховенстве Конституции.
Верховенство не предполагает формальную характеристику юридической силы конституционных норм, верховенство предполагает оценку положения Конституции в правовой системе, которое связано с особым местом, или с положением ее вне самой иерархии, отчасти, даже вне самой системы правовых актов действующих в соответствующем государстве, например в РФ.
Когда мы говорим о верховенстве, можно привести пример. Когда мы рассуждаем о ФЗ, мы говорим о том, что они должны быть приняты как акты федерального уровня только в предметах ведения, которые Конституция считает предметами ведения РФ. Они не могут быть приняты по предметам исключительного ведения субъектов РФ. А Конституция подобным ограничениям не подвержена, это противоречило бы самой формальной логике. Она сама создает систему, она сама определяет виды нормативных актов, соотношение их по юридической силе, те предметы, по которым могут приниматься те или иные правовые акты, в частности, Конституция распределяет нормативные полномочия между федеральным уровнем государственной власти и уровнем государственной власти субъектов Федерации. В этом отношении Конституция не может считаться федеральным актом, она общий акт для всей правовой системы одинаково значимый и не ограниченный только федеральным правом. Верховенство есть некая особенная характеристика Конституции.
Это верховенство подчеркивается особой природой Конституции, связанной с тем, что Конституцию не следует рассматривать в качестве закона. Конституция, в отличие от закона, не принимается конкретными государственными органами, реализующими свои полномочия. Нет ни у какого органа полномочий по принятию Конституции. Эти полномочия вытекают из самого принципа народного суверенитета, из самой характеристике учредительной власти, но никак не из конкретных полномочий, установленный правовым актом. Конституция в этом отношении, ни связана, ни опирается ни на что. А закон как раз принимается конкретным органом в пределах своих полномочий, в рамках установленной процедуры (закон может быть признан несоответствующим Конституции и по порядку принятия), кроме того, закон принимается в рамках тех ограничений предметов ведения, которые устанавливает Федерации Конституция.
КС РФ в 2003 году рассматривал вопрос технический, вопрос, который вывел его на глобальные обобщения. Это был вопрос о том, можно ли обжаловать в судах общей юрисдикции Конституции (Уставы) субъектов федерации в таком же порядке, который предусмотрен для законов субъектов федерации. Речь шла о 251 статье ГПК РФ. КС, оценивая особенность, учитывая специфику Уставов и Конституций субъектов федерации, пришел к выводу, что их никак нельзя приравнивать к законам, их никак нельзя считать разновидностью закона. Это особый вид правового акта, соответственно на них не должны распространяться те особенность, которые характерны для законов. Положения Уставов и Конституций субъектов должны регулироваться особым образом, в частности, обжаловать в суде общей юрисдикции на соответствие ФЗ Конституций (Уставов) субъектов нельзя. Это Постановление ценно теми доводами, которыми оперирует КС, теми аргументами, которые КС приводит в обоснование различий между Конституциями и законами. Доводы КС могут быть применены не только к Конституциям (Уставам) субъектов РФ, но и к Конституции РФ.
Нужно сказать, что само по себе это положение о различиях между Конституциями и законами вызывает множество споров, особенно теоретики права, выращенные в советской школе теории права, не могут согласиться, что Конституция – это особый документ. Они считают, что Конституция – это разновидность законов; Основной закон, как писали во всех советских Конституциях. Советские Конституции исходили из совершенно иных идеологических и доктринальных установок, соответственно, тогда можно было считать, что Конституция есть закон. Теперь для этого нет оснований, теперь мы должны считать, что Конституция – это особый правовой акт, схожесть которого с законом ограничена и исходить из того, что Конституция чем-то напоминает закон, в принципе, не очень правильно.
В ажнейшее
свойство Конституции – это прямое
действие.
Прямое действие – это вопрос, который
вызывает много дискуссий и споров и
остается в этой части, в том числе
действующая наша Конституция, недостаточно
определенной по своему содержанию, по
условиям ее применения. Смысл
прямого действия: предполагается, что
если Конституция устанавливает какое-то
право, то это право может быть реализовано
с опорой на конституционные нормы.
Нет
необходимости законодательного механизма
реализации конституционных норм,
достаточно самого права, предоставленного
Конституцией.
На это право можно ссылаться, отстаивая,
защищая такое право в суде.
ажнейшее
свойство Конституции – это прямое
действие.
Прямое действие – это вопрос, который
вызывает много дискуссий и споров и
остается в этой части, в том числе
действующая наша Конституция, недостаточно
определенной по своему содержанию, по
условиям ее применения. Смысл
прямого действия: предполагается, что
если Конституция устанавливает какое-то
право, то это право может быть реализовано
с опорой на конституционные нормы.
Нет
необходимости законодательного механизма
реализации конституционных норм,
достаточно самого права, предоставленного
Конституцией.
На это право можно ссылаться, отстаивая,
защищая такое право в суде.
Советские Конституции были лишены свойства прямого действия и это порождало особые ситуации, ситуации, которые иначе как издевательство называться не могли, когда в Конституции было написано, что граждане имеют право, но если граждане пытались это право реализовать, им в ответ разводили руками и говорили, что закон не принят, поэтому в реальности этого права нет. Так было, например, с правом обжалования в суд действий или решений государственных органов и должностных лиц. Оно появилось в Конституции 1977 года и на протяжении более 10 лет оставалось декларативным правом, механизма не было, граждане реально не могли подать жалобу. Закон появился только в 1989 году, сослаться на Конституцию непосредственно в эти годы было невозможно. Конституция РФ 1993 года ситуацию принципиально изменила, и в самой Конституции, в 15 статье есть упоминание о том, что Конституция имеет свойство прямого действия.
Самый яркий пример: право на замену военной службы альтернативной гражданской службой. Такое право Конституция закрепила, в то же время закон, который определял условия замены и порядок прохождения альтернативной гражданской службы, появился только в 2002 году, а Постановление Правительства в 2003 году. На протяжении 10 лет многие граждане пытались, ссылаясь на Конституцию, защитить своё право на замену военной службы альтернативной гражданской. И эти попытки постоянно поддерживались и Верховным судом, и КС. Есть много решений, в которых суды указывали на то, что граждане не могут быть привлечены к ответственности за попытку реализовать свое конституционное право, попытку, которая не обеспечена законодателем. Соответственно, в этом случае и применялся принцип прямого действия Конституции. Отсутствие законодательного механизма не препятствует реализации права, предоставленного Конституцией.
В отношение прямого действия есть другой вопрос. Верховный суд в Постановлении Пленума 1995 года сформулировал свою позицию. Позиция заключается в том, что суды могут применять все НПА в соответствии с их юридической силой. Это не исключает применения Конституции напрямую в обход того более конкретного законодательного регулирования. Если суд видит, что закон, который он должен применить в конкретном деле не соответствует Конституции, он не применяет закон, а применяет Конституцию напрямую. При этом, соответствует закон Конституции или нет, определяет сам суд. Логика здесь – продолжение общей логики, предусмотренной для других НПА. Если подзаконный акт не соответствует закону, то суд должен применять закон непосредственно. В этом отношении суд должен соотносить акты по их юридической силе, должен принимать решение, какой акт принадлежит применение. С Конституцией не все так просто. Если бы у нас существовала только система судов общей юрисдикции, если бы мы создавали систему конституционного контроля такую же, как в США, Индии, Австралии, то эта позиция была бы оправдана и обоснованна. Но в отечественной традиции есть ряд препятствий для такого подхода и предоставления судам функции конституционного контроля. В частности, таким отчетливым препятствием может служить то, что решения судов у нас не подлежат обязательному официальному опубликованию, которое характерно для решения КС РФ, или Верховного суда РФ. Там, где есть доктрина прецедентного права, там предполагается, что решение суда публикуется, и оно обязательно для других судов. В отечественной традиции никогда не предполагалось использование прецедента в качестве источника права, обязательность высших судов для решения других дел не предусматривалось. В этих условиях легко представить ситуацию, что одни суды будут применять закон, считая, что он конституционен, другие суды его применять не будут, ссылаясь на его неконституционность. Если окончательное решение вынесет Верховный суд, оно не будет формально обязательным дл нижестоящих судов. Это было одной из причин создания КС как таковых, тех судов, которые не только концентрируют, централизуют в своих руках полномочия по конституционному контролю за действующим законодательством, но и которые отличаются по характеру, юридическими свойствами решений (обязательное опубликование) и свойством обязательности.
Эти идеи изложил КС в Постановлении 1998 года. КС написал, что никакие иные суды, кроме КС не вправе принимать решение о неконституционности закона, соответственно, суды не могут отказаться от применения закона, ссылаясь на его неконституционность до тех пор, пока КС эту неконституционность не определит в своем решении.
Каждый остался при своем мнении, но суды общей юрисдикции редко применяют Конституцию непосредственно, в этом отношении проблема носит абстрактный и умозрительный характер, нежели представляет проблемы на практике. Для чистоты этого юридического свойства Конституции, мы должны отметить, что поскольку в РФ специфическая система конституционного контроля и охрана конституции в лице КС, только КС имеет право признавать закон несоответствующим Конституции.
Для многих это означало, что никакого прямого действия Конституции вообще нет, что получается, что от прямого действия ничего не остается. С этим можно спорить. Дело в том, что прямое действие Конституции не нужно понимать бесконечно широко. Прямое действие Конституции касается только тех ситуаций, когда положения Конституции не конкретизированы в законодательстве и, соответственно, Конституция подлежит непосредственному применению ввиду пробела в законодательном регулировании. Если же закон есть, то он должен применяться в первую очередь. Если есть сомнения в конституционности закона, то вопрос должен быть поставлен перед КС и Кс должен поставить окончательную точку, он должен решить есть ли противоречие или нет, ля этого у КС есть процедура контроля, его решения обладают обязательной силой.
П оследний
вопрос имеет хрестоматийный характер.
Это представление о механизмах охраны
Конституции. Охрана Конституции –
понятие неопределенное, потому что
многие вкладывают разный смысл в понятие
«охрана Конституции». Если обобщить
имеющиеся взгляды, то можно выделить
три направления конституционной охраны.
оследний
вопрос имеет хрестоматийный характер.
Это представление о механизмах охраны
Конституции. Охрана Конституции –
понятие неопределенное, потому что
многие вкладывают разный смысл в понятие
«охрана Конституции». Если обобщить
имеющиеся взгляды, то можно выделить
три направления конституционной охраны.
А.А. Белкин в своей докторской диссертации писал о трех направлениях конституционной охраны.
1) Мы говорили в прошлый раз, о жестком характере Конституции в принципе, о том, что изменения Конституции требуют особой процедуры и защищены в принципе.
2) носит наименее правовой характер, т.к. в него пытаются вложить не только правовые, но и экономические, политические меры, связанные с обеспечением действия Конституции, отвечает за это всё Президент. На самом деле, говорить о том, что обеспечение реализации может осуществляться экономическими средствами справедливо, но это не правовой смысл. В правовом смысле охрана предполагает правовую реализацию Конституции, в частности, если Конституция предполагает издание НПА в развитие и конкретизацию ее положений, то такие акты должны приниматься, а Президент как гарант Конституции должен инициировать принятие таких актов и обеспечивать их существование.
3) Это то, что может считаться конституционной охраны в узком смысле, то, что образует наиболее часто употребляемое понятие конституционной охраны. Это контроль за содержанием тех нормативных актов, которые издаются на основании и во исполнение Конституции. Здесь можно говорить о двух видах конституционной охраны.
Сами понятия надзора и контроля в советском праве много обсуждались, были построены целые теории о соотношении контроля и надзора, в т.ч. в отношении конституционного контроля и конституционного надзора. С точки зрения обывательской слова очень близкие, похожие, но юридически в них вкладывают разный смысл. Иногда надзор оказывается шире контроля, но чаще контроль – более общее понятие, а надзор – более узкое. В случае конституционного надзора и конституционного контроля дело не только в широте, но и в качестве.
Конституционный надзор – деятельность, которая не предполагает прямого принятия обязательных решений, которые лишают юридической силы нормативные акты, противоречащие Конституции. Конституционный надзор – это, скорее, деятельность почти экспертная. Классическим примером был Конституционый Совет Франции, но в классическом варианте, в таком варианте был создан в 1989 году Комитет Конституционного надзора СССР. Предполагается, что решения надзора адресуются не правоприменителю, а законодателю. Часто, еще в рамках законодательного процесса. Орган конституционного надзора проверяет закон до того, как он вступит в силу, выявляя противоречие Конституции, он указывает на необходимость исправления. Парламент может не согласиться.
Конституционный контроль предполагает более широкие полномочия, предполагает возможность отмены, лишения юридической силы того акта, который признается неконституционным. Есть два варианта в мировой практике. (На слайде).
Суды общей юрисдикции при рассмотрении конкретных дел принимают решение о том, что закон не должен применяться ввиду противоречия Конституции. Специализированные КС в том числе в абстрактном смысле, в порядке абстрактного контроля проверяют законы, вступившие в силу. И если признают его неконституционным, то закон силу утрачивает.

Это единственная тема, которая будет практически лишена сравнительного аспекта, мы будем говорить именно о РФ, о тех особенностях, которые Россия имеет. И в прошлом, и в настоящем.
За точку отсчета мы берем Основные государственные законы 1906 года. Конечно, не бесспорна точка зрения о том, что именно в этот момент началась история отечественного конституционализма, многие весьма критически оценивают Основные государственные законы, но как их не оценивай, всё равно это первый законодательный акт, наиболее похожий на Конституцию в нашей отечественной истории. Всё, что было до того, мало ограничивало самодержавие, соответственно, нет в истории больше никакой точки отсчета, от которой можно было бы строить попытку конституционного развития.
Что же касается Основных государственных законов, то, став результатом революции 1905 года, они действительно закрепили пусть с очень значительными оговорками и исключениями, но такой, почти конституционный строй.
А дальше о тех Конституциях, которые принимались в советское время. Это, конечно, Конституции, которые отражали советскую идеологию, советское представление о Конституции. Это Конституции, которые отличаются от нынешних наших представлениях теоретических о том, какими Конституции должны быть. Но это наша история, которая отчасти объясняет существование многих институтов в современном конституционном строе РФ, которая необходима для понимания тех традиций, которые у нас существуют.
П одытожим
мы основными направлениями и особенностями
конституционного развития после 1993
года.
одытожим
мы основными направлениями и особенностями
конституционного развития после 1993
года.
Основные государственные законы (далее - ОГЗ) были выделены в составе Российской Империи тем, что они могли меняться только в особом порядке. И, в частности, инициативу изменения таких законов мог выдвигать только император. Никакие другие государственные органы не могли выступать с инициативой изменения ОГЗ. Уже это выделяло ОГЗ из прочих законодательных актов. Они закрепляли основные принципы государственного строя, они закрепляли основные государственные институты и определенные права личности. Конечно, это была не столь разработанная система прав, которая в последствие закреплялась и в международных актах, и в тех же советских Конституциях. Но, по крайней мере, это был первый шаг на пути юридического признания и гарантирования общих прав, в основном гражданских. Исходя из того, что в конституционализме основная часть, главная составляющая – правовое положение личности, взаимодействии личности и государства, мы с этого блока начнем характеристику ОГЗ.
Самое важное, что нужно отметить, это то, что до 1917 года в правовом положении граждан отсутствовал самый важный, самый фундаментальный принцип – принцип формального равенства. Не существовало единого, общего статуса личности. Он разделялся, он определялся отдельно для каждого вида, для каждой социальной группы, а именно для тех сословий, которые традиционно сформировались в Российской Империи и продолжали существовать в начале XX века. Конечно, сословное общество уже в этот момент было явным пережитком прошлого, но в силу определенной консервативности, в силу определенных традиций, именно такой правопорядок сохранялся и говорить о правовом положении личности в целом было достаточно сложно, хотя некоторые права и обязанности предоставлялись всем подданным Российской Империи, не зависимо от их сословного статуса. В частности, ОГЗ главные гражданские права закрепляли за всеми гражданами, за всеми подданными, не зависимо от их сословной принадлежности. Это были и права собственности, и свобода собраний, свобода слова (печати), свобода вероисповедания, ряд гарантий, которые мы сегодня называем гарантиями от необоснованного уголовного преследования (презумпция невиновности), право на судебную защиту. Это общие права, которые гарантировались всем подданным. Но, при этом, то, что касается других прав и обязанностей, то, в частности, например, обязанность, сегодня рассматриваемая как конституционная обязанность граждан платить налоги, она существовала не для всех сословий. Существовали податные сословия, которые платили налоги и те, которые налогов не платили. Тоже самое, воинская обязанность существовала не для всех сословий. Уже в этом отношении никакого общего равного статуса не было.
К началу XX века, наверное, самая ущемленная в правах социальная группа были инородны (национальные меньшинства). Для некоторых определялись даже ограничения по месту жительства, хотя свобода передвижения формально предоставлялась всем подданным, и в этом отношении разница между правовым статусом тех или иных групп, она различалась неодинаково применительно к тем или иным сословиям.
Ч то
касается государственных органов, то
система высших органов состояла из
главы государства (монарха), причем, в
каком то смысле, государь император был
похож
на нынешнего президента США в том смысле,
что он руководил исполнительной властью
и никакого Кабинета, определяющего
политику исполнительную в государстве
не было. В руках императора была
сосредоточена исполнительная власть,
а вот его прерогативы в области
законодательной и судебной власти были
существенно ограничены. Законодательная
власть принадлежала Парламенту, судебная
– суда. В этом отношении можно говорить
о некой системе, похожей на разделение
властей, связанной с разделением функций
между высшими государственными органами.
то
касается государственных органов, то
система высших органов состояла из
главы государства (монарха), причем, в
каком то смысле, государь император был
похож
на нынешнего президента США в том смысле,
что он руководил исполнительной властью
и никакого Кабинета, определяющего
политику исполнительную в государстве
не было. В руках императора была
сосредоточена исполнительная власть,
а вот его прерогативы в области
законодательной и судебной власти были
существенно ограничены. Законодательная
власть принадлежала Парламенту, судебная
– суда. В этом отношении можно говорить
о некой системе, похожей на разделение
властей, связанной с разделением функций
между высшими государственными органами.
С.А. Белов не будет вдаваться в подробности при описании полномочий, которые были у главы государства. Они характерны, в целом, для любого главы государства. И кроме тех особых традиционных, символичного статуса главы государства: права на титул, право на содержание за счет государственной казны, право на двор, где объявлялась государственная служба, в общем, статус императора мало чем отличался от статуса главы государства в современных республиках, а то, что касается монархий, то и сегодня, монархи многие сохраняют те атрибуты монаршей власти, которые существовали в России до революции, до государственного устройства начала XX века.
Нельзя сказать, что у императора были какие-то слишком большие полномочия, за исключением неких отдельно исключительных полномочий, в целом, не характерных для глав государств сегодняшнего дня. В частности, в законодательной сфере, император имел право роспуска законодательного органа. Учитывая, что в целом система не носила парламентского характера и не предполагала ответственности правительства перед парламентом, это было способом контроля за законодательной властью, нежели реальным механизмом разрешения политических кризисов, как это характерно для парламентских республик. В законодательной сфере очень критиковалось тогда полномочие императора по изданию Декретов. По сути, это те же самые Указы, которые в 90-е гг. XX века вызывали много споров уже как Указы Президента РФ. Сходство между ними очевидное, потому что их положение в правовой системе предполагает некую исключительность и действие фактически наряду с законами. Указы, Декреты, они были по юридической силе равны законам, они восполняли пробелы в законодательном регулировании в случае отсутствия закона и в этом отношении могли конкурировать с законодательной властью в обход законодателя, определяя какие-то правила, требования, устанавливая какие-то нормы без законодательной процедуры.
То, что касается судебной власти, то, наверное, самая отчетливая прерогатива заключалась в обязательности утверждения уголовных приговоров в отношении дворянства, это была одна из привилегий дворян и одно из исключительных полномочий императора.
О собо
следует сказать о Правительствующем
Сенате. Его положение в системе российского
дореволюционного государственного
устройства было особым. Не существовало
Верховного суда и Правительствующий
Сенат фактически выполнял роль высшей
надзорной инстанции, причем совмещая
в своих руках функции высшей административной
надзорной инстанции и высшего судебного
органа. В этом отношении Сенат мог бы
рассматриваться как определенное
нарушение принципа разделения властей,
потому что он осуществлял контроль и
за исполнительной властью, и за властью
судебной.
Правительствующий Сенат обладал правом
окончательного принятия решения по
большинству дел, рассматриваемых в
судах и Сенат издавал определенные
разъяснения по вопросам толкования
законов. Не
будучи законодательным органом, с
помощью инструкции по применения
законов, Сенат фактически дополнял,
иногда корректировал их и вызывал тем
самым ожесточенную критику, потому что
считалось, тем самым он вторгается в
компетенцию других органов. По сути
дела именно эта практика впоследствии
приобрела форму Постановлений Пленума
высших судов, в общем, ничего нового в
советское время не придумали.
По сути дела разъяснения судебных
инстанций на основе обобщения судебной
практики, они точно также как и до
революции, в каком то смысле развивали,
в каком то смысле корректировали
действующее законодательство.
собо
следует сказать о Правительствующем
Сенате. Его положение в системе российского
дореволюционного государственного
устройства было особым. Не существовало
Верховного суда и Правительствующий
Сенат фактически выполнял роль высшей
надзорной инстанции, причем совмещая
в своих руках функции высшей административной
надзорной инстанции и высшего судебного
органа. В этом отношении Сенат мог бы
рассматриваться как определенное
нарушение принципа разделения властей,
потому что он осуществлял контроль и
за исполнительной властью, и за властью
судебной.
Правительствующий Сенат обладал правом
окончательного принятия решения по
большинству дел, рассматриваемых в
судах и Сенат издавал определенные
разъяснения по вопросам толкования
законов. Не
будучи законодательным органом, с
помощью инструкции по применения
законов, Сенат фактически дополнял,
иногда корректировал их и вызывал тем
самым ожесточенную критику, потому что
считалось, тем самым он вторгается в
компетенцию других органов. По сути
дела именно эта практика впоследствии
приобрела форму Постановлений Пленума
высших судов, в общем, ничего нового в
советское время не придумали.
По сути дела разъяснения судебных
инстанций на основе обобщения судебной
практики, они точно также как и до
революции, в каком то смысле развивали,
в каком то смысле корректировали
действующее законодательство.
Практика Правительствующего Сената по изданию разъяснений очень любопытна, и в части того, какой инструментарий юридический использовал Сенат, и в части содержания разъяснений, которые он давал. В части источников, привлекались иногда даже сочинения зарубежных юристов, достаточно авторитетных. И практика Правительствующего Сената сегодня историками изучается как инструмент заимствования, в том числе, зарубежного права, когда по аналогии применялись какие-то модели, какие-то юридические институты, не знакомые ранее отечественному законодательству. В этом отношении, тоже практика Правительствующего Сената критиковалась, но то, что в этом отношении, правовая система была достаточно открыта, это можно рассматривать как положительную черту и явное преимущество в практике Правительствующего Сената, в последствие об этом не могло идти речи, о том, чтобы заимствовать опыт государств буржуазного социалистического окружения, конечно об этом не могли подумать в советское время, но практика Правительствующего Сената, она была в этом смысле очень полезна.
Т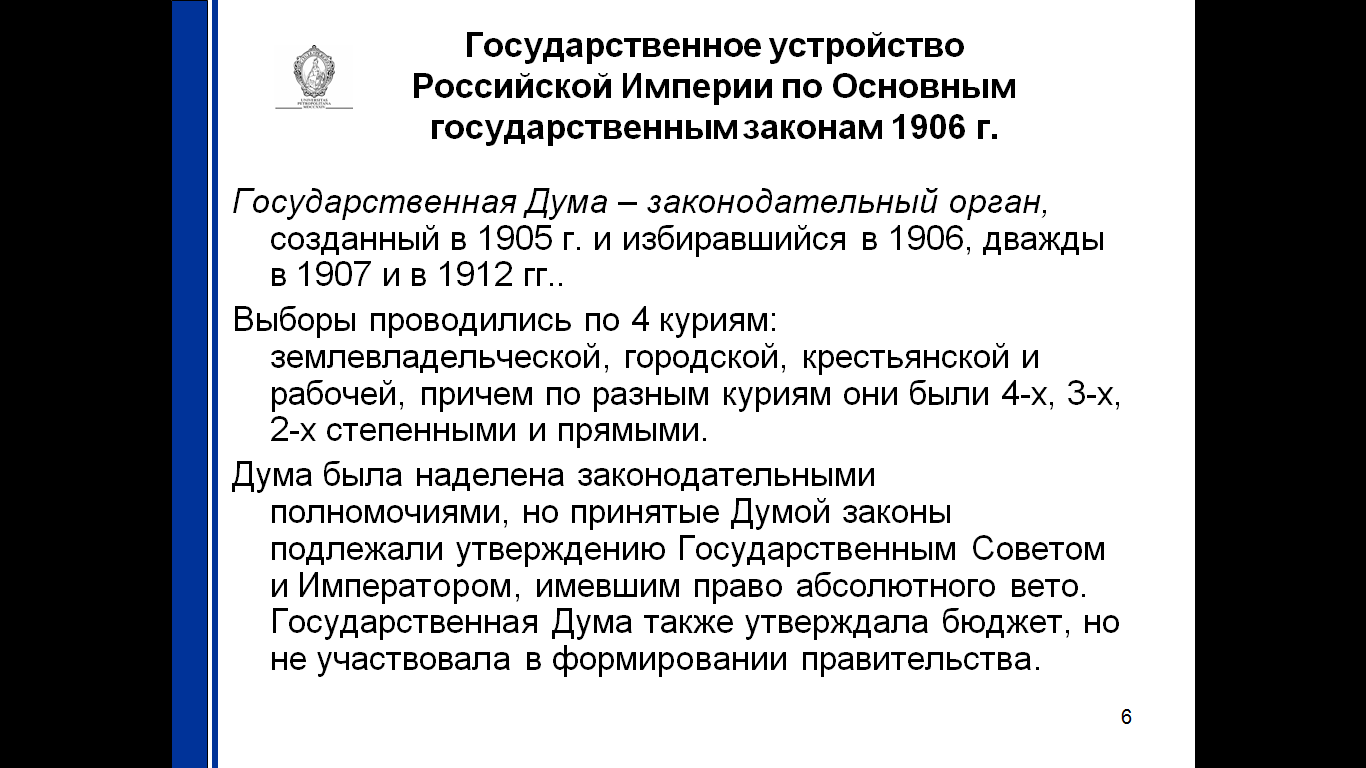 о,
что касается законодательных органов,
то мы хорошо знаем о существовании
государственной Думы Российской Империи.
С.А. Белов не будет подробно про нее
рассказывать, потому что про нее можно
прочитать в любом учебнике истории.
Очень много внимания уделялось в и
советское время критике того механизма,
который устанавливался, в частности,
касаемо выборов в Государственную Думу.
Реальная система, которая консервировала
сословную социальную структуру, она
тоже была явно архаичным институтом. К
тому моменту, она уже не существовала
почти нигде в странах Европы.
о,
что касается законодательных органов,
то мы хорошо знаем о существовании
государственной Думы Российской Империи.
С.А. Белов не будет подробно про нее
рассказывать, потому что про нее можно
прочитать в любом учебнике истории.
Очень много внимания уделялось в и
советское время критике того механизма,
который устанавливался, в частности,
касаемо выборов в Государственную Думу.
Реальная система, которая консервировала
сословную социальную структуру, она
тоже была явно архаичным институтом. К
тому моменту, она уже не существовала
почти нигде в странах Европы.
Большевики активно критиковали Государственную Думу в том, что не обеспечивается равенство курий по представительству. Для каких-то курий выборы носили многостепенный характер, а для каких-то выборы были прямыми. Основная идея была сформировать более-менее равное представительство всех курий, всех сословий. И для самого многочисленного сословия существовала наибольшая степень ступеней, а для самых малочисленных социальных групп, в каком то смысле уравнивалось их представительство и, конечно, в начале XX века это выглядело странно. Но еще 100 лет до этого это расценилось бы как прогрессивная и оправданная система.
Кстати, большевики в Конституции 1918 года, в части неравенства сельского и городского населения сохранили практически без изменений ту же самую пропорцию, которая была на выборах в Государственную Думу. И в этом отношении критика их была двуличная.
То, что касается полномочий, то Государственная Дума наделялась полномочиями по изданию законов, а контроль за правительством был весьма ограничен и это было одним из основных камней преткновения в спорах между законодательным органом и императором, это был повод для нескольких политических кризисов. Пытаясь получить полномочия по контролю за правительством, Дума, как раз, часто ставила себя под угрозу.
Г
 осударственный
Совет в каком то смысле представлял
собою верхнюю палату, но это не была в
том смысле, в котором мы сегодня можем
себе представить верхнюю палату.
Законодательные полномочия были весьма
ограничены.
И даже сравнить с палатой Лордов
Государственный Совет невозможно, его
функции были очень ограничены. Кроме
некого фильтра на пути правильных
законов, принятых Государственной
Думой, полномочия Государственного
Совета почти ни на что не распространялись.
осударственный
Совет в каком то смысле представлял
собою верхнюю палату, но это не была в
том смысле, в котором мы сегодня можем
себе представить верхнюю палату.
Законодательные полномочия были весьма
ограничены.
И даже сравнить с палатой Лордов
Государственный Совет невозможно, его
функции были очень ограничены. Кроме
некого фильтра на пути правильных
законов, принятых Государственной
Думой, полномочия Государственного
Совета почти ни на что не распространялись.
Мы остановимся на правовой стороне тех событий, которые происходили в 1917-1918 году. Во многом они стали основой для дальнейшего конструирования советского государства, а советское государство переросло в наше нынешнее государство. В 1917 году совершилось несколько событий последовательно, которые привели к определенным государственно-правовым последствиям и которые имели своим результатом создание нового государства.
Началось всё с февральской революции, февральская революция закончилась отречением Императора. Причем отречение сначала в пользу брата, брат отрекся в пользу Учредительного собрания, чтобы Учредительное собрание определило судьбу формы правления в России в будущем. До созыва Учредительного собрания юридически каждое следующее действие опиралось на предыдущее, т.е. прослеживалась юридическая связь одного действия с другими и они представляли собой некую последовательную цепочку. Сначала отречение (юридический документ), потом второе отречение и принятие решения о созыве Учредительного собрания, формирование Государственной Думой Временного Правительства (далее - ВП). Причем ВП было сформировано для того, чтобы подготовить выборы в Учредительное собрание и на время до выборов в Учредительное собрание осуществлять текущее руководство государством. Конечно, дальше сыграли роль и личности, которые заседали во ВП, ВП не очень спешило, все это сопровождалось теми или иными событиями, в частности, в сентябре Государственная Дума провозгласила Россию республикой, притом, что юридически для этого не было никаких оснований. Учредительное Собрание должно было решить судьбу монархии, сохранится ли конституционная монархия или будет республика, Государственная дума пыталась посягнуть на полномочия Учредительного собрания. А те события, которые происходили в конце октября 1917 года, они тоже, строго говоря, не посягали на саму идею захвата всей полноты власти. Большевики не претендовали на то, чтобы сразу захватить в свои руки всю полноту власти. Тот переворот, который случился 25 октября, предполагал свержение ВП, но, учитывая, что еще в этот момент шла война, конечно большевики пытались перехватить исполнительную власть, взять в свои руки ту государственную политику, которая осуществлялась непосредственно, но, при этом, не отвергая саму идею Учредительного собрания.
Выборы в Учредительное собрание были проведены уже после 25 октября, в ноябре 1917 года, т.е. когда уже по всей стране шагала советская власть. После 25 октября события развивали параллельно: одновременно проходили выборы в Учредительное собрание и формировалась юридическая основа для нового советского государства. С 25 октября Советы стали издавать правовые акты, в основном они назывались Декретами, которые отражали определенную политику. Сами Советы с точки зрения правовой не имели никакого отношения к государственным институтам и представляли собой непосредственную реализацию власти народа. При всех оговорках, при всех условностях этого суждения, Советы были именно органами самоуправления. Они формировались определенными социальными группами, они представляли собой некие общественные организации самоуправленческие. И передача им публично властных полномочий была подменой существующих властных институтов другими институтами публичного характера, публичной власти, хотя и негосударственных. Само себе разделение власти публичной и государственной (публичная власть более широкая) сегодня актуально для разделения местного самоуправления и государственной власти, тогда было характерно для существования параллельно нескольких институтов. Притом, что тогда это никто так не называл, естественно, тогда большевики претендовали на то, чтобы создавать новое государство и те Советы, которые были сформированы, они должны были стать основой нового государства. За конец октября, ноябрь и декабрь было издано много декретов, в том числе революционных. Революционных – именно менявших правовую систему, менявших принципы существования государства, базовые устои. Они были как в социальной, так и политической и в экономической сферах одновременно. Самым важным в социальной сфере был Декрет о ликвидации сословий и гражданских чинов, были изданы несколько Декретов, обеспечивающих социальные права, например, Декрет о 8-ми часовом рабочем дне. В экономической сфере самыми важными были Декреты о рабочем контроле, т.е. о фактически лишении собственников права распоряжаться своими предприятиями и передача управления предприятием группе работников предприятия. И последовавшая затем национализация банков и промышленных предприятий.
Всё это, в целом, формировало правовую основу для создания нового государства. И государство, естественно, принципиально нового. Политически очень интересно смотреть за тем, как менялось отношение к Учредительному собранию по мере крепления советской власти. Если сразу после революции большевики никак не возражали против создания Учредительного собрания и даже организовали выборы, то к моменту, когда Учредительное собрание уже должно было собраться, когда оно уже было избрано и состав его был известен, тогда уже Ленин окрестил его «Учредилкой» и соответствующим образом стал оценивать перспективы его работы. Учредительное собрание работала всего 1 день, фракция большевиков почти сразу покинула работу Учредительного собрания. Важно юридически, что большевики пытались легитимировать новый государственный строй с помощью Учредительного собрания. Они пытались сохранить юридическую преемственность, опору на прежние юридические конструкции. Отречение последовало в пользу Учредительного собрания и дальше, если бы Учредительное собрание признало советскую власть, то никаких юридических претензии к формированию нового государства вообще не могло возникнуть.
Но Учредительное собрание даже обсуждать этот вопрос отказалось, тем самым оно подписало себе приговор, Учредительное собрание было распущено и после того как легитимация нового государственного строя не состоялась, большевики сказали «ну и ладно, тогда мы используем другой источник: мы соберем общероссийский съезд советов (III), который примет окончательное решение, что мы создаем новое государство». Через несколько дней после роспуска Учредительного собрания такой Съезд Советов был собран и он принял те документы, которые предлагалось утвердить Учредительному собранию, выполнив функцию фактически Учредительного собрания, создав новое государство. Документом этим была Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа.
Э то
документ, который создал государство,
который фактически создал новое
государственное устройство и решил
судьбу прежнего государства: ликвидировал
его.
то
документ, который создал государство,
который фактически создал новое
государственное устройство и решил
судьбу прежнего государства: ликвидировал
его.
На слайде можно увидеть, что все ранее принятые обязательства царского правительства были аннулированы, это касалось и финансовых обязательств, и международных договоров, всех тайных соглашений (тайные – понятие условное). Соответственно, получается, что, как минимум, эти два положения, включенные в декларацию, они означали полный отказ от правопреемства в отношение прежнего государства. Конечно, историки права, оценивая эту ситуацию, по-разному на нее смотрят. Кто-то считает, что преувеличенного значения этой Декларации не нужно придавать, она если только провозглашала существование нового государства, но не разрывала правопреемства по отношению к прежнему. Белову кажется, что те положения, которые были включены в Декларацию, они означали, что прежнее государство как юридический субъект перестало существовать в принципе и никакого правопреемства не предполагалось. В дальнейшем, не универсальное, а индивидуальное в отношении конкретных обязательств правопреемство все-таки было сконструировано. Российская советская республика признала некоторые обязательства по договорам Царского правительства, в обмен на международное признание государства. Но это уже был торг в отношении этих обязательств, скорее политический. Юридически, они не признавались как действительные, как связывающие новое государство. Именно поэтому, тогда в 1917 году произошел разрыв между существовавшим ранее юридическим субъектом и созданным заново государством. Мы живем в государстве, которое было создано в 1918 году Декларацией прав трудящихся и эксплуатируемого народа, потому что в 90-е гг. такого разрыва не было. Вопрос о правопреемстве в отношении Российской Империи, он дискуссионен. И если оценивать те принципы, те цели, тот дух Декларации, то мы не можем говорить о том, что обязательства Российской империи вообще продолжали существовать в юридическом смысле.
В июле 1918 года был принята первая советская
Конституция.
Одна деталь Белова поразила: Съезд
Советов, приняв Конституцию, поручил
Ленину доработать её.
июле 1918 года был принята первая советская
Конституция.
Одна деталь Белова поразила: Съезд
Советов, приняв Конституцию, поручил
Ленину доработать её.
Конституция была пронизана той концепцией, которая была поднята на флаге революции. И эта концепция была продуктивна и эффективна в отношении революционных целей, но она была очень плохо пригодна для дальнейшей организации власти. Просуществовала в таком виде государства совсем немного, всего 6 лет. И эта Конституция, она была слишком радикально подчеркнута, относимо той концепции Конституции, которую Ленин проповедовал. Мы говорили об этой концепции: победивший класс закрепляет свое господство Конституцией. Это основной смысл той Конституции, которая появилась в 1918 году.
Конституция - «диктатура пролетариата», Конституция, которая не предполагала юридического равенства граждан, Конституция, которая не предполагала никаких либеральных свобод, Конституция, которая была построена на идее борьбы с враждебным окружением не только международным, но и внутри государства, борьбы того класса, который захватил власть со всем остальным обществом. Конструктивно на этом сложно было существовать. тем не менее, Конституция 1918 года закрепила ряд положений, которые просуществовали на всем протяжении советской власти, в частности, об ограничении собственности на средства производства. Если позднее личная собственность граждан была разрешена, то в качестве экономической основы советского государства существовало полное огосударствление всех средств производства. Это задавало новый тип экономической системы, а отсутствие собственников как самостоятельных экономических субъектов предполагало руководящую роль государства. Государство стало центральным элементом в экономической системе ввиду самих принципов новой экономики.
То, что касается правового положения личности, Конституция была уникальна, потому что она предполагала предоставление прав не по принципу гражданства, а по принципу социальной принадлежности. Политические права принадлежали всем рабочим, независимо от того, принадлежали они к российскому гражданству или нет. Таких ситуация в мировой практике, наверное, найти невозможно. И в советской России этот принцип просуществовал недолго. Как только отказались от идеи мировой революции, сразу этот принцип из Конституции был исключен.
Что касается самих прав, то Конституция 1918 года была намного более жесткой, намного более ограничивающей права, нежели Основные законы Российской империи 1906 года. В частности, то, что касается политических и многих гражданских прав, они ограничивались в той части, в которой их реализация могла представлять угрозу революции. А под это можно было подвести практически любую политическую деятельность, кроме той, которая явно выражала поддержку советской власти.
При этом, социальные права, которые, казалось бы, были главной целью и главным лозунгом, с которым большевики шли на революционное выступление, эти права Конституция не закрепляла. И наоборот, она устанавливала всеобщую трудовую повинность. Уникальный случай того времени в мировой практике, когда конституционно устанавливалась обязанность всех трудиться. И в этом отношении новая Конституция, она слабо напоминает буржуазные Конституции зарубежных государств, она представляла собой нечто оригинальное, нечто особенное, построенное на тех принципах, которые больше к тому моменту нигде не признавались. В этом отношении, утверждение о том, что появилось уникальное явление в мировой практике даже юридически отрицать бессмысленно. Действительно, те принципы, которые были установлены, они были специфические, насколько это можно считать принципами, соответствующими идеям прав человека, гуманизма и т.д.
О чень
показательно в Конституции 1918 года были
определены условия реализации
избирательных прав. Как главное
политическое право, именно избирательное
право было особо подробно Конституцией
урегулировано.
чень
показательно в Конституции 1918 года были
определены условия реализации
избирательных прав. Как главное
политическое право, именно избирательное
право было особо подробно Конституцией
урегулировано.
В частности, предусматривалось то явление, которое в наше стране ни ранее, ни позднее не использовалось, это люстрация. Люстрацию сегодня можно видеть в некоторых бывших республиках СССР (Прибалтике), сама люстрация как явление живет.
Люстрация – лишение политических прав, в частности, избирательных прав тех, кто имел какие-то связи с прежним политическим режимом. В Конституции 1918 года закреплялось прямое лишение прав тех, кто был как-то связан с Царским режимом, перечислялись конкретно те категории, которые были лишены прав и историки сегодня пишут о том, что категория лишенца просуществовали намного дольше, чем Конституция 1918 года. Если Конституция СССР 1936 года провозгласила всеобщее равное прямое избирательное право, то в анкетах, в реальной политической практике категория лишенцев просуществовала даже до послевоенных времен. Соответственно, в анкетах содержались графы: были ли ваши родственники когда-нибудь лишены избирательных прав, это рассматривалось как клеймо на человеке, которое предопределяло его судьбу не только в сфере политики, но и в обычной жизни. Таким лишенцам найти работу было сложно, в некоторых случаях это могло привести напрямую к гибели, потому что получить продовольственную карточку могли только работающие граждане. Лишенцы и люстрация явления не столь безобидные, как может показаться. Не только избирательных прав касались эти ограничении, связанные с преследованием ранее принадлежавших к бывшему политическому режиму граждан.

То, что касается системы государственных органов, то по Конституции 1918 года была создана система, которая просуществовала недолго, она была до 1936 года, хотя сам принцип, сами идеи во многом сохранились и позднее.
Главная идея заключалась в принципе демократического централизма: никакого разделения властей, вся власть – Советам.
Советы – единственные органы власти. Терминологически это очень важно. Мы будем говорить про то, что эти идеи разделения органов государственной власти и государственных органов живут по сей день. И до сих пор многие считают, что отдельно нужно говорить об органах государственной власти, отдельно о государственных органах. Эта идея была впервые юридически реализована в Конституции 1918 года. Советы – органы власти, кроме Советов есть органы государственного управления и правоохранительные органы. Этим исчерпывается государственный аппарат. В каком-то смысле разделение функций объективно: одни издают нормативные акты - Советы, другие осуществляют исполнение – это органы государственного управления, третьи обеспечивают решение конфликтов, споров, преследование и привлечение к ответственности тех, кто нарушает правила – это правоохранительные органы. Но глобально все равно эта система предполагала подчинение всех органов Советам. Советы могли давать указания всем органам власти. Хотя формально законодательство в дальнейшем стало давать гарантии независимости суда, как мы понимаем, сама политическая система независимости не предполагала. Суд был элементом общей системы, и он должен был следовать тем революционным принципам, которые закреплялись Советами, той политической линии, которую определяла партия и все органы власти. В этом отношении советская система принципиально отличалась не только отсутствием принципа разделения властей как формальным отличием, но и сущностным, содержательным отличием она была не похожа на буржуазную демократию.
То, что касается системы органов, то до 1936 года существовали Съезды Советов, но они рассматривались как высшие органы государственной власти. Само понятие Съезда не предполагает постоянно действующего органа. Съезд – это орган, который собирается, основные решения принимает и дальше распущен до следующей сессии. В этом смысле Съезды Советов предопределили стиль работы представительных органов, создали принцип, который долго просуществовал в Советском государстве: идею создания внутри представительного органа некой надстройки, некого исполнительного органа, но на самом деле не исполнительного в том смысле, как существуют органы исполнительной власти, а исполнительного в том смысле, что это постоянно действующий орган, заменяющий Парламент (высший представительный орган) на время между сессий. И его в его руках сосредотачивается вся высшая власть до следующей сессии съезда Советов. До 1936 года это был ВЦИК, во ВЦИКе уже появился прообраз будущей надстройки в новом органе – Верховном Совете.
Съезды Советов постепенно прекратили свое существование, к 1936 году их отменили, а ВЦИК стал Верховным советом. Но принципиальная разница между многочисленным, неуправляемым, неработоспособным представительным органом и небольшим, компактным, сформированным с помощью нескольких ступеней, с помощью фильтров органа, который сосредотачивал в своих руках реальную представительную власть, этот принцип просуществовал все годы советской власти фактически до 1993 года.
С ам
орган государственного управления –
СНК.
Сама по себе идея довольна любопытна.
Петровские коллегии отличались от
министерств тем, что там была коллегиальность
как принцип принятия решений. Министр
– единоначально руководит министерством,
определяет политику сам, несет
ответственность за эту политику, а
комиссариат – это коллегиальный орган.
Соответственно, народный комиссар, хотя
формально и возглавлял, но решений
многих не принимал и ответственности
за них не нес.
Это интересный принцип, который нигде
формально не закреплялся, но просуществовал
все годы советской власти,
если персонально за принятие решения
можно возложить ответственность, то за
решение, принятое коллегиально, никто
ответственности не несет.
Потому что ответственность размывается
,каждый вроде участвует в принятии
решения, но за конечный результат не
отвечает, потому что конечный результат
зависит не только от него, но и от других
членов коллегиального органа. Это один
из базовых принципов, которые на всем
протяжении советской власти был очень
важен в системе государственного
устройства, несмотря на то, что после
войны министерства заменили собой
комиссариаты и стали существовать как
основные органы государственного
управления.
ам
орган государственного управления –
СНК.
Сама по себе идея довольна любопытна.
Петровские коллегии отличались от
министерств тем, что там была коллегиальность
как принцип принятия решений. Министр
– единоначально руководит министерством,
определяет политику сам, несет
ответственность за эту политику, а
комиссариат – это коллегиальный орган.
Соответственно, народный комиссар, хотя
формально и возглавлял, но решений
многих не принимал и ответственности
за них не нес.
Это интересный принцип, который нигде
формально не закреплялся, но просуществовал
все годы советской власти,
если персонально за принятие решения
можно возложить ответственность, то за
решение, принятое коллегиально, никто
ответственности не несет.
Потому что ответственность размывается
,каждый вроде участвует в принятии
решения, но за конечный результат не
отвечает, потому что конечный результат
зависит не только от него, но и от других
членов коллегиального органа. Это один
из базовых принципов, которые на всем
протяжении советской власти был очень
важен в системе государственного
устройства, несмотря на то, что после
войны министерства заменили собой
комиссариаты и стали существовать как
основные органы государственного
управления.
Помпезное шествие советской власти по бывшей Российской империи на протяжении нескольких лет после 1918 года привело к установлению социалистического советского государственного строя во многих обломках бывшей Империи. К началу 20-х гг. возникла идея объединения тех же самых практически территорий, только в урезанном виде, в частности, в состав советских территорий уже не входила Финляндия, но основная территория Империи, а именно, на тот момент, когда появилась идея создания СССР 1922 году, 4 республики: Российская федеративная республика, Закавказская федеративная республика, состоявшая из стрех республик, Украинская и Белорусская республики приняли решение о создании СССР.
СССР создавался и существовал на протяжении почти 70 лет как объединение государств. Охарактеризовать природу СССР достаточно сложно, потому что в его устройстве, по крайней мере, в советское время, считалось, что СССР – это федерация. На самом деле СССР некоторыми признаками, обязательными для федеративного государства не обладал, напротив, обладал теми чертами, которые характерны для конфедеративных образований, т.е. для союзов государств. В частности, в Конституциях СССР предусматривалось сохранение суверенитета союзных республик, входящих в состав СССР. Сохранялась значительная степень самостоятельности в рамках законодательных полномочий, сохранялась самостоятельность формирования государственных органов и т.д. По крайней мере, юридически СССР представлял собой добровольное объединение суверенных государств. Каждая из республик обладала юридическим правом одностороннего выхода из состава СССР. Понятно, что политически это право невозможно было реализовать, политически СССР был централизованнее многих унитарных государств, но с точки зрения правовой формы, СССР далеко не столь был централизован, как это принято считать, как утверждается многими историками с политологических позиций.
СССР был создан путем созыва I Всесоюзного съезда советов. Этот Съезд советов утвердил Декларацию и договор о создании СССР, а примерно через год, а именно, в январе 1924 года появилась первая Конституция СССР, которая не преследовала цель заменить собой Конституцию союзных республик, а её предмет регулирования ограничился именно условиями и общими рамками создания союзного государства, создания союзных органов, разделения компетенции в рамках СССР и другие вопросы, относящиеся к устройству всего союзного государства, но не того, что касается, например, статуса граждан. Эти положения остались неизменными и продолжали регулироваться конституциями союзных республик. начиная с 1924 в советском конституционном строе возникла, если хотите [С.А.Белов], традиция. Традиция заключалась в том, что сначала принималась Конституция на общесоюзном уровне, потом по образу и подобию принимались Конституции союзных республик. А те республики, которые имели в своем составе автономные республики, тоже имевшие Конституции, эти автономные республики копировали Конституции более высокого уровня. Конституция РСФСР была утверждена в 1925 году. После Конституции СССР 1936 года появилась Конституция РСФСР 1937 года, а после Конституции СССР 1977 года появилась Конституция РСФСР 1978 года.
СССР в момент его создания отражал ту систему, устройство государственных органов, которое существовало на республиканском уровне. Высшим органом был Съезд Советов, при нем создавался ЦИК. Но, поскольку, СССР был Союзным государством, этот постоянно действующий ЦИК, его сделали двухпалатным. Представительство в нем было организовано по разному принципу в каждой палате. Одна палата формировалась по принципу представительства пропорционально населению – Совет Союза. А другая палата, Совет Национальностей, формировалась путем равного представительства республик, причем уже в 1924 году была заложена особенность, которая сохранилась на протяжении всего существования СССР. СССР не был в полном смысле слова двухуровневой федерации. Казалось бы, в состав СССР входило союзное же федеративное государство РСФСР, в составе ее тоже образовывались автономные республики. Но эти автономные республики, которые в соответствии с ленинской концепцией, представляли собой реализацию права народов на самоопределение, они были представлены не только в республиканском ЦИК, но и во Всесоюзном. Совет Национальностей формировался от представителей и союзных, и автономных республик. И в этом смысле, предполагалось, что на Всесоюзном уровне представительство имеют в том числе и автономные республики, что позволило им при развале СССР в конце 80-х гг. претендовать на те же самые права, что и союзные республики. В частности, некоторые из них объявили о своем выходе из состава РСФСР, и, соответственно, из состава общего союзного государства. В частности, как заявит Татарстан, приняв Декларацию о государственном суверенитете. И свой государственный суверенитет пытались на этом основании провозгласить многие советские республики, поскольку устройство государственных органов СССР давало им определенные поводы считать себя почти равными союзным республикам по статусу.
В 1936 году была проведена правовая реформа,
была принята новая Конституция. В
советское время принятием новой
Конституции обычно было связано с
определенной констатацией перехода к
новому этапу развития общества в
программных документах коммунистической
партии. Партия констатировала, что
какие-то задачи решены, нужно поставить
новые задачи развития и с переходом к
новому этапу, мы меняем все общество, в
том числе мы меняем Конституцию. Так
было в 1936 году, так было в 1977 году. В
1936 году, самое принципиальное, что
изменилось идеологически, это было
покончено с идеей диктатуры пролетариата,
потому что было объявлено о ликвидации,
в целом, классов в обществе.
То государство, которое было создано
на принципиально новых условиях:
советское социалистическое государство,
оно было организовано иначе, нежели
буржуазное государство. Первый этап
его развития предполагал просто
ликвидацию классов, создание бесклассового
общества. Единого, в котором только
разделение труда: крестьяне, рабочий
класс и прослойка интеллигенции.
1936 году была проведена правовая реформа,
была принята новая Конституция. В
советское время принятием новой
Конституции обычно было связано с
определенной констатацией перехода к
новому этапу развития общества в
программных документах коммунистической
партии. Партия констатировала, что
какие-то задачи решены, нужно поставить
новые задачи развития и с переходом к
новому этапу, мы меняем все общество, в
том числе мы меняем Конституцию. Так
было в 1936 году, так было в 1977 году. В
1936 году, самое принципиальное, что
изменилось идеологически, это было
покончено с идеей диктатуры пролетариата,
потому что было объявлено о ликвидации,
в целом, классов в обществе.
То государство, которое было создано
на принципиально новых условиях:
советское социалистическое государство,
оно было организовано иначе, нежели
буржуазное государство. Первый этап
его развития предполагал просто
ликвидацию классов, создание бесклассового
общества. Единого, в котором только
разделение труда: крестьяне, рабочий
класс и прослойка интеллигенции.
Юридически это было отражено в Конституции 1936 года, в которой уже отсутствовали положения, касающиеся неравенства. Никакой люстрации в Конституции 1936 года уже не было. Де факто она была сохранена в политической практики, но с правовой точки зрения люстрация не предусматривалась. Конституция 1936 года объявила, закрепила юридически, принципы всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании, предполагалось голосование с 18 лет, всех совершеннолетних граждан. Про это часто говорят, это было прогрессивно, это была одна из самых прогрессивных Конституций, где закреплялись, в частности, принципы равенства, где закреплялись многие права граждан и гарантии защиты этих прав, которые отражали, в том числе и буржуазные представления о гарантиях защиты личности. Были и нюансы. Например, если в зарубежной практике предполагалось, что санкции на арест и задержание должен давать суд, то в советской практике такие санкции мог давать не только суд, но и прокурор.
Когда характеризуют «сталинскую» Конституцию, все говорят, что все эти права были закреплены на бумаге, что в реальности никакие гарантии не обеспечивались. Но мы анализируем юридическую составляющую, которая была провозглашена на конституционном уровне и в этом смысле Конституция представляла собой явный шаг вперед в развитии конституционализма. В ней были отражены многие права, которые отсутствовали в Конституции 1918 года. В частности, в ней были закреплены социальные права, в 1918 году их просто государство не могло себе позволить гарантировать юридически, потому что их нельзя было обеспечить экономически. Но в 1936 году уже государство было достаточно развито, чтобы закрепить и право на образование, и право на социальную защиту, и право на труд.
Белов особо подчеркивает, что, во-первых, речь уже не шла о трудовой повинности, об обязанности трудиться, а, во-вторых, то, что именно в качестве социального права гарантировалось право на труд. Предполагалось, что государство обеспечивает каждому возможность трудиться. Возможность, и естественно, право получать за свой труд соответствующее вознаграждение.
При характеристике статуса личности по Конституции 1936 года нужно отметить систему прав, систему их расположения в порядке значимости, соответственно в порядке очередности в Конституции. Первые – социальные права, они считались самыми важными. Это предполагалось общей концепцией общественного устройства, устройства мировоззренческой, идеологической концепцией советского строя. И то, что касается прочих прав, то они носили подчиненный (второстепенный) характер. Что касается политических прав, они шли одни из последних. За правами социальными следовали права личные, в частности, права на защиту от необоснованного уголовного преследования, процессуальные гарантии, презумпция невиновности и другие.
Ч то
касается устройства государства, то в
1936 году государственный строй был
несколько реформирован, по сравнению
с тем, что существовало до 1936 года, и
созданная система государственных
органов просуществовала уже практически
до развала СССР. Только в 1989 году начались
определенные изменения. С 1936 до 1989 года
эти изменения были второстепенными и
почти не затрагивали основной архитектуры
советского государства.
то
касается устройства государства, то в
1936 году государственный строй был
несколько реформирован, по сравнению
с тем, что существовало до 1936 года, и
созданная система государственных
органов просуществовала уже практически
до развала СССР. Только в 1989 году начались
определенные изменения. С 1936 до 1989 года
эти изменения были второстепенными и
почти не затрагивали основной архитектуры
советского государства.
Это устройство предполагало создание органа представительного, который находился на вершине системы всех государственных органов – это Верховный совет СССР (далее - ВС). ВС состоял, также как до этого ЦИК, из двух палат. Из тех же двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. ВС избирался прямыми выборами и представлял собой высший государственный орган, который решал самые принципиальные вопросы государственного значения. При этом, ВС (мы можем констатировать советскую концепцию государственного устройства) собирался на сессии относительно редко, это были сессии примерно раз в полгода, продолжались они 1-2 недель. Его деятельность была посвящена только принятия законов и решению самых важных и самых принципиальных вопросов.
Постоянно действовал другой орган, представлявший собой некую надстройку над ВС – Президиум ВС. Тоже коллегиальный орган, но орган, который уже не избирался прямыми выборами, а формировался ВС. Он не обладал чертами представительного органа¸ потому что его задачей было не максимальное представление разных интересов разных социальных групп и разных национальностей, а его задачей было именно решение текущих государственных вопросов, решения реального руководства страной. С точки зрения положения в системе государственных органов, Президиум ВС по Конституции был наделен целым рядом тех полномочий, которые обычно предоставляются главе государства: дипломатические права, право награждать государственными наградами, решать вопросы гражданства. Те права, которые именно в отсутствие единоличного главы государства, могут, в принципе, решаться коллективно. И Президиум ВС СССР может быть наиболее точно охарактеризован именно как коллективный глава государства в СССР.
Юридически важно полномочие Президиума ВС СССР издавать Указы. Указы – это особого рода правовые акты, задачей которых было, в основном, восполнение пробелов в законодательстве и подготовка принятия законодательного решения ВС. Поскольку ВС работал на сессиях, в период между сессиями ВС иногда возникала необходимость издать какой-то акт уровня закона. такой акт издавался в виде Указа Президиума ВС. И он, восполнив пробел в законодательстве, де-факто имел силу закона. Потому что выше него была только Конституция. В советских Конституциях, в отличие и от дореволюционных времен и от нашего современного положения дел с Указами главы государства, существовало довольно строгое ограничение: Указы Президиума ВС действовали только до начала очередной сессии ВС. Если ВС не одобрял и не переиздавал Указ своим решением, т.е. не предавал Указы силу закона, то Указ автоматически утрачивал силу. Чаще всего ВС одобрял, и Указ автоматически становился законом. Сегодня некоторые Указы Президиума ВС продолжают действовать, они в правовые базы включены и ссылаются на них как на Указы Президиума ВС, но в реальности они действовали исключительно как Указы несколько месяцев максимум, затем они переутверждались в качестве закона. И дальше внесение изменений предполагало похождение обязательно законодательной процедуры. Любые изменения вносили уже законами, принимавшимися ВС.
Единоличного главы государства в СССР не было. Президиум ВС выполнял все функции главы государства, а Председатель Президиума ВС в иерархии государственных органов занимал наивысшее положение. Другое дело, что в реальности положение Председателя Президиума ВС далеко не всегда предполагало действительно реальную политическую власть, и далеко не всегда формальная юридическая позиция в качестве высшего должностного лица государства реально определяла возможность руководить государством и выражать позицию государства во внутренних и во внешних отношениях.
В разное время на протяжении существования Конституции 1936 года существовали разные правила, относительно возможности совмещения функций Председателя Президиума ВС, поста Генерального секретаря коммунистической партии и Председателя Совета Министров. В некоторое непродолжительное время все посты могли совмещаться в одних руках, но это было очень недолго. Чаще всего все три поста занимали разные люди, соответственно, власть де-юре, формально, она рассосредотачивалась. Другое дело, что формальное положение имеет мало отношение к реальной политической власти. реальной политической властью обладал Генеральный секретарь партии.
То, что касается Совета Министров, то министерства еще в 1918 году были ликвидированы и заменены наркоматами. они сохранили свое положение как основных органов государственного управления по Конституции 1936 года и только поправками, внесенными после войны, в 1946 году наркоматы были заменены министерствами, а СНК был заменен Советом Министров. на уровне отдельных республик сохранялась та же самая система органов власти. В РСФСР она, может быть, еще более точно копировала союзную систему государственных органов, потому что в состав ВС РСФСР тоже входили две палаты, поскольку в составе республики были автономные республики, требовавшие представительство на уровне союзных республик. В остальных унитарных республиках, в основном, ВС были однопалатными.
В 1977 году наступил новый этап развития
советского общества. С точки зрения
глобального изменения, наверное, оно
не было столь значимо как к 1936 году. Уже
никто не говорил о ликвидации классов,
или какого-то настолько же глобального
изменения устройства, но предполагалось,
что к 1977 году был построен социализм. И
это потребовало нового юридического
оформления государства в соответствии
с новыми условиями развития этого
государства. В 1977 году была принята
Конституция, последняя советская
Конституция, которая также как и
Конституция 1918 года отражала определенные
яркие и отчетливые особенности советского
устройства, советского государственного
и общественного строя. Конституция 1977
года с точки зрения юридической техники
сильно уступала Конституции 1936 года. В
ней появилось очень много положений,
которые едва ли можно назвать юридическими
нормами, в ней появилось много Деклараций.
Конституция предварялась большой и
достаточно не внятной с точки зрения
правового содержания преамбулой, где
отражались достижения советского
строительства, где провозглашались
цели, к которым идет советское общество.
Конституция сильно увеличилась в
размерах, она включила в себя много
положений, которые не носили конституционного
уровня, в частности, положения о
государственных символах, о государственном
бюджете и другие нормы. Соответственно,
ее содержание отражало представление
советской доктрины о том, какой должна
быть Конституция: большой, не внятной,
содержащей большое количество Деклараций,
но не применимой практически. В ней
появились некоторые нормы, которые уже
явно отступали от критериев и стандартов
буржуазной концепции конституционализма.
Самая явная и вопиющая норма была
установлена 6 статьей Конституции, норма
о руководящей и направляющей роли КПСС,
прогрессивной силы советского общества.
В этом отношении Конституция отступила
от формальных конституционных принципов,
сформулированных ранее в Конституции
1936 года.
1977 году наступил новый этап развития
советского общества. С точки зрения
глобального изменения, наверное, оно
не было столь значимо как к 1936 году. Уже
никто не говорил о ликвидации классов,
или какого-то настолько же глобального
изменения устройства, но предполагалось,
что к 1977 году был построен социализм. И
это потребовало нового юридического
оформления государства в соответствии
с новыми условиями развития этого
государства. В 1977 году была принята
Конституция, последняя советская
Конституция, которая также как и
Конституция 1918 года отражала определенные
яркие и отчетливые особенности советского
устройства, советского государственного
и общественного строя. Конституция 1977
года с точки зрения юридической техники
сильно уступала Конституции 1936 года. В
ней появилось очень много положений,
которые едва ли можно назвать юридическими
нормами, в ней появилось много Деклараций.
Конституция предварялась большой и
достаточно не внятной с точки зрения
правового содержания преамбулой, где
отражались достижения советского
строительства, где провозглашались
цели, к которым идет советское общество.
Конституция сильно увеличилась в
размерах, она включила в себя много
положений, которые не носили конституционного
уровня, в частности, положения о
государственных символах, о государственном
бюджете и другие нормы. Соответственно,
ее содержание отражало представление
советской доктрины о том, какой должна
быть Конституция: большой, не внятной,
содержащей большое количество Деклараций,
но не применимой практически. В ней
появились некоторые нормы, которые уже
явно отступали от критериев и стандартов
буржуазной концепции конституционализма.
Самая явная и вопиющая норма была
установлена 6 статьей Конституции, норма
о руководящей и направляющей роли КПСС,
прогрессивной силы советского общества.
В этом отношении Конституция отступила
от формальных конституционных принципов,
сформулированных ранее в Конституции
1936 года.
В ней сохранились те принципы, которые касались устройства государственных органов, принцип советского демократического централизма и прочие особенности вполне сохранялись. Единственное, что она принесла новое – это добавление некоторых конституционных прав. К моменту утверждения этой Конституции уже не только существовала Всеобщая декларация прав человека и Европейская Конвенция, но и Пакты 1966 года о гражданских и политических правах и Пакт о социальных, экономических и культурных правах. СССР к этим пактам присоединился, точнее к Пакту о социальных, экономических и культурных правах сначала, потом к Пакту о гражданских и политических правах. Эти права уже носили характер международных обязательств СССР. И такие права, как право на охрану здоровья появились в тексте Конституции. Но поскольку в целом Конституция носила довольно расплывчатый характер, все эти права были обозначены как направления государственной политики, нежели как реальные юридические нормы, на защиту которых можно было рассчитывать в суде. В частности, советские Конституции не имели свойства прямого действия. Право на обжалование в суд действий государственных органов и должностных лиц. Оно было закреплено в Конституции СССР 1977 года, но до 1989 года не имела законодательного механизма реализации, следовательно, было юридически не защищаемо. Это, наверное, самая характерная черта Конституции 1977 года с точки зрения её правового смысла, правового содержания.
И зменения
в советском государственном строе стали
происходить через несколько лет после
того, как на партийных съездах был
провозглашен курс на перестройку. М.С.
Горбачев стал Генеральным секретарем
КПСС в 1985 году, он провозгласил курс на
реформы, но до изменений в правовой
системе, изменений в государственной
системе дело дошло только к 1987 году. В
1988 году начались изменения той самой
структуры, тех самых принципов, которые
были заложены «сталинской» Конституцией
1936 года.
зменения
в советском государственном строе стали
происходить через несколько лет после
того, как на партийных съездах был
провозглашен курс на перестройку. М.С.
Горбачев стал Генеральным секретарем
КПСС в 1985 году, он провозгласил курс на
реформы, но до изменений в правовой
системе, изменений в государственной
системе дело дошло только к 1987 году. В
1988 году начались изменения той самой
структуры, тех самых принципов, которые
были заложены «сталинской» Конституцией
1936 года.
В частности, это выразилось в создании Съезда народных депутатов (далее – СНД). Довольно странный и неоднозначно оцениваемый государственный орган. По сути дела он представлял собой нечто вроде системы косвенных, многоступенчатых выборов в ВС. Между избирателями и ВС, сохранившим статус представительного органа (Парламента) появился еще очень многочисленный СНД. Естественно, такая многочисленность делал его неработоспособным. Смысл его создания предполагал представления более широких слоев социальных групп, слоев населения и предполагал возможность более широкого обсуждения тех вопросов, которые касались государственного развития. Реальной политической властью СНД не обладал, но он стал политической трибуной для многих, и его обсуждения государственной политики, они сильно способствовали изменению политической ситуации, развитию реформ и стали катализатором тех событий, которые стали происходить с 1989 года. В 1990 году прошли первые выборы, и впервые был сформирован СНД.
Самое критиковавшееся и тогда, и до сих пор, самая характерная черта СНД заключалась в том, что его не предполагалось формировать прямыми выборами. Вернее, прямыми выборами он формировался не в полном составе. Часть формировалась по территориальным округам, 1/3 – 750 депутатов, 1/3 избиралась от национально-территориальных единиц, т.е. сохранялся общий принцип представительства граждан и национальностей, 1/3 избиралась от общественных организаций. Эта треть вызывала больше всего критики, потому что из 750 депутатов, 100 избирались от КПСС. Это позволяло партийным функционерам попадать сначала на СНД, потом в ВС, минуя фактически выборы и те процедуры, которые предполагали публичное обсуждение и дебаты. Но, в каком-то смысле, именно в эту треть попали не только самые консервативные, но и, наоборот, самые прогрессивные силы, потому что в квоту от Академии наук попал А.Д. Сахаров, который на СНД активно отстаивал идеи, в частности, идею вывода советских войск из Афганистана, политически острые вопросы. Но, в целом, эта система формирования съезда, она не вызывала доверия в качестве демократической схемы. В РСФСР СНД формировался уже по другим правилам. Там отсутствовала 1/3 от общественных организаций. На уровне РСФСР были только выборы по территориальным округам и выборы по национальным округам. Соответственно, это было начало не только изменений в государственном строе, но и начало самостоятельной политики отдельных союзных республик. Если прежде, все просто копировали общесоюзные структуры и создавали абсолютно аналогичные, то, начиная с 1988-89 гг. каждая республика уже стала задумываться самостоятельно. если, например, пост Президента СССР на союзном уровне был учрежден и предполагал выборы ВС, то на уровне РСФСР выборы были прямые, и в июне 1991 года прошли прямые выборы Президента РСФСР.
1 2
июня 1990 года – декларация государственного
суверенитета РСФСР. Но с точки зрения
здравого смысла и с точки зрения истории,
мы не бывшая колония, поэтому у нас не
может быть дня независимости. День
независимости предполагает, что до
этого государственности не существовало.
Документ, который был принят 12 июня 1990
года юридически он не имел никакого
смысла, потому что в СССР право республик
на выход из состава СССР и де-факто право
на государственный суверенитет было
установлено. Когда в 1990 году ВС РСФСР
принял декларацию о суверенитете, это
был политический шаг, но юридически
ничего не изменилось. никакой независимости
Россия не приобрела 12 июня 1990 года.
Декларации о независимости принимались
в то время многими республиками,
входившими в состав СССР. И союзные
республики, и автономные республики
издавали соответствующие акты. Некоторые
республики этим хотели подчеркнуть,
закрепить, напомнить о своем праве о
выходе из состава СССР, многие реально
стремились к выходу из состава СССР.
Например, республики Прибалтики, принимая
декларацию о суверенитете фактически
заявляли о выходе из состава СССР. РФ
не могла выйти из СССР, потому что в этом
случае само существование СССР перестало
бы иметь какой-то смысл. РСФСР была
основой для СССР, была основным
государствообразующим ядром СССР. В
этом отношении вариантов выхода РФ из
состава СССР с сохранением СССР не
существовало. Соответственно, судьба
России была связана с судьбой СССР.
2
июня 1990 года – декларация государственного
суверенитета РСФСР. Но с точки зрения
здравого смысла и с точки зрения истории,
мы не бывшая колония, поэтому у нас не
может быть дня независимости. День
независимости предполагает, что до
этого государственности не существовало.
Документ, который был принят 12 июня 1990
года юридически он не имел никакого
смысла, потому что в СССР право республик
на выход из состава СССР и де-факто право
на государственный суверенитет было
установлено. Когда в 1990 году ВС РСФСР
принял декларацию о суверенитете, это
был политический шаг, но юридически
ничего не изменилось. никакой независимости
Россия не приобрела 12 июня 1990 года.
Декларации о независимости принимались
в то время многими республиками,
входившими в состав СССР. И союзные
республики, и автономные республики
издавали соответствующие акты. Некоторые
республики этим хотели подчеркнуть,
закрепить, напомнить о своем праве о
выходе из состава СССР, многие реально
стремились к выходу из состава СССР.
Например, республики Прибалтики, принимая
декларацию о суверенитете фактически
заявляли о выходе из состава СССР. РФ
не могла выйти из СССР, потому что в этом
случае само существование СССР перестало
бы иметь какой-то смысл. РСФСР была
основой для СССР, была основным
государствообразующим ядром СССР. В
этом отношении вариантов выхода РФ из
состава СССР с сохранением СССР не
существовало. Соответственно, судьба
России была связана с судьбой СССР.
Декларация, которая была принята в 1990 году, она была инструментом, шагом, жестом в политической борьбе между республиканскими органами власти и союзными государственными органами, которые пытались сохранить централизованное государство в том виде, в котором оно существовало до 1990 года. В тоже время с каждым днем становилось понятно, что СССР не сможет существовать в том виде, в котором он существовал раньше, что требуется его радикальная реформа и к этой реформе все готовились. Готовились по-разному. Некоторые пытались заранее заявить о выходе из СССР, в каком бы виде он не сохранил свое существование. Другие предполагали реформирование СССР с тем, чтобы он предоставлял бы возможность реальной государственности, самостоятельности и во внешней, и во внутренней политике союзных республик, но при этом сохранялся бы, например, как экономический союз, или как союз государств, определявших некие общие цели политического развития.
В РСФСР в это время, во время дебатов о
сохранении СССР, прошли выборы Президента
РСФСР. Это были прямые выборы, которые
использовались как форма передачи
мандат на осуществление власти от
граждан президенту. Получив этот мандат,
Президент посчитал возможным действовать
так, как считал нужным. При том, что в
апреле 1990 года был проведен Всесоюзный
референдум по вопросу сохранения
существования СССР. На референдуме
большинство граждан проголосовали за
сохранение СССР. Свою роль сыграли те
события, которые произошли в августе
1991 года: попытка отстранить органы
власти от руководства страной и взять
власть в руки государственного комитета
по чрезвычайному положению, эта попытка
продолжалась три дня. С точки зрения
политической, она стала катализатором
дальнейшего распада СССР. Закончилось
всё юридически в декабре 1991 года. 8
декабря были подписаны Беловежские
соглашения. Юридическая форма этих
соглашений лишний раз свидетельствует
о том, чем был СССР. Это было именно
союзное объединение государств. Это не
было единое федеративное государство.
И создание, и ликвидация СССР была
осуществлена в форме и подписания и
ратификации международных договоров.
8 декабря был подписан договор о денонсации
договора 1922 года «О создании СССР». В
соответствии с процедурой, принятой по
Венской конвенции о праве международных
договоров, этот договор был внесен на
ратификацию в ВС. 25 декабря ВС ратифицировал
соглашение о денонсации договора 1922
года. СССР прекратил своё существование.
После этого продолжилось развитие
федеративного устройства в рамках
РСФСР. То, что касается СССР, единственный
вопрос, который сохранился и решался
на протяжении нескольких последующих
лет – это вопрос о правопреемстве в
отношении СССР.
РСФСР в это время, во время дебатов о
сохранении СССР, прошли выборы Президента
РСФСР. Это были прямые выборы, которые
использовались как форма передачи
мандат на осуществление власти от
граждан президенту. Получив этот мандат,
Президент посчитал возможным действовать
так, как считал нужным. При том, что в
апреле 1990 года был проведен Всесоюзный
референдум по вопросу сохранения
существования СССР. На референдуме
большинство граждан проголосовали за
сохранение СССР. Свою роль сыграли те
события, которые произошли в августе
1991 года: попытка отстранить органы
власти от руководства страной и взять
власть в руки государственного комитета
по чрезвычайному положению, эта попытка
продолжалась три дня. С точки зрения
политической, она стала катализатором
дальнейшего распада СССР. Закончилось
всё юридически в декабре 1991 года. 8
декабря были подписаны Беловежские
соглашения. Юридическая форма этих
соглашений лишний раз свидетельствует
о том, чем был СССР. Это было именно
союзное объединение государств. Это не
было единое федеративное государство.
И создание, и ликвидация СССР была
осуществлена в форме и подписания и
ратификации международных договоров.
8 декабря был подписан договор о денонсации
договора 1922 года «О создании СССР». В
соответствии с процедурой, принятой по
Венской конвенции о праве международных
договоров, этот договор был внесен на
ратификацию в ВС. 25 декабря ВС ратифицировал
соглашение о денонсации договора 1922
года. СССР прекратил своё существование.
После этого продолжилось развитие
федеративного устройства в рамках
РСФСР. То, что касается СССР, единственный
вопрос, который сохранился и решался
на протяжении нескольких последующих
лет – это вопрос о правопреемстве в
отношении СССР.
Вопрос о правопреемстве может быть поставлен в двух возможных вариантах. Является ли РФ государством-продолжателем, или государством-правопреемником. Государство-продолжатель – это государство, которое сохраняет юридический статус прежнего государства, его юридическую сущность, субъектность. А государство-правопреемник предполагает приобретение прав и обязанностей, иногда даже в качестве универсального правопреемства, но это уже новое государство, это уже новый субъект.
Анализируя те документы, которые оформляли существование СССР, которые оформляли его расформирование, мы можем сделать единственный вывод о том, что РФ является государством правопреемником, но никак не государством-продолжателем. Государством-правопреемником в силу не каких то общих правил и принципов, а в силу соглашения, которое было заключено между бывшими республиками СССР о наследии СССР. РФ не может быть государством продолжателем, потому что РФ только часть государства, существовавшего до 1991 года. Она только 1 из 15 союзных республик и никак не может быть продолжателем государства в целом.
Между республиками, входившими в состав СССР было заключено соглашение о том, что РФ приобретает все права и несет все обязанности, которые имел СССР, в частности, РФ признается обязанной по долгам бывшего СССР и получает всю собственность за пределами территории государства, которая принадлежала СССР. Этот вопрос не остался в 90-х гг. Юридической формой соглашений было соглашение глав государств вновь образованного СНГ. А никакого международного договора не заключалось, в этом отношении сохраняется некая доля неопределенности с тем, как именно поступить с наследием СССР. За исключением редких случаев попыток предъявить претензии, чаще всего вопрос считается решенным скорее даже политически, нежели юридически. РФ вместо СССР заняла место в Совете Безопасности ООН, став постоянным членом Совета Безопасности. Сохранила статус ядерной державы, унаследовав его от СССР. В этом отношении другие государства, другие бывшие республики СССР не имели возможности и желания ни иметь проблем, связанных со статусом ядерной державы, ни занимать место в Совете Безопасности ООН, потому что масштаб тех вопросов, которые там решаются, предполагает существование крупных государства. В отношении членства ООН не было возражений со стороны двух основных потенциальных конкурентов РФ – со стороны Белоруссии и Украины. Это подчеркивает сохранение единой государственности в период существования СССР, о том, что СССР - конфедерация.
