
- •Статья Белкина. Обычаи и обыкновения.
- •1) С точки зрения порядка принятия, Конституции могут делиться на октроированные, референдумные и представительные.
- •25 Декабря 1991 года Президент ссср издал Указ о сложении с себя полномочий в связи с прекращением существования государства.
- •1) Соотношение государственного суверенитета и прав человека.
- •2) Проблема, проявляющаяся в международных отношениях.
- •3) Проблема распределения суверенитета федерации.
- •А. Дайси «Господство права».
- •1) Вмешательство может осуществлять только государство.
- •4) Это принцип, который в рф признан в качестве фундаментального, он в Конституции. Это не единственно возможный подход.
- •Керимов. Об избирательном праве.
- •1 Вариант – тот, который принят гд и одобрен сф либо в активной, либо в пассивной форме.
1 Вариант – тот, который принят гд и одобрен сф либо в активной, либо в пассивной форме.
Кроме того, принятый ФЗ – это тот, который был отклонен СФ, но преодолен ГД.
Принятый ФЗ – тот закон, который был отклонен Президентом, повторно рассмотрен в установленном Конституцией порядке ГД и СФ, и вето Президента было преодолено 2\3.
Что касается того, кто направляет закон Президенту, то КС сказал следующее, что направлять Президенту закон должна та Палата, в которой завершилась в установленном порядке стадия принятия ФЗ. Т.е. либо это ГД, либо СФ, если закон одобрен.
М ы
переходим к стадии промульгации и
вступления в силу закона.
ы
переходим к стадии промульгации и
вступления в силу закона.
Промульгация (определяется в теории по-разному) – санкционирование, удостоверение, подписание и последующее обнародование закона.
Есть дискуссии, что некоторые (меньшинство) предлагают не считать это стадией законодательного процесса. Позиция сторонников этой т.з. заключается в том, что поскольку законодательный процесс, в основном, сосредоточен в законодательном органе, то эта стадия за рамками. Осуществляется эта стадия органами исполнительной власти, либо Президентом либо ими вместе.
В конце слайда можно увидеть понятие контрассигнации как элемента стадии.
Контрассигнация - в некоторых странах, например в Германии, Австрии, Бельгии – там акт скрепляется подписью компетентного министра перед тем, как направляться Президенту. Некоторые считают, то это рудимент, потому что получается, что ответственность за этот акт утверждает компетентный министр, а не глава государства. Глава государства ассоциируется с монархом.
Сторонники другой т.з. (большинство) говорят о том, что это необходимая стадия, неотъемлемая стадия законодательного процесса, поскольку, во-первых, без этой стадии законопроект в закон не превратится, во-вторых – закон – не только акт парламента, а акт, исходящий от государства.
Есть процедура вето. Закон не всегда может быть на этой стадии санкционирован, Президент может наложить вето на закон. Вето представлено в разных формах и есть различные виды.
Есть такая разновидность как абсолютное вето – возложение вето, оно прекращает рассмотрение законопроекта. Если вето наложено, то рассмотрение законопроект должно быть начато с начала.
Отлагательное вето – в течение определенного срока может заявлено требование. Если срок истек, то закон должен быть подписан и обнародован.
Молчаливое вето - если закон не публикуется, то он считается отклоненным. Также есть такие виды, когда закон отклоняется без каких-либо возражений. По общему правилу, в РФ отличительный признак вето заключается в том, что Президент должен представить свои возражения.
Есть понятие, которое существует в США – карманное вето, когда отлагательное вето фактически превращается в абсолютное. Связано с тем, то Конгресс законопроект должен рассмотреть в течении сессии, если сессия истекла, то они не возвращаются к рассмотрению законопроекта, Президент может растянуть вето до окончания сессии и закон будет блокирован.
К роме
того, также есть такие виды вето как
сплошное вето и выборочное вето.
роме
того, также есть такие виды вето как
сплошное вето и выборочное вето.
Сплошное вето – Президент не имеет право блокировать отдельные законоположения, если ему что-то не нравится, он должен блокировать закон весь.
Выборочное вето – Президент может блокировать действие только тех норм, которые его не устраивают.
Что касается реализации права вето ст. 107 Конституции РФ.
Во-первых, есть на слайде два решения КС, там все вопросы, относительно вето рассматриваются и затрагиваются.
1) Если Президент отклоняет ФЗ, он должен указать мотивы отклонения – это подтвердил КС.
2) Есть определенный срок для реализации этой возможности у Президента – 14 дней с момента поступления к нему ФЗ. И все то, что Президент делает за пределами 14-дневного срока, это вето являться не будет.
Кроме того, встал вопрос о том, по каким основаниям может быть наложено вето.
Нужно различать право вето и возвращение для повторного рассмотрения в Палаты.
КС сказал, что право вето нельзя отождествлять с той ситуацией, когда Президент возвращает в ФЗ в Парламент в связи с нарушением установленного Конституцией порядка, конституционных процедур. Это не право вето, а нечто другое. Что другое – возник вопрос, т.к. в Конституции такого права Президента возвращать без подписания закон не предусмотрено. КС вывел это из следующих идей: во-первых, Президент – гарант Конституции, во-вторых, из того, что такой закон, если нарушена процедура, он не может считаться принятым в конституционном смысле, а Президент подписывает только принятые ФЗ.
Принципиальное отличие не только в содержании, но и в правовых последствиях. Правом вето Президент может воспользоваться только 1 раз. Если Президент наложил вето, оно может быть преодолено палатами ФС, после этого Президент обязан подписать закон и обнародовать. Что касается возвращения закона без подписания в связи с нарушением процедуры, то там, как раз, никаких конкретных указаний, запретов, сроков нет.
Кроме того, возник вопрос, каким образом преодолевать вето? Если посмотреть в ч.3 ст. 107 Конституции РФ, то мы увидим, что если Президент отклонил закон, то ГД и СФ в установленном Конституцией РФ порядке вновь рассматривают данный закон. Что такое «в установленном Конституцией порядке»? Ключевым моментом, на которым сконцентрировался КС, было то, что этот закон должен рассматриваться в прежней редакции, т.е. они квалифицированным большинством голосов (каждая палата отдельно, квалифицированное большинство от числа каждой палаты 450/166) преодолевают. Это не тоже самое, что в ст. 105 Конституции РФ. Процедура не начинается с начала. А если вето не будет преодолено, тогда может быть инициирована процедура принятия закона с начала. Этим отличается повторное рассмотрение в смысле ст. 105 от преодоления вето в смысле ст. 107, что и пытался донести КС в Постановлении 10-П.
Прочитать Постановление 11-П от 6.04.1998 года. Там в одном из особых мнений было отмечено, что нельзя заставлять Президента подписывать такой закон (с нарушением процедуры), нужно обращаться в КС, чтобы не блокировалась вся процедура.
Ч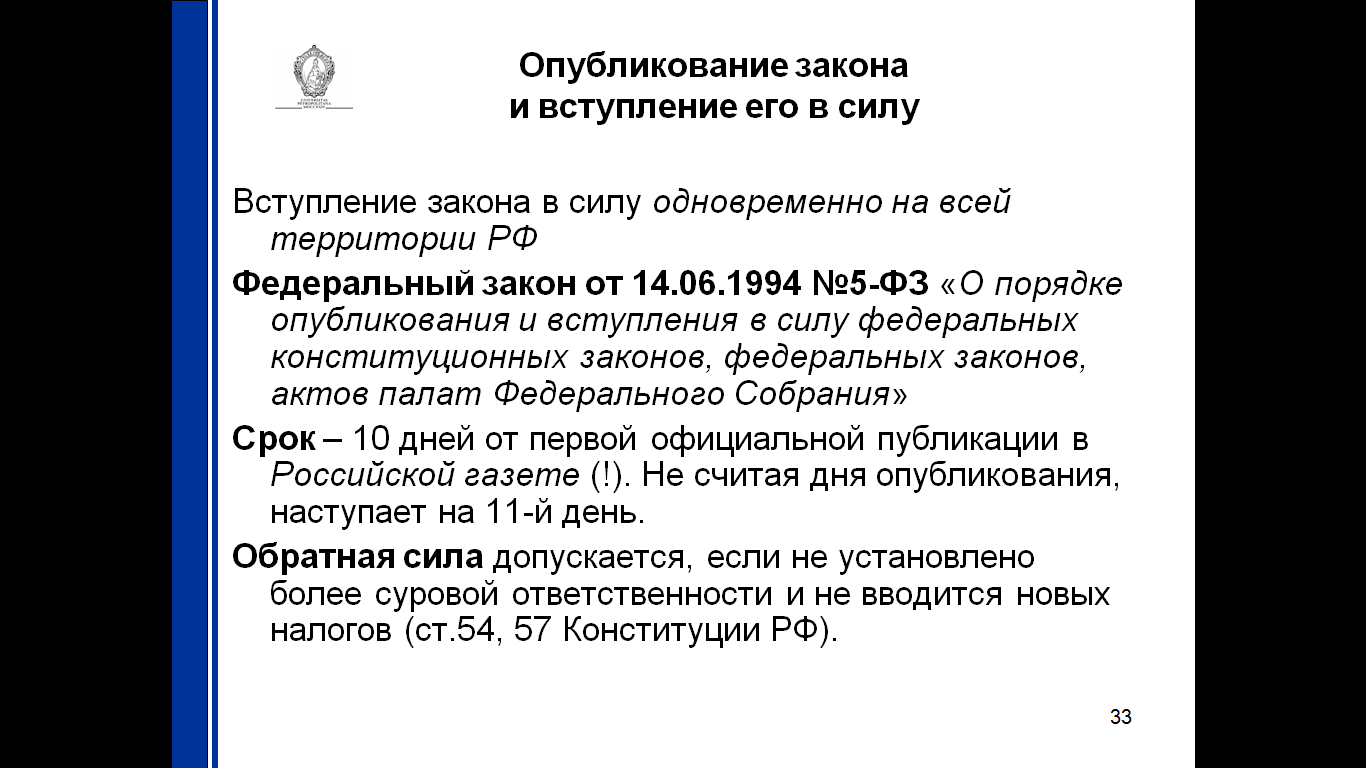 то
касается опубликования и вступления
закона в силу. Цель опубликования –
довести закон до всеобщего сведения. А
пока он не доведен до всеобщего сведения,
он не может считаться вступившим в силу.
то
касается опубликования и вступления
закона в силу. Цель опубликования –
довести закон до всеобщего сведения. А
пока он не доведен до всеобщего сведения,
он не может считаться вступившим в силу.
Что касается опубликования, в мировой практике это осуществляют разные органы – исполнительная власть, Президент.
У нас ситуация описана в ФЗ-5, его нужно прочитать.
Кудряшова бы хотела, чтобы мы задумались над вопросом о балансе полномочий органов государственной власти в законодательном процессе. Эта проблема возникает в связи с тем, что законодательный процесс в Конституции регулируется фрагментарно, а основное регулирование мы можем найти в актах тех органов, которые в этом процессе участвуют. Есть много споров.
Вопросы, на которые также следует обратить внимание:
1) О свободном и императивном мандате;
2) Отличие иммунитета и индемнитета;
3) Полномочия депутата, и как они вытекают из полномочий парламента, как они связаны между собой (отличие парламентского запроса от депутатского запроса);
В теме «Судебная охрана Конституции» посмотреть отличие американской модели от европейской (Конституционный Совет Франции) и про т.н. «кельзеновскую модель».
М ы
не будем более подробно изучать структуру
и конституционные принципы деятельности
судебной власти, т.к. мы про эти вопросы
слышали в курсе «ПО», услышим еще. Мы
сосредоточимся на том предмете, который
носит исключительно конституционный
характер, а именно – судебная охрана
Конституции. Как мы догадываемся, речь
пойдет о конституционном суде (далее –
КС).
ы
не будем более подробно изучать структуру
и конституционные принципы деятельности
судебной власти, т.к. мы про эти вопросы
слышали в курсе «ПО», услышим еще. Мы
сосредоточимся на том предмете, который
носит исключительно конституционный
характер, а именно – судебная охрана
Конституции. Как мы догадываемся, речь
пойдет о конституционном суде (далее –
КС).

Начать нужно с того, как в мировой практике принято обеспечивать охрану Конституции. Сегодня в сравнительном КП приятно выделять 3 основных модели конституционной охраны, две из которых относятся к судебной модели, а одна к квазисудебной.
Исторически первой появилась американская модель. Собственно, появление конституционной охраны было связано с определенным идеологическим шагом вперед, идеологическим, идейным, принципиальным с т.з. развития конституционного. До Американской Конституции, и до 1803 года (дело Мэрбери против Мэдинсон) как-то не принято было у судов отказываться применять закон, ссылаясь на то, что он неконституционен. Если попытаться поискать до этой эпохи в судебных актах, в судебных решениях Великобритании какие-то примеры конституционного контроля, то мы можем найти отдельные решения, в которых суды, считая, что закон противоречит праву, отказывались применять закон, изданный Парламентом. Таких решений было немного, известность получило решение одного английского судьи – Джеймса Хокка, который в середине 18 века осмелился вынести такое решение, именно сославшись на то, что закон противоречит праву. Но системной практики отказа в применении закона, принятого законодательным органом, не было. Суды, как считалось, должны выполнять те положения, те требования, которые предъявляет законодатель. Суды должны их обеспечивать, суды должны их исполнять, а не оценивать те законодательные акты, которые изданы парламентом. Единственное государство, где конституционный контроль мог бы появиться с т.з. того положения судов в правовой системе, той свободой, которой пользовались суды, той уверенностью в себе, которой пользовались судьи, единственной такой страной была Великобритания, но в Великобритании была другая проблема – там не было писаной Конституции (и нет), там предполагалась доктрина суверенитета (верховенства) Парламента. Естественно, доктрина суверенитета Парламента предполагает, что никакие суды пересматривать решения, принятые Парламентом, не могут. Парламент действует непосредственного от имени народа, граждан, никакие другие органы не обладают таким мандатом представительства граждан, каким обладает Парламент. Соответственно, никакие другие органы в английской системе не считались управомоченными на пересмотр решений английского Парламента.
Подобную логику до сих пор сохраняют в некоторых правовых системах, сажем, в Нидерландах принципиально отвергается идея конституционного контроля ,потому что Парламент не может оказаться под чьим-либо контролем. Парламент – это высшее учреждение, Парламент действует от лица нации, следовательно, судьи никогда не могут пересматривать решения, принятые народом.
В этом отношении, идеологическая основа конституционного контроля имеет определенные проблемы. Дело в том, что конституционная система построена на двух отчасти противоречащих друг другу принципах: с одной стороны, принцип народного суверенитета, с другой стороны, принцип прав человека, они входят в коллизию между собой. Народ может не любить и не уважать права человека, народ своей властью может принимать решение об ущемлении прав человека, и в то же время, Конституция должна в этом отношении парламент ограничивать. Идея конституционного контроля предполагает, что не один какой-то из этих принципов должен безусловно доминировать, и уж тем более не должно доминировать верховенство парламента, но должен существовать определенный баланс между этими двумя основными, самыми фундаментальными конституционными идеями.
Конституционный контроль предполагает, что суд может оценить решение, принятое от имени народа как неконституционное, как решение, принятое с нарушением прав человека, как посягающее на некоторые фундаментальные основы конституционного строя, в первую очередь на статус личности, на права и свободы граждан.
Эта идея конституционного контроля появилась именно в США. Как то в истории конституционного контроля все достаточно определенно с авторством основных идей. Решение ВС США по делу Мэрбери против Мэдисон, писал тогда председатель ВС США – Д. Маршалл, он сформулировал то мнение, ту позицию, которая до сих пор рассматривается как основа для конституционного контроля в США. Собственно, в американской Конституции нет ни слова о конституционном контроле и о полномочиях ВС признавать закон неконституционным, все это проистекает из прецедента, из решения Мэрбери против Мэдисон. Само это решение считается один им самых основных, самых известных, самых базовых и фундаментальных решений ВС США, в общем-то, не только из-за того, что в нем сформулирована основная идея конституционного контроля, отчасти из-за того как именно она обоснована. Маршалл в этом решении объяснил, почему Конституция должна иметь верховЕнство над другими правовыми актами, он объяснил, почему, если не будет механизма обеспечения этого верховенства, то идея Конституции теряет смысл. Решение довольно любопытно даже по сюжету. Речь шла о назначении судьи. Один из предшествующих Президентов складывает свои полномочия, новый Президент вступает в должность. И уходящий Президент, перед самым оставлением должности, выписывает несколько Указов о назначении судей на должность, предварительно проведя в Конгрессе решение об увеличении количества судебных участков, на новые вакансии он назначает новых судей. Естественно, он назначает своих сторонников, сторонников своей партии, исходя из того, что новый Президент, уже избранный, но не вступивший в должность. (Президент США избирается в ноябре, а вступает в должность в январе). Перед тем как оставить Белый дом, он издает несколько Указов о назначении на должность, кроме этого Указа, необходимо получить некий Ордер на замещение судейской должности. Указы издать успели, а Ордера выдать не успели. Новый Президент, который вступает в должность, говорит, что безобразие, предыдущий Президент использует судебную власть как инструмент сохранения своего политического влияния. И он отказывается выдавать несколько Ордеров, в т.ч. Ордер господину Мэрбери. Мэрбери обращается в суд признать незаконным бездействие Государственного Секретаря (выдавал Ордера). ВС оказывается в щекотливом положении. С одной стороны, он понимает, что назначение перед уходом Президента было не совсем правильным, не совсем честным, не совсем этичным, с другой стороны, речь идет о судейском корпусе, т.е. тот вопрос, который непосредственно затрагивает самих судей. И любое решение, которое не было бы принято, оно могло бы привести к определенным неприятным политическим последствиям. Если бы, например, ВС поддержал Мэрбери, то это могло бы закончиться элементарным неисполнением решения, ссылаясь на то, что это решение несправедливо и неправильно, что с т.з. Маршалла могло бы очень сильно ударить по авторитету ВС США. Если бы он принял решение не в пользу Мэрбери, то в этом случае бы, во-первых, он формально не применил бы закон, который продолжал действовать, и никаких оснований неприменять закон не было, кроме того, сам Маршалл относился к структуре, к политическому лагерю уходящего Президента. Соломоново решение оказалось самым фундаментальным прецедентом за всю историю ВС США. Решение было ни в пользу одного, ни в пользу другого. Решение было - признать закон, который подлежал применению в конкретном деле, неконституционным, поэтому отказаться его применять.
Тем самым, помимо того, что ВС вышел из щекотливой ситуации, он еще и обосновал свое собственное полномочие оценивать применяемый закон с т.з. его конституционности. Странно с т.з. чистого представления о праве, тем не менее, в политике это немаловажно. Это решение устраивало всех, оба политических лагеря согласились с этим решением, согласившись, они признали право ВС оценивать законы на их соответствие Конституции. ВС обосновал не только свое полномочие, он обосновал полномочие всех судов США оценивать те законы, которые они применяют с т.з. их соответствия Конституции. ВС создал этим решением ту самую первую модель – модель, которая опирается на идею о необходимости применения всех нормативных актов в соответствии с их юридической силой, и если суд считает, что закон не соответствует Конституции, значит, закон нельзя применять.
Отчасти причиной такого легкого укоренении этой системы именно в США стало то, что во многих Штатах правовая система близка к англо-саксонской, с одной стороны, там, в отличие от англо-саксонской системы, от самой Великобритании, там есть писаная Конституция, с другой стороны, там сохраняется главная английская традиция – следование прецеденту. Если какой-то суд признал закон не соответствующим Конституции, это решение начинает связывать все остальные суды.
В реальности все обстоит не совсем так упрощенно, конечно, любое дело, связанное с неконституционностью закона, доходит до ВС, или же решение ВС становится тем самым связывающим прецедентом, но, в любом случае, достаточно только решения суда, причем, решения, принятого в самой обычной процедуре, при рассмотрение гражданского, уголовного или административного дела. Здесь нет ни специального суда, ни специальной процедуры.
Все эти черты позволили именно в США создать соответствующую систему конституционного контроля. В последствии она была воспринята еще некоторыми государствами, похожими на США, например, в Индии, в Австралии, Канаде. В реальности именно Верховные Суды осуществляет тот контроль, который осуществляется за конституционностью законов.
В континентальной Европе эта система не могла применяться. Главная причина – отсутствие прецедентности той правовой системы, которая существовала в континентальных странах Европы. Пришлось придумывать новое, придумал это, как считается, Г. Кельзен. В 20-е гг. появилось сразу 2 первых КС – это был КС Австрии, на Родине Кельзена, там, где он приложил руку к его формированию, и КС Чехословакии. Австро-германская модель была исторически второй моделью конституционного контроля.
Как писал позднее сам Кельзен, в германской, в австрийской, чехословацкой правовой системе отсутствие прецедента не позволяло внедрить ту модель, которая использовалась в США. И нужно было централизовать конституционный контроль, нужно было создать некий специализированный суд, который будет рассматривать именно дела о конституционности закона. Этот суд не будет во многом отличаться от других судов, он не будет рассматривать конкретные гражданские, уголовные и административные дела, он будет использовать специальную форму, специальную процедуру рассмотрения лед. Что самое главное, его решения будут затрагивать только вопросы коллизий между Конституцией и законодательным актом, это решение не будет выноситься по конкретному гражданскому, уголовному или административному делу, оно будет иметь сразу заведомо более общий характер, оно должно будет публиковаться обязательно, также как публикуются нормативные акты, в общем, оно будет иметь нормативный эффект, нежели эффект правоприменительного акта. Именно в таком виде появились первые КС. Надо сказать, что и в Австрии, и Чехословакии первым судам было отпущено немного. Пришли к власти нацисты, нацистам конституционный контроль был не нужен, они упразднили Конституционные Суды, сам Кельзен уехал в США, всю вторую часть своей деятельности представлялся как американский ученый.
Новые КС возникли после Второй Мировой войны, после Нюрнбергского процесса как определенная мера, предпринятая союзниками в отношении Германии в первую очередь, как мера, обеспечивающая защиту прав человека, защиту базовых конституционных принципов от злоупотребления со стороны народа, со стороны толпы, со стороны того парламента, который следует идеям народного суверенитета и может в этом следовании зайти далеко, так далеко, что нарушить права человека.
Собственно, Германия стала одним из первых государств послевоенной Европы, где появился КС. Он появился сразу после принятия Конституции. Основной закон ФРГ был принят в 1948 году, КС начал работать в 1949 году. В Конституции Германии главным, базовым положением указывается на человеческое достоинство как базовую конституционную идею. КС, в первую очередь, должен был обеспечивать защиту человеческого достоинства. Германский КС стал лидером среди всех КС. Отчасти потому, что он один из самых старых среди подобных учреждений в Европе, отчасти, может быть, в силу того, что немцы, со свойственной им педантичностью, стали разрабатывать многие концепции, обеспечивающие функционирование конституционного контроля с тщательностью и дотошностью, что они разработали многие конституционный доктрины, о некоторых мы говорили, например, доктрина пропорциональности ограничения прав человека как критерий оценки допустимости того или иного ограничения права, и многие другие доктрины были развиты именно в практике Федерального Конституционного Суда Германии (далее – ФКСГ), что сделало его одним из самых авторитетных судов, его решения стали образцовыми, его решения стали модельными для многих КС. Многие КС стали следовать примеру ФКСГ. Именно поэтому сегодня мы можем говорить о том, что это германская модель конституционного контроля, потому что она в первую очередь ассоциируется именно с деятельностью ФКСГ. Кстати, в Германии появились и достаточно успешно функционируют КС в землях, т.е. субъектах федерации, и в этом отношении тоже немецкая модель послужила образцом для некоторых государств, в частности для РФ, где субъекты федерации могут создавать свои К(У)С, по сути дела это восприятие или заимствование германской модели.
И американская, и германская модели – модели судебные. Хотя КС не похож на ВС, хотя он рассматривает дела в иной процедуре, но эта процедура имеет много общего с процедурой судебной: там есть стороны, там соблюдается принцип состязательности, суд не может рассматривать дела по своей инициативе, суд не может даже выйти за пределы того предмета, который был заявлен как предмет обращения, жалобы или запроса в этот суд. КС сильно ограничен процедурой, хотя не так сильно как суды общей юрисдикции, где несоблюдение процедуры может повлечь отмену решений. Решения КС не отменяются, но предполагается, что они имеют много общего с именно судебными актами.
Еще можно привести такой формальный аргумент: решения КС, также как решения ВС, предполагают следование той форме, которая исторически сложилась для судебного акта, а именно включение вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной части. Мотивировка – объяснение, обоснование, в которой находит опору судебное решение, является обязательной его частью, в отличие от акта нормотворчества.
Наконец, те модели, которые были созданы в США и Германии, они предполагают, что вопросы конституционности могут поставлены только в отношении действующего нормативного акта, тот акт, который находится в процессе его принятия парламентом, он не может быть предметом оценки. Все эти свойства объединяют американскую с австро-германской моделью в некую более общую, судебную модель.
Кроме судебной есть еще французская - квазисудебная модель. Как мы когда-то упоминали, это немаловажное обстоятельство. Генерал Де Голль очень не любил парламент, считал, что в отношении парламента должны быть созданы максимальные ограничительные механизмы, парламент должен быть поставлен под максимально жесткий контроль и со стороны исполнительной власти, и со стороны специального органа, который появился в Конституции 5 французской республики в 1958 году, уже намного позже, чем все КС.
Конституционный Совет (далее – КСВ) Франции – этот орган конституционного контроля 5 французской республики в первоначальный период своего существование (сейчас он представляет собой иное явление, особенно после реформы 2008 года) - это был именно квазисудебный орган.
Что в нем было квазисудебного?
Во-первых, в нем практически не было никакой процедуры. Если мы найдем и почитаем закон о КСВ, там есть полномочия, там практически нет описания рассмотрения процедуры дел.
Во-вторых, решения КСВ выносятся без мотивировочной части – только резолютивная. «Признать несоответствующим Конституции».
КСВ не был вправе рассматривать (сейчас уже вправе) рассматривать конституционность законов, когда они вступили в силу. Его место предполагало, что он оценивает законы, пока они проходят стадию законодательной процедуры, законодательного обсуждения. Если КСВ признает закон неконституционным, закон не подлежит подписанию и вступлению в силу. Но, в любом случае, это не касается уже принятых законов.
Наконец, в КСВ никогда не могли обращаться граждане (до 2008 года). Сейчас они могут обращаться только через кассационный суд. До 2008 года – это был орган, который рассматривал только запросы государственных органов, в первую очередь, Президента. И оценивал, каким образом можно оценить то или иное положение обсуждаемого закона, можно ли считать его совместимым с принципами Конституции.
Эта модель, она продиктована очень многими соображениями. Как бы не не любил (именно не не любил) генерал Де Голль парламент, он был вынужден считаться с французскими традициями, а французские традиции предполагали, что парламент (по крайней мере, до 5 республики) должен иметь окончательное слово, т.е. его решение должно быть окончательным. Французская доктрина, не столько опираясь на идею суверенитета парламента, сколько опираясь на идею народовластия, суверенитета народа, не предполагала, что какой-то орган может пересмотреть решение, уже принятое парламентом. Но при этом, и в то же время, французская доктрина допустила, допускала, что в процессе принятии решения может осуществляться оценка этого решения на его конституционность. Собственно, эти черты, которые были характерны для французской системы, сделали эту систему привлекательной, т.к. она была более гибкой политически, даже в некоторых случаях не просто гибкой, она гораздо больше предоставляла политических возможностей главе государства, нежели система существования КС.
Уже много десятилетий спустя, в 90-е гг. в Казахстане, созданный КС вынес несколько решений, которые очень не понравились Президенту, в результате чего КС был расформирован, а вместо него был создан КСВ, по подобию французского. Считалось, что в политическом отношении это более безопасно.
Собственно именно французская система КСВ, она была воспринята и в последние годы существования СССР – Комитет конституционного надзора ССС был по сути дела отражением модели французской, французской модели конституционного контроля.
Н есколько
слов о широкой картине положения дел о
конституционном контроле в мире. После
Второй Мировой войны в Германии появление
КС стало той гарантией, которой союзники
посчитали необходимой от защиты, от
возрождения нацизма. Позднее Конституционные
Суды (далее – КСы) стали использоваться
как определенный предохранитель для
тех режимов, которым в силу определенных
исторических традиций не было особого
доверия ни у граждан, ни в тех случаях,
когда появлялось иностранное влияние
демократических государств, мирового
сообщества.
есколько
слов о широкой картине положения дел о
конституционном контроле в мире. После
Второй Мировой войны в Германии появление
КС стало той гарантией, которой союзники
посчитали необходимой от защиты, от
возрождения нацизма. Позднее Конституционные
Суды (далее – КСы) стали использоваться
как определенный предохранитель для
тех режимов, которым в силу определенных
исторических традиций не было особого
доверия ни у граждан, ни в тех случаях,
когда появлялось иностранное влияние
демократических государств, мирового
сообщества.
КСы становились определенным гарантом демократии в новых демократиях, в тех демократиях, которые появлялись на месте бывших советских государств. И сегодня мы можем наблюдать, где-то Белов недавно встречал цифру около 50 государств имеют свои КСы, что характерно, во всех государствах бывшего социалистического лагеря они созданы, за исключением Эстонии, где действует система американского типа, где ВС осуществляет нормоконтроль, Туркменистана и Черногория. Во всех остальных государствах бывшего СССР и бывших стран социалистического лагеря (Варшавского договора), они все организовали КС, где-то совсем добровольно, где-то поддаваясь влиянию зарубежных экспертов, но в любом случае, с целью обеспечить определенные гарантии, защиты для демократии, которая создается. Собственно, это действительно определенный предохранительный механизм. Это определенная гарантия того, что принципы конституционного строя в том виде, в котором они восприняты вместе с идеями конституционализма, будут обеспечены защитой, будут обеспечены непосредственным механизмом реализации. В других государствах мира, в западной Европе, КСы распространены, кроме Германии, Австрии, еще в государствах Южной Европы. Например, в Скандинавии КСы не принято создавать. В государствах Африки, Азии, Центральной и Латинской Америке достаточно много создано КС, хотя, конечно, их деятельность, их активность не столь впечатляющая как активность КС даже государств Восточной Европы, во многих случаях они существуют в качестве определенной демократической ширмы. Но даже сам факт их существования определенным образом обеспечивает гарантию защиты конституции, охраны конституционных принципов.
Та модель, которая характерна для США, она воспринята государствами бывшими колониями Великобритании, французская модель воспринята бывшими французскими колониями, в основном – Африка, также Алжир, Ливан. Это те страны, в которых, с одной стороны, демократия строится по европейскому образцу, с другой стороны, это конституционное устройство имеет серьезные особенности, до такой степени особенные особенности, что в некоторых случаях они заставляют усомниться, обеспечивается ли сама квинтэссенция конституционализма.
 Мы
будем говорить о КС РФ отчасти, возвращаясь,
сравнивая его с зарубежными КС, но есть
одно интересное Определение 2003 года о
полномочиях К(У)ССФ, КС РФ тогда написал,
что их полномочия не исчерпывающим
образом перечислены в ст. 27 ФКЗ «О
судебной системе» и могут быть дополнены
иными полномочиями, соответствующими
природе конституционного суда, органов
конституционного контроля. Чтобы мы
примерно представили себе, что именно
можно понимать под природой конституционного
контроля - краткий, самый общий перечень
тех полномочий, которые обычно
предоставляются КС, которые могут
рассматриваться как соответствующие
природе конституционного контроля.
Помимо проверки конституционности
законов и дел о защите прав граждан,
причем, конституционная жалоба не всегда
связана с признанием закона
неконституционным, это может быть защита
прав в формате, связанным, например, с
иным толкованием закона. Например, КС
РФ, как ФКСГ иногда выявляет конституционный
смысл закона, конституционное толкование,
обеспечивая права человека и удовлетворяя
жалобу. Поэтому говорить о конституционной
жалобе можно в определенном смысле
отдельно от нормоконтроля, от проверки
конституционности нормативных актов.
Мы
будем говорить о КС РФ отчасти, возвращаясь,
сравнивая его с зарубежными КС, но есть
одно интересное Определение 2003 года о
полномочиях К(У)ССФ, КС РФ тогда написал,
что их полномочия не исчерпывающим
образом перечислены в ст. 27 ФКЗ «О
судебной системе» и могут быть дополнены
иными полномочиями, соответствующими
природе конституционного суда, органов
конституционного контроля. Чтобы мы
примерно представили себе, что именно
можно понимать под природой конституционного
контроля - краткий, самый общий перечень
тех полномочий, которые обычно
предоставляются КС, которые могут
рассматриваться как соответствующие
природе конституционного контроля.
Помимо проверки конституционности
законов и дел о защите прав граждан,
причем, конституционная жалоба не всегда
связана с признанием закона
неконституционным, это может быть защита
прав в формате, связанным, например, с
иным толкованием закона. Например, КС
РФ, как ФКСГ иногда выявляет конституционный
смысл закона, конституционное толкование,
обеспечивая права человека и удовлетворяя
жалобу. Поэтому говорить о конституционной
жалобе можно в определенном смысле
отдельно от нормоконтроля, от проверки
конституционности нормативных актов.
Споры, которые касаются споров о компетенции, любых публично-правовых споров, это тоже то, что принято относить к компетенции К судов, исходя из того, что эти вопросы урегулированы в положениях Конституции, соответственно, решениями судов они должны быть реализованы.
Даже такие дела как оценка конституционности результатов выборов, оценка конституционности деятельности политической партии, оценка импичмента, конституционность проведенной процедуры – это все то, что принято относить к компетенцию КС зарубежом. У нас в стране из этого перечня результаты выборов никогда не оценивались КС и деятельность политических партий сегодня не входят в компетенцию. До 1993 КС имел это полномочие.
Е сть
Венецианская комиссия Совета Европы –
комиссия, которая занимается обеспечением
правовой реформы, ею создана база данных
– это база данных решений КСов, в основном
входящих в Совета Европы, но не только.
Некоторые решения ВС США, ВС Канады там
имеются. База данных очень полезная.
Там не все решения представлены на
английском и французском языке, некоторые
представлены на языке оригинала, но
есть практически к каждому решению
резюме на английском языке, есть большая
систематизация решений КСов. «В общем,
пользуйтесь, полезно».
сть
Венецианская комиссия Совета Европы –
комиссия, которая занимается обеспечением
правовой реформы, ею создана база данных
– это база данных решений КСов, в основном
входящих в Совета Европы, но не только.
Некоторые решения ВС США, ВС Канады там
имеются. База данных очень полезная.
Там не все решения представлены на
английском и французском языке, некоторые
представлены на языке оригинала, но
есть практически к каждому решению
резюме на английском языке, есть большая
систематизация решений КСов. «В общем,
пользуйтесь, полезно».
П ринято
считать, что КС в РФ появился в результате
демократических реформ. Отчасти это
справедливо, отчасти это преувеличение.
Сам КС, наверное, действительно появился
в результате реформ конца-80-х-начала
90-х, но предшествующий ему орган –
Комитет конституционного надзора СССР
(далее – Комитет КН). (Вчера умер С.С.
Алексеев). Комитет был создан уже в
последние годы существования СССР, и
считается, что это стало результатом
тех реформ, которые начались с перестройкой
(1987, 1988, 1989 гг..) Белову кажется, что,
отчасти, в этом вопросе совпало несколько
факторов. Белов говорит об этом, исходя
из того, что в некоторых социалистических
государствах аналогичные органы
появились еще в середине 80-х гг. В
советской литературе 80-х гг. предлагалось
воспринять опыт братских социалистических
народов и создать нечто похожее на
Комитет конституционного надзора
Венгрии, или каких-то других стран.
ринято
считать, что КС в РФ появился в результате
демократических реформ. Отчасти это
справедливо, отчасти это преувеличение.
Сам КС, наверное, действительно появился
в результате реформ конца-80-х-начала
90-х, но предшествующий ему орган –
Комитет конституционного надзора СССР
(далее – Комитет КН). (Вчера умер С.С.
Алексеев). Комитет был создан уже в
последние годы существования СССР, и
считается, что это стало результатом
тех реформ, которые начались с перестройкой
(1987, 1988, 1989 гг..) Белову кажется, что,
отчасти, в этом вопросе совпало несколько
факторов. Белов говорит об этом, исходя
из того, что в некоторых социалистических
государствах аналогичные органы
появились еще в середине 80-х гг. В
советской литературе 80-х гг. предлагалось
воспринять опыт братских социалистических
народов и создать нечто похожее на
Комитет конституционного надзора
Венгрии, или каких-то других стран.
Собственно, существование Комитета КН более или менее укладывалось в представление об устройстве системы государственных органов в советском праве, советском конституционализме. Эти органы в Польше, Венгрии, созданный в СССР в 1989 году Комитет КН, они представляли собой французскую модель конституционного контроля. Они предполагали сохранение в значительной степени самостоятельности, в значительной степени независимости парламента, не предполагали пересмотр решений, которые принял законодательный орган судебными актами. Соответственно, то принципиальное положение советского права о верховенстве представительных учреждений, о всевластии Советов, это положение, оно по сути дела было сохранено, оно не было поставлено под сомнение созданием Комитета КН, потому что Комитет КН мог рассматривать только дела о конституционности актов, не вступивших в силу. Либо Комитет КН мог рассматривать дела, которые касались, например, оценки конституционности правоприменительной практики. Но заключения, которые давал в этом случае Комитет КН, они никому ни к чему не обязывали, они не требовали обязательного исполнения и носили характер рекомендательных оценок.
Собственно, таких реальных полномочий, какие получил в последствии КС, у Комитета КН не было. Отчасти его положение еще задавалось общей политической ситуацией. Комитет КН был вынужден лавировать между теми партийными государственными структурами, которые еще продолжали существовать в СССР. Несмотря на то, что некоторые его решения носили революционный принципиальный характер, его полномочия были очень сильно урезаны, ограничены. По большому счету этот Комитет мало чем отличался от Конституционного Совета Франции.
В 1991 году, в отличие от многих других союзных республик, в РСФСР уже появился не Комитет КН РСФСР, а КС РСФСР. Проект создания Комитета КН РСФСР был, даже были внесены изменения в Конституцию, но его не создали. В этом отношении была переломлена советская традиция, когда какой-то институт, появившийся на Союзном уровне, дальше появлялся во всех союзных республиках.
В этом отношении РФ уже пошла по своему пути, начиная с 1991 года. Единственное что, закон 1991 года представлял собой создание промежуточной модели. КС, созданный в 1991 году (начал работать в 1992 году), по сути дела представлял собой что-то переходное, среднее между КС и Комитетом КН. Его полномочия сохранили некоторые черты французской системы, его полномочия включали оценку конституционности правоприменительной практики, его полномочия предполагали возможность оценки конституционности деятельности политических партий, что самое главное, КС мог рассматривать дела по собственной инициативе. Наверное, это сыграло с ним самую злую шутку, потому что в течение почти 2 лет активного противостояния Президента и Верховного Совета, КС пытался играть роль посредника, арбитра, он во всех случаях пытался каким-то образом участвовать в той политической борьбе, которую вели между собой Президент и ВС, это не могло закончиться хорошо, и закончилось плохо.
Еще, когда в 1993 году КС вынес заключение о неконституционности телевизионного обращения Президента к народу, уже было понятно, что не все в порядке. Но, а когда появился Указ №1400, КС в тот же день признал Указ неконституционным. В то время, КС даже никто слушать не стал и 7 октября 1993 года деятельность КС была приостановлена формально на том основании, что Президент Указом №1400 приостановил деятельность Конституции. Защищать КС уже было нечего. И с октября, начала октября 1993 года до принятия закона 21 июня 1994 года «О КС РФ», шла борьба за статус КС. Особенно активно эта борьба велась в октябре-ноябре 1993 года, КС грозила судьба стать одной из Палат Верховного Суда РФ– Палатой по конституционным делам. Тогда дискуссии велись на разных уровнях – и доктринальные, и научные, и политические дебаты.
В итоге, КС сохранил свой статус, этот статус был изменен в строну практически полного отказа от тех черт, которые КС имел общие с французским Конституционным Советом, и предполагалось создание КС в 1994 году по образу ФКСГ. Именно в таком виде КС был закреплен как один из органов в тексте Конституции, именно в таком виде в 1994 году статус его был конкретизирован и определен в ФКЗ «О КС РФ». Закон этот оказался одним из самых стабильных законов, принятых в начале 1990-х гг., самые крупные изменения были внесены в него только в 2010 году. До 2001 года в него не вносились изменения вообще. В 2010 году состоялось крупное изменение, оно было похоже на реформу КС, хотя, может быть, не покажется, что все так принципиально. Например, исчезли Палаты КС.
К С
РФ осуществляет, выполняет несколько
функций. Полномочия мы позже будем
рассматривать. Полномочия мы будем
рассматривать, следуя тем формулировкам,
которые закреплены в законе. Функции
КС – направления деятельности, общие
задачи, которые выполняет КС.
С
РФ осуществляет, выполняет несколько
функций. Полномочия мы позже будем
рассматривать. Полномочия мы будем
рассматривать, следуя тем формулировкам,
которые закреплены в законе. Функции
КС – направления деятельности, общие
задачи, которые выполняет КС.
Если мы не знаем, к компетенции какого суда отнесен вопрос, то прежде чем относить его к компетенции КС, мы должны оценить, в чем же его основное предназначение в этих функциях.
В первую очередь, КС осуществляет применение и охрану Конституции. Белов подчеркивает, речь идет о главных задачах КС, т.е. не о конкретных полномочиях. Например, толкование Конституции может осуществляться и в рамках, собственно, дел о толковании, и в рамках нормоконтроля, но толкование как общая функция КС предполагает отдельное направление его деятельности.
Применение Конституции предполагает, что КС в первую очередь должен обеспечивать применение Конституции в тех случаях, когда Конституция непосредственно регулирует какие-то отношения. В частности, речь может идти о взаимоотношениях между высшими органами государственной власти РФ, когда возникают какие-то споры, дискуссии между высшими органами государственной власти по поводу понимания тех или иных положений Конституции, КС должен в рамках своих полномочий вмешиваться, чтобы обеспечить применение Конституции. Хотя Президент – гарант Конституции, но именно на КС лежит основная функция по охране Конституции, по защите от ее искаженного толкования, искаженного восприятия.
Толкование предполагает, что Конституция есть то, что о ней напишет КС. Именно КС имеет право определять смысл конституционных положений. Истолковывая те или иные нормы Конституции, мы обращались к положениям решений КС, исходя из того, что именно в них мы можем увидеть тот смысл, который из текста нормы нам не всегда очевиден.
КС осуществляет нормоконтроль. Нормоконтроль –функция, связанная с обеспечением внутренней непротиворечивости системы правовых актов. Нормоконтроль может быть абстрактный и конкретный.
Абстрактный предполагается в тех ситуациях, когда речь не идет о применении закона в конкретном деле, вопрос о его конституционности носит абстрактный характер, конкретный нормоконтроль имеет место в том случае, если закон применен, но заявитель, который обращается в КС считает, что применен неправильно, истолкован неверно. За кон не соответствует конституции. Здесь уже вопрос о конституционности рассматривается в контексте того дела, в котором обращается заявитель.
Конституционная жалоба во многом сводится к конкретному нормоконтролю, но цели у них разные. Если цель нормоконтроля – обеспечить внутреннюю непротиворечивость той системы нормативных актов, которая действует в РФ, то конституционная жалоба рассматривается с целью обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина.
Ч то
же касается полномочий КС, то они
определены в ст.125 Конституции и в ст.3
ФЗК «О КС РФ». Цифры немножко устарели,
но они дают примерное представление о
том общем количестве решений которые
выносит КС.
то
же касается полномочий КС, то они
определены в ст.125 Конституции и в ст.3
ФЗК «О КС РФ». Цифры немножко устарели,
но они дают примерное представление о
том общем количестве решений которые
выносит КС.
Всего в компетенцию КС входит 4 основных категории дел:
~ поверка нормативных актов на соответствие Конституции РФ,
~ толкование конституции РФ,
~ разрешение споров о компетенции,
~ заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
Последнее полномочие КС никогда не приходилось использовать, споры о компетенции почти никогда не рассматривались. Было вынесено относительно немного, совсем немного тех решений, которые касались абстрактного толкования Конституции, т.е. толкования Конституции в той процедуре, которая законом предусмотрена как толкование Конституции. И вся основная деятельность КС по сути дела сводится к нормоконтролю, причем, внутри нормоконтроля вся основная тяжесть работы КС сосредоточена на конкретном нормоконтроле. Из этих цифр примерно понятно, чем занимается КС. По сути дела он только рассматривает жалобы граждан и юридических лиц. За последние годы не было ни одного обращения, которое дошло до Постановления, обращения со стороны государственных органов, федеральные органы давно уже не обращаются с запросами в КС, а органы власти обращаются редко и часто безуспешно, т.е. КС отказывает в рассмотрение запросов. Соответственно, КС фактически работает на граждан. Он рассматривает исключительно те дела, которые связаны с рассмотрением обращений граждан, что в целом предопределяет и характеристики условий его деятельности, и особенности той практики, которую разрабатывает КС, и особенности процедуры рассмотрения дел в КС.
Мы остановились на полномочиях КС, перечисленных в ст. 3 ФКЗ «О КС РФ», и Белов должен добавить к тому, о чем говорил в прошлый раз – то, что помимо полномочий, перечисленных в законе о КС, есть еще полномочия, которые предусматриваются другими законодательными актами, и в самом главным из них можно считать закон «О референдуме», который предусматривает, что КС рассматривает конституционность того проекта или тех вопросов, которые выносятся на референдум. Собственно, в связи с этим полномочием КС возникает сразу несколько практических и теоретических вопросов, во-первых. могут ли вообще полномочия КС устанавливаться иными НПА, в случае с законом «О референдуме», по крайней мере, закон такого же уровня, закон – ФКЗ, но, при этом, конечно, остается вопрос, можно ли считать исчерпывающим перечисление тех полномочий, которые закреплены в ст. 125 Конституции РФ, или они могу свободно расширяться законодателем? Если могут, то, до каких пределов. И, во-вторых, возникает вопрос о том, в чем такая, во-первых, необходимость и, во-вторых, как именно КС должен проверять вопросы, выносимые на референдум на их соответствие Конституции РФ. Определенный намек на решение второго вопроса дается в самом законе «О референдуме», где запрещается выносить на референдум вопросы, связанные с нарушением и с ограничением прав и свобод человека.
Однако КС будет, рассматривая подобный вопрос, естественно, сталкиваться с той общей проблемой, о которой мы когда-то говорили, несколько раз говорили - проблемой конфликта между двумя основными конституционными принципами: между принципом народного суверенитета и принципом защиты прав и свобод человека и гражданина. КС должен будет каким-то образом искать между ними баланс, потому что и тот, и другой принципы относятся к числу конституционно закрепленных, конституционно гарантированных принципов.
Н есколько
слов о структуре и механизмах формирования
КС. Белов хочет обратить внимание на
то, что именно эта часть закона на
протяжении последних 10 лет несколько
раз менялась. Затрагивался статус судей,
затрагивались порядок формирования
КС, структура его, если в законе, принятом
в 1994 году, КС состоял из 2 Палат и Пленарного
заседания (считается, что это было
заимствованной идеей из практики ФКС
Германии). На самом деле Палаты КС РФ
несколько отличались. Во-первых, за
Палатами не была жестко закреплена
компетенция, в отличие от Палат ФКСГ.
Во-вторых, эти Палаты могли заседать
вместе, и это был третий состав –
пленарное заседание, чья исключительная
компетенция определялась законом, что
было не похоже на КС ФРГ
есколько
слов о структуре и механизмах формирования
КС. Белов хочет обратить внимание на
то, что именно эта часть закона на
протяжении последних 10 лет несколько
раз менялась. Затрагивался статус судей,
затрагивались порядок формирования
КС, структура его, если в законе, принятом
в 1994 году, КС состоял из 2 Палат и Пленарного
заседания (считается, что это было
заимствованной идеей из практики ФКС
Германии). На самом деле Палаты КС РФ
несколько отличались. Во-первых, за
Палатами не была жестко закреплена
компетенция, в отличие от Палат ФКСГ.
Во-вторых, эти Палаты могли заседать
вместе, и это был третий состав –
пленарное заседание, чья исключительная
компетенция определялась законом, что
было не похоже на КС ФРГ
В ноябре 2010 года был принят закон, который упразднил Палаты КС и оставил исключительно один состав – пленарное заседание. Собственно, в пояснительной записке к этому проекту объяснялось, что тем самым повысится авторитет решений КС. На самом деле, до 2010 года никто никогда не ставил это как особую проблему, по крайней мере, Белову не доводилось встречать никаких научных и практических дискуссий, относительно того, что, дескать, КС рассматривает дела в Палатах и эти решения менее значимы, менее весомы, чем решения, принимаемые в пленарном заседании.
Закон, правда, не предусматривал пересмотр, пересмотр не допускался - конкретное решение, вынесенное Палатой, считалось решением КС, оно не подлежало обжалованию и пересмотру, но правовая позиция, высказанная в решении, могла впоследствии быть пересмотрена, но только в пленарном заседании. Независимо от того, первоначальное решение высказывал КС в пленарном заседании или в заседании палат, когда изменялась практика, когда пересматривались решения, этот пересмотр должен был осуществлять исключительно КС в полном составе, в пленарном заседании.
Тем не менее, никаких споров, дискуссий относительно того, что решения палат недостаточно авторитетно, никогда не было, и решение, которое было принято законодателем, выглядело несколько странно, насколько знает Белов, сами судьи КС были в некотором недоумении по поводу этого решения, потому что обязанность заседать исключительно в пленарном заседании существенно увеличивает нагрузку на судей, потому что одно и то же дело должно рассматриваться всеми судьями, всеми 19 судьями, тогда как раньше могли отдельным заседанием Палаты (половина состава 9 и 10 судей) рассматривать соответствующие дела.
Кроме того, несколько изменился порядок формирования, но не самого КС, сами судьи (это определено Конституцией) - они назначаются Советом Федерации по представлению Президента, изменился порядок выбора руководства КС. Если изначально судьи сами из своего состава избирали председателя и судью-секретаря, то теперь СФ избирает Председателя и 2 заместителей Председателя КС. Судья-секретарь перестал существовать как должность, соответственно, теперь два заместителя выполняют практически схожие функции, тогда как функции судьи-секретаря несколько отличались от функций заместителя Председателя.
Кроме того, на протяжении этих 10 лет (первые поправки были внесены в 2001 году, вторые – в 2005), несколько поправок касалось статуса судей, в основном, срока полномочий и ограничения предельного возраста пребывания судьи в должности. Срок полномочий, изначально установленный законом в 1994 году, был 12 лет, потом его увеличили до 15, потом его увеличили до пожизненного, т.е. до предельного срока пребывания в должности. Предельный срок в настоящий момент 70 лет, но предельный срок – возраст - не распространяется на Председателя КС. Белову кажется, это выглядит странным, рождаются сильные подозрения, что это сделано под конкретного человека. Так быть не должно, но, тем не менее, это так.
Кроме этих общих вопросов организации, Белов бы еще обратил внимание на Регламент КС, Регламент КС – интересное юридическое явление, потому что его принятие предусмотрено законом о КС, но в законе не определено, какова юридическая сила регламента, какие вопросы он должен регулировать. Регламент, в частности, затрагивает некоторые элементы статуса лиц, участвующих в деле, устанавливает определенные процессуальные права и обязанности. В связи с этим возникает вопрос, насколько это, в принципе, правомерно. Кроме того, Регламент на протяжении многих лет не был официально опубликован. Ситуация изменилась в 2011 году, после того как были внесены существенные изменения в закон о КС - то, что называлось реформой КС, в частности, упразднение палат, после этого Регламент был существенным образом изменен, изложен в новой редакции, уже в новой редакции он был сделан доступным для всех, он был вывешен на сайте КС, включен в правовые базы. В общем, проблема опубликования Регламента, она косвенным образом была снята, но проблема юридической силы регламента остается, и что именно, какое именно значение придавать Регламенту, можно ли Регламент, например, обжаловать с т.з. неправомерного установления прав и обязанностей лиц, участвующих в деле – это вопрос, который остается без ответа. Насколько Белов понимает, судьи склонным считать Регламент техническим документом, не считая, что в нем устанавливаются новые нормы и новые правила. Однако на самом деле это не так, в этом отношении содержание Регламента отличается от тех представлений, которые характеризуют содержание Регламента.
К онституционный
судебный процесс – это один из видов
судопроизводства. Как мы знаем, в ст.
118 Конституции перечисляются виды
судопроизводств: гражданское, уголовное
административное и конституционное.
Закон о КС регламентирует конституционный
судебный процесс в отношении порядка
рассмотрения дел Конституционным Судом
(далее – КСом).
онституционный
судебный процесс – это один из видов
судопроизводства. Как мы знаем, в ст.
118 Конституции перечисляются виды
судопроизводств: гражданское, уголовное
административное и конституционное.
Закон о КС регламентирует конституционный
судебный процесс в отношении порядка
рассмотрения дел Конституционным Судом
(далее – КСом).
Конституционный судебный процесс применяется в К(У)СС, где он, в целом, мало отличается от судопроизводства в КС, хотя некоторые отличия в некоторых субъектах есть.
Мы будем говорить о конституционном судопроизводстве, конституционном судебном процессе, КСРФ, т.е. по ФКЗ «О КС РФ». Закон, в общем-то, довольно много внимания уделяет именно процессу, Белов бы сказал, что дельная доля тех норм, которые определят порядок рассмотрения дел КСом, составляет больше половины закона о КС. При этом, закон определяет как общие правила рассмотрения дел, так и особенности рассмотрения дел отдельных категорий. Мы постараемся дать общую характеристику конституционному судебному процессу в КС, но, при этом, мы должны понимать, что процесс в КС не играет столь важной роли, какую процесс играет в других судах. Главным образом причиной этого можно считать то, что решения КС не обжалуются. Т.к. они не обжалуются, то те дефекты, которые они имеют, грубо говоря, они остаются на совести КС. Они не могут быть основанием для пересмотра решения КС, такой процедуры нет. И, как вытекает из принципов Конституции, быть не может в принципе.
Соответственно, судопроизводство – это некая упорядоченность той процедуры, которая имеет место в КС, это не те правовые жесткие требования, которые, с одной стороны, гарантируют права участников процесса, с другой стороны, предопределяют те основания, по которым решение может оспариваться как вынесенное без надлежащих юридических оснований. Конституционный судебный процесс такого значения, такой роли не играет, соответственно, его регулирование далеко не столь строго соблюдается, как соблюдается процесс в других судах. Мы к этому вопросу еще вернемся, просто Белов привете пример, самый яркий пример: закон о КС не предусматривает существования приглашенных участников процесса. Регламент таких участников предусматривает, и в реальности, КС, считая полезным участие в деле любых должностных лиц и государственных органов, может пригласить к рассмотрению дела представителей Минюста, представителей Генеральной прокуратуры, представителей любого Министерства или иного органа государственной власти. Каков статус этих лиц? В общем, в законе, поскольку их статус не определен, в Регламенте они только упоминаются, можно проводить аналогию с другими участниками процесса, но, в любом случае, здесь явно будет отсутствовать та строгость процессуальной формы, которая характерна для рассмотрения дел в других судах.
В этом отношении конституционный судебный процесс, не надо преувеличивать его значение, к тому же, у КС такая широкая свобода усмотрения, настолько широкие возможности по использованию тех или иных материалов, доказательств, аргументов и доводов, он настолько слабо связан той инициативой, которые проявляют стороны, что, в общем-то, процесс как таковой оказывается лишь некими общими ориентирами, на которые должен, в целом, как то смотреть КС, но не обязательно строго им следовать. По крайней мере, практика складывается именно так.
Тем не менее, закон о КС регламентирует порядок рассмотрения дел достаточно подробно. И мы можем увидеть целый ряд особенностей в конституционном судопроизводстве, которые проистекают из закона и которые характеризуют общий порядок рассмотрения дел в КС.
Мы начнем с принципов конституционного судопроизводства. Некоторые из них закреплены в законе, о некоторых имеет смысл говорить больше, о других только в общем виде упомянуть.
То, что касается принципа законности, про него много написано. Одна говорят, какая может быть законность для КС, если КС сам вершит судьбы закона. В отношении процесса – это совершенно странный довод, потому что процесс обязателен для любого суда, в том виде, в котором он закреплен в законе. КС в этом отношении не исключение. Конечно, КС может проверить конституционность собственной процедуры, но надо сказать, что все многочисленные попытки обжаловать в КС закон о КС были безуспешными. Наверное, отчасти потому что КС считает, что он выступит тут судьей в собственном деле, вопрос слишком непосредственно затрагивает сам КС, возможно по каким-то другим причинам, но, в любом случае, закон о КС для КС обязателен. Другое дело, что последствия нарушения закона, в отличие от других судов, для КС фактически отсутствуют, т.е. если процедура была нарушена, то никаких последствий, кроме угрызения совести самих судей, не возникает.
Второй принцип – принцип коллегиальности. В КС не предусмотрено рассмотрение дел или даже каких-то отдельных процессуальных вопросов в индивидуальном порядке. Начиная от принятия обращения к рассмотрению и заканчивая итоговым решением КС, все эти решения (как процессуальные, так и по существу дела) принимаются коллегиально. Причем, сегодня принимаются исключительно пленарным заседанием, т.е. всеми 19 судьями.
Может быть, отчасти, есть одно маленькое исключение - подготовка дела к разбирательству. На стадии подготовки судья-докладчик имеет право в рамках подготовки дела к рассмотрению истребовать доказательства, приглашать тех или иных участников в процесс, в этом отношении он обладает серьезной процессуальной самостоятельностью. Ему не требуется, чтобы вызвать свидетеля или какое-то лицо в процесс, принимать решение в пленарном заседании. Еще определенную роль играет секретариат, но об речь этом позже.
В целом, в отличие от ЕСПЧ, где вопрос о приемлемости жалобы могут рассматривать судьи единолично, в КС такие вопросы рассматриваются исключительно всем составом суда.
Принцип состязательности в конституционном судопроизводстве один из самых спорных и неоднозначных. С одной стороны, он закреплен в законе прямо и непосредственно. Отчасти закрепление этого принципа подчеркивает, что КС именно суд. Его процедура носит судебный характер, сам он относится к судебным органам, соответственно, для него обязательны те принципы, которые Конституция устанавливает в отношении судопроизводства. А состязательность – один из таких принципов. Состязательности не сводится только к наличию сторон и к равноправию сторон в процессе. С наличием сторон в конституционном процессе тоже могут быть проблемы. По крайней мере, есть т.з. о том, что в некоторых видах дел КС, стороны могут отсутствовать, например в делах о толковании Конституции. Белов считает, что это неправильно, Белов полагает, что дело доходит до КС только тогда, когда есть спор относительно содержания Конституции, а раз есть спор, значит, есть те, кто спорят – 2 позиции, 2 т.з., вот нам и стороны в процессе. Однако закон прямо не указывает на то, что такие лица должны быть, в частности, в делах о толкования Конституции, и само наличие сторон уже вызывает сомнения.
То, что касается равноправия, то это никаких сомнений не вызывает.
А еще один элемент состязательности – пассивность суда и необходимость совершения любых процессуальных действий исключительно по инициативе сторон – эта черта в конституционном процессе отсутствует почти совсем. КС в процесс имеет активное положение, т.е. он может, во-первых, самостоятельно добывать доказательства: начиная от принятии решения о необходимости тех или иных доказательств, и заканчивая их добыванием, их истребованием в других государственных органах. КС также не связан аргументами и доводами сторон по существу дела, и в этом есть глубокий теоретический смысл, большая теоретическая подоплека. Поскольку КС рассматривает вопросы, носящие публичный характер, вопросы, которые затрагивают интересы широкого круга граждан, он не может себе позволить ограничиваться лишь теми действиями, которые инициируют сами стороны. В этом случае, если бы он буквально следовал принципу состязательности, то, скажем, недостаточная подготовка или недостаточный профессионализм лиц, участвующих в деле, могло бы приводить к ущемлению прав едва ли не всех граждан РФ, которые страдали бы от недостаточно умелого отстаивания позиции неконституционности закона в КС. Поскольку этого допустить никак нельзя, КС берет на себя, отчасти, функцию дополнения и собственного расследования.
Судьи КС не столь связаны как судьи обычных судов теми процессуальными инициативами, которые выдвигают стороны. Это не мешает сторонам заявлять ходатайство об истребовании каких-то доказательств и представлять свои аргументы, но, в любом случае, КС только этими материалами не ограничивается.
В этом отношении конституционный процесс не имеет вида классического состязательного процесса. У него очень много черт розыскного, следственного процесса, собственно, предопределяется это особенностями тех вопросов, которые рассматриваются в КС.
Вообще в КС, хотя и есть конкретный заявитель, но считается, что речь идет не о правах и обязанностях конкретного заявителя, а о тех правах и обязанностях, которые установлены нормативно, грубо говоря, не о субъективном праве, а об объективном праве. В этом отношении, конечно, то, что состязательность ограничена, выглядит достаточно логично.
Устность в процессе конституционном тоже весьма условна, особенно это касается новой процедуры, введенной законом, принятом в ноябре 2010 года, реформировавшем КС, вступившим в силу в феврале 2001 года. Этот закон предусмотрел новую процедуру – процедура предусмотрена ст. 471. Это процедура письменного судопроизводства.
Предполагается, что если речь идет о применении ранее высказанной правовой позиции КС в новом деле, к новому нормативному акту, то полное слушание дела не требуется. Достаточно письменного разбирательства без приглашения сторон. Естественно, есть обращение в КС, есть отзыв на это обращение органа, издавшего и подписавшего оспариваемый НПА, и всё. Дальше КС сам, без участия сторон, рассматривает эти материалы.
Процедура ст. 471., она рассматривается как исключение из общего правила, считается, что если кто-то из участников процесса возражает против применения этой процедуры, она не может быть применена, любые возражения возвращают рассмотрение дела в обычный порядок. Обычный порядок предполагает, что при рассмотрении дела по существу, стороны приглашаются в судебное заседание, высказывают устно свои позиции, происходит судоговорение, которое и характеризует устность судебного разбирательства.
Есть масса «но», в т.ч. в отношении общей процедуры. Во-первых, эта устность касается далеко не всех стадии процесса. Если в суде общей юрисдикции устность и состязательность предполагаются с самого начала, т.е. с момента обсуждения возможности принятия обращения к рассмотрению, на стадии подготовки дела к разбирательству могут быть т.н. предварительные слушания. То в КС только само уже рассмотрение дела.
Много лет подвергалась критике, подвергается критике та практика, которую КС сформировал давно – практика вынесения Определений, решающих те или иные дела по существу, об этом еще речь впереди.
Эти Определения выносятся без участия сторон, соответственно, поскольку подавляющее большинство дел решается именно Определениями, и в них иногда даже формируются правовые позиции КС, в них иногда даже по сути принимается то решение, которое должно было бы выноситься в форме Постановления и приниматься в устной, гласной процедуре. В общем, фактически можно говорить, что в этой части устность существенным образом ограничена.
Уже непосредственно в самом рассмотрении дела, в самой процедуре, когда речь идет о КС, то устности гораздо меньше, чем в других судах, Если, например, в уголовной процессе считается, что устность требует оглашения всех доказательств, имеющихся в деле, то в конституционном процессе никто ничего подобного не делает. Далеко не все материалы дела оглашаются в заседании. Участники процесса, за ними сохраняется право знакомиться с материалами дела, но той самой устности, которая обеспечивает гарантии ознакомления со всеми материалами, которое обеспечивает представление о доказательной базе со всех сторон, всех участников процесса, этой устности в конституционном судопроизводстве нет.
То, что касается гласности и открытости, то в той же части, в которой речь идет об устности, в той же части можно говорить и о гласности. Потому что письменные документы, частично они доступны на сайте КС, там некоторые обращения даже вывешиваются для всеобщего ознакомления, но закон этого не требует, закон не предполагает гласность и открытость за пределами устной процедуры, которая весьма ограниченно применяется.
Про производство на русском языке Белов не будет говорить.
По поводу непрерывности. Сегодня этот принцип фактически отменен. И юридически тоже. Потому что им пожертвовали в качестве компенсации за ликвидацию Палат КС. Принцип непрерывность предполагает, что суд не может начинать рассмотрение другого дела, пока не рассмотрел предыдущее. Это касается рассмотрения дела в определенном составе КС. До тех пор, пока существовали Палаты КС, КС мог параллельно рассматривать максимум 3 дела: каждая Палата могла рассматривать по 1 делу и пленарное заседание. Только рассмотрев очередное дело, можно было перейти к рассмотрению нового. Ликвидация палат фактически привела бы, если бы не отменили принцип непрерывности, к тому, что КС может рассматривать только одно дело в конкретный момент времени. Законодатель посчитал, что это слишком сильно ограничит, затормозит работу КС, поэтому принцип непрерывности был отменен. Теперь КС может параллельно рассматривать сколько угодно дел. Но, конечно, есть разумные пределы, чтобы сами судьи не путались в делах. Но закон требований непрерывности не устанавливает. В этом отношении, конституционный судебный процесс, который начинал функционировать как обычный процесс, соответствующий тем представлениям о процессе, которые сформировались на базе других видов судопроизводства, теперь стал существенно отличаться.
Как мы видим, с состязательность, и устность, и непрерывность – те принципы, которые характерны для любых видов процесса, но именно в КС они имеют настолько существенную специфику, что во многих случаях оставляют сомнение относительно того, что они вообще существуют. Даже формальное признание, как в случае с принципом состязательности, не означает, что в действительности этот принцип соблюдается
Последний принцип – принцип процессуальной экономии, который нигде нормативно не закреплен, но широко применяется. Его сложно считать в юридическом смысле принципом, однако КС некоторые решения принимает, явно руководствуясь идеей процессуальной экономии. Белов приведет пример, к которому мы потом вернемся - пример рассмотрения конституционности какого-то закона. Допустим, КС рассматривает конституционность закона и видит, что заявитель оспаривает какую-то норму, имеющую определенный нормативный объем, объем нормативного содержания. Заявитель оспаривает часть этого нормативного содержания, и например, та часть, которую оспаривает заявитель – неконституционная. С т.з. возможного подхода, КС мог бы в этом случае признать неконституционной норму в той части, в которой она была оспорена заявителем. Но в этом случае другие части общего нормативного объема остались бы неоцененными с т.з. конституционности, и могло бы появиться новое обращение по поводу уже другой части той же самой статьи, и КС вновь потребовалось бы оценивать ее конституционность уже несколько в ином смысле, в иной части нормативного объема.
Что делает КС?
Он говорит: нет, мы не будем рассматривать кусочек, мы в целом оценим норму, и скажем, что в этой части она конституционна, в этой неконституционна. Назовем это конституционном токованием нормы. Конституционное толкование нормы проистекало из процессуальной экономии¸ чтобы снова и снова не возвращаться по поводу конкретных ситуаций по поводу применения нормы к ее конституционности, КС раз и навсегда определяет, в какой части норма должна считаться конституционной, а в какой части она конституционной признана быть не может. Тем самым, может быть, в какой-то части, расширив предмет обращения в КС, хотя, что тут понимать под предметом обращения, в любом случае, КС определенным образом более универсальное решение принимает и тем самым предотвращает повторное рассмотрение тех же самых вопросов. Процессуальная экономия относится в т.ч. и к тем ситуациям, когда КС выносит решение не как итоговое, финальное Постановление, а, скажем, выносит Определение об отказе в рассмотрении дела, но в этом Определении по сути дела проблему решает. В этом случае, если почитать Определения КС, то в некоторых ситуациях он пишет, что вопрос не требует рассмотрения в Постановлении КС. Предполагается, что достаточно вынести определение. И эта идея о достаточности Определения, она вытекает из принципа процессуальной экономии.
К роме
тех принципов, о которых мы поговорили,
мы должны поговорить о тех процессуальных
институтов, которые характерны для
любого судебного процесса, в т.ч. для
конституционного.
роме
тех принципов, о которых мы поговорили,
мы должны поговорить о тех процессуальных
институтов, которые характерны для
любого судебного процесса, в т.ч. для
конституционного.
Судебный процесс конституционный в части состава участников сильно зависим от той категории дела, которая рассматривается. В Конституции и в ФКЗ «О КС РФ» перечисляется большое количество разных заявителей, которые могут возбуждать производство в КС. В частности, речь идет о тех органах, которые могут подавать запросы в порядке абстрактного нормоконтроля, т.е. без относительно конкретного дела, речь идет о тех органах, которые могут инициировать конкретный нормоконтроль в связи с рассмотрением ими конкретного дела, но и органах, которые могут возбуждать производство в КС в рамках споров о компетенции, либо в делах о токовании Конституции.
Закон и Конституция, наверное, самый большой перечень предусматривает в отношении тех, кто может возбуждать дела об абстрактном нормоконтроле. Здесь перечислено, в частности: Президент, Правительство, Государственная Дума и Совет Федерации, Верховный и Высший Арбитражный Суд и такой специфический субъект как 1/5 депутатов ГД, 90 человек могут обратиться в КС с запросом + органы законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации.
Белов не будет пересказывать условия или особенности обращения в Суд субъектов, Белов обращает внимание на несколько проблемных черт всей процедуры и всех этих полномочий.
Во-первых, очень странным выглядит в целом обращение в КС судов. Еще в порядке абстрактного нормоконтроля, в каком-то смысле, эта странность меньше бросается в глаза, потому что при абстрактном нормоконтроле суды действуют вне рамок судопроизводства в буквальном смысле. Однако и в этом случае суды сомневаются о конституционности закона, они должны отстаивать в КС как заявители позицию о его неконституционности, они занимают положение стороны в процессе, что выглядит достаточно странно. В конституционном процессе это выглядит менее странно, чем выглядело бы в процессе гражданском или административном, однако и в этом случае все равно, Белову представляется это достаточно это необычным для судов – выполнять функции оспаривания какого-то нормативного акта, особенно, если речь идет об оспаривании закона. Здесь в общем-то с теоретической т.з. может возникать масса сомнений в правильности предоставления таких полномочий судам, потому что суды, вместо того, чтобы исполнять закон, они начинают бороться против закона в КС. И их роль в качестве правоприменительных органов в этом случае оказывается ограниченной. Но с практической т.з. все наоборот. Суды – те органы, которые непосредственно сталкиваются с рассмотрением конкретных дел, они могут увидеть то, что не может увидеть орган, имеющий право возбуждать абстрактный нормоконтроль в КС. И в этом отношении у судов всегда больше поводов, всегда больше оснований для обращения в КС с запросом о неконституционности.
В отношении конкретного нормоконтроля, Конституция и закон о КС фактически предусматривают только два вида субъектов – граждане и суды. Однако закон, по сравнению с Конституцией, добавляет туда еще и объединения граждан. На практике, этот перечень расширяется многократно. Практика КС показывает, что он принимает жалобы или обращения о неконституционности, тут их сложно назвать запросом, потому что они в строгом смысле запросом не являются, но и жалобой это тоже посчитать проблематично. Например, КС признал право возбуждать конкретный нормоконтроль (и абстрактный тоже) за прокурором. Это право предусмотрено законом о прокуратуре, а закон о прокуратуре – обычный федеральный. В каком-то смысле, корректируя положения ФКЗ о КС – этот закон добавляет полномочия прокурора, которые законом о КС не предусмотрены. В связи с чем с т.з. формальной не могут не возникать определенные сомнения в том, что это оправданно. Кроме того, ФКЗ Об Уполномоченном по правам человека предоставляет право обращения в КС Уполномоченного. КС признал в своей практике возможность обжаловать нарушения прав местного самоуправления за органами местного самоуправления. Кроме того, КС принимает жалобы от юридических лиц. Далеко не всегда юридическое лицо является объединением граждан, но КС, следуя общей позиции, что юридическое лицо – это форма реализации прав граждан, и нарушение прав юридического лица влечет нарушение прав граждан, его учредителей и участников, следуя этой общей логике, КС принимает к рассмотрению жалобы юридических лиц, они также, как и жалобы граждан, составляют подавляющее большинство тех обращений, которые рассматривает КС.
Получается, что, в целом, круг лиц, обращающихся в КС, чрезвычайно широк. КС даже принимал к рассмотрению обращение ГУП и государственных учреждений, хотя они объединениями граждан не являются точно. В этом отношении КС скорее руководствуется принципом, что лучше принять больше жалоб и устранить максимальное количество нарушений Конституции, нежели ограничивать возможности возбуждать производство в КС, следуя строгим формулировкам закона.
Короче говоря, КС в этом отношении формализмом не отличается, он старается более эффективно обеспечивать защиту Конституции, рассматривая возможность обращения в КС в качестве эффективного инструмента.
Т е,
кто обращается в КС – это одна сторона
в процессе, независимо от вида производства,
заявитель есть всегда, при любой категории
дел.
е,
кто обращается в КС – это одна сторона
в процессе, независимо от вида производства,
заявитель есть всегда, при любой категории
дел.
А, вторая сторона, противостоящая заявителю сторона. Мы можем употреблять те термины, которые используются в гражданском процессе, это может быть не совсем корректно, но по существу определяет положение лиц, принимающих участие в рассмотрении дела (истец и ответчик), особенно истец не очень корректно, в отношении другой стороны – отвечать здесь действительно приходится. В качестве таких лиц выступают: в законе сказано – те государственные органы, которые издали или подписали оспариваемый НПА, если речь идет о нормоконтроле. А если речь идет о споре о компетенции, то тот орган, чья компетенция оспаривается. А в случае с толкованием Конституции, в законе четко не указывается, какой орган должен выполнять процессуальную функцию ответчика. Кто должен защищать определенное толкование Конституции? Белов полагает, что дела о толковании Конституции возникают в том случае, когда Конституция была уже применена, и заявитель считает такое применение некорректным. Например, Президент совершил какие-то действия, которые, по мнению ГД, рассматриваются как неконституционные. В этом случае то лицо, которое совершило соответствующие действие, тот орган, который предпринял такие действия, должно выступать в процессе, защищая свое понимание, свое толкование Конституции. В частности, можно привести пример, к сожалению практики о толковании Конституции у нас немного, и она разная: в одних случаях КС ссылался на то, что поскольку Конституция не применена, неопределенность, которая является основанием ля рассмотрения дела, отсутствует, следовательно, когда какой-то спор возникнет, тогда будет почва для рассмотрении дела КС. В других делах КС без очевидных оснований, поводов, тем не менее, дела рассматривал.
Если обратиться к практике тех Постановлений, которые выносились по делам о толковании Конституции, то можно увидеть, что, например, Президент вносит дважды кандидатуру на должность председателя Правительства, ГД обращается с запросом о толковании Конституции, спрашивая, а правомерно ли поступил Президент. В таком случае, естественно, Президент будет отстаивать свою позицию, а ГД свою. Появятся две стороны, и появится полноценный состав участников для рассмотрения дела в КС.
Кроме сторон, в конституционном судебном процессе могут быть представители сторон, свидетели, эксперты и переводчики. То, что касается свидетелей, в КС это довольно странная фигура, собственно, также как и некоторые другие средства, источники доказательств, свидетели могут способствовать установлению каких-то фактов. И это указывает на то, что КС может рассматривать вопросы установления тех или иных юридически значимых фактических обстоятельств. В представлении многих, в первую очередь, в представлении многих ученых, КС не должен заниматься установлением фактов. И в этом отношении довольно активно подвергается толкованию ст. 3 ФКЗ «О КС РФ», где сказано, что КС рассматривает исключительно вопросы права. Эту статью в целом очень часто пытаются, эту часть статьи пытаются истолковывать вместе со следующим абзацем, где сказано, что КС воздерживается от установления фактических обстоятельств, если это входит в компетенцию других органов. Но эти два положения независимы друг от друга, Белов хотел бы обратить внимание на то, что принципиально никакого запрета КСу рассматривать фактические обстоятельства дела в законе не установлено. КС, исходя из особенностей тех дел, которые он рассматривает, во многих случаях должен рассматривать исключительно вопросы нормативного содержания, не принимая решения о правах и обязанностях конкретных лицам в конкретном правоотношении, в этом случае он бы вторгся в компетенцию других лиц, других органов, других судов, это было бы нарушением его компетенции. Однако в тех случаях, когда КС устанавливает вопросы, имеющие отношения к его сфере полномочий, в частности, например, устанавливает соблюдение конституционно установленной процедуры принятия закона, она же не может быть установлена без констатации определенных фактических обстоятельств. В этих случаях КС непосредственно устанавливает вопросы факта. В этом отношении существование фигуры свидетелей рассматривается вполне логично и оправданно. Если же мы будем считать, что КС вообще никогда фактические обстоятельства не устанавливает, то и свидетели, и многие другие виды доказательств окажутся достаточно странными.
Собственно, как же нужно читать эту часть 3 статьи? На взгляд Белова, контекст принятия закона 1994 года вполне отчетливо указывает на то, что разработчики этого закона имели ввиду, что КС рассматривает вопросы права, а не политики. Противопоставление несколько другого рода, противопоставление не вопросов факта и права, как привыкли рассуждать юристы, а вопросов права и политики, т.к. КС до этого был активно вовлечен в политические отношения, память о них была сильна в тот момент, когда писали закон «О КС РФ», кроме того, вообще, КС по природе своей деятельности может в том или ином виде вторгаться в политический процесс. Чтобы это предотвратить, в закон подобное положение было включено.
Т о,
что касается экспертов, это тоже
любопытная фигура. В обычном процессе
экспертиза не может проводиться по
вопросам права. Любой вопрос, который
относится к компетенции суда, не может
быть предметом экспертизы. Эксперт в
этом случае будет подменять собой суд,
поэтому, конечно, эксперты не могут
выражать свое мнение по вопросам права.
Эксперты требуются в тех случаях, когда
суду необходимы специальные знания в
области науки, техники или ремесла. В
КС все немного иначе. И экспертиза может
быть по правовым вопросам, но общий
принцип в этом случае соблюдается. Перед
экспертами не должен ставиться вопрос
о конституционности нормативного акта,
потому что этот вопрос относится к
компетенции КС. А вопросы, например,
содержания отраслевого регулирования,
особенностей практики применения
закона, системное толкование отдельных
НПА, оспариваемых в КС, это все может
быть и часто выступает предметом
экспертизы, которую дают специалисты
для КС.
о,
что касается экспертов, это тоже
любопытная фигура. В обычном процессе
экспертиза не может проводиться по
вопросам права. Любой вопрос, который
относится к компетенции суда, не может
быть предметом экспертизы. Эксперт в
этом случае будет подменять собой суд,
поэтому, конечно, эксперты не могут
выражать свое мнение по вопросам права.
Эксперты требуются в тех случаях, когда
суду необходимы специальные знания в
области науки, техники или ремесла. В
КС все немного иначе. И экспертиза может
быть по правовым вопросам, но общий
принцип в этом случае соблюдается. Перед
экспертами не должен ставиться вопрос
о конституционности нормативного акта,
потому что этот вопрос относится к
компетенции КС. А вопросы, например,
содержания отраслевого регулирования,
особенностей практики применения
закона, системное толкование отдельных
НПА, оспариваемых в КС, это все может
быть и часто выступает предметом
экспертизы, которую дают специалисты
для КС.
Поводом к рассмотрению дела в КС выступает обращение Обращение бывает 3 видов: запрос, жалоба, ходатайство. Ходатайство подается только по спорам о компетенции. Жалоба подается гражданами и юридическими лицами в порядке конкретного нормоконтроля, во всех остальных случаях – запросы. Повод – это именно то, что возбуждает производство, но не основание к рассмотрению дела.
В законе, и в решениях КС обычно указывается, что должно считаться поводом, а что - основанием для рассмотрения дела. Повод – формальное обстоятельство, основание – обстоятельство содержательное. Поводом является обращение, основанием является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о конституционности НПА, либо в ином вопросе, который входит в компетенцию КС.
В отношении обращения достаточно важен предмет обращения. Не хотелось бы углубляться в теорию процесса. По сути дела, как предмет обращения, в случае с КС, следует рассматривать ту часть нормы, которая рассматривается на конституционность. В тех случаях, когда речь идет о конкретном нормоконтроле, предметом обращения выступает не норма в целом, а только норма в той части, и норма в том смысле, в котором она была применена в конкретном деле. И это определяет предмет обращения.
Предмет обращения важен для того, чтобы КС мог объединить несколько обращений в одно производство, а если КС объединит обращение и вынесет по ним Постановление, то все те заявители, чьи обращения были объединены, они будут иметь право на пересмотр решений по их делам, в отличие от всех остальных.



С ама
процедура рассмотрения дела в КС
предполагает 3 главных стадии. И 1
стадией
выступает принятие обращения к
рассмотрению. Поскольку 99% обращений
на этой стадии завершаются, о ней нужно
поговорить подробнее.
ама
процедура рассмотрения дела в КС
предполагает 3 главных стадии. И 1
стадией
выступает принятие обращения к
рассмотрению. Поскольку 99% обращений
на этой стадии завершаются, о ней нужно
поговорить подробнее.
Первое, на что обращает внимание ФКЗ О КС – это специальное полномочие Аппарата КС, точнее Секретариата КС, которое проводит предварительной изучение обращение. Полномочие секретариата по предварительному изучению обращения – это полномочие, которое, во-первых, сильно отличается de jure и de facto, во-вторых, носит необычный, эксклюзивный характер, для других судов эта практика не характерна. Чтобы Аппарат, хотя бы на первоначальной стадии, принимал решение о том, есть ли основания для рассмотрения дела – это неслыханная практика ни для каких других судов. Ни национальные суды, ни международные суды никогда не доверяют своему Аппарату, техническим службам рассмотрения вопроса о том, насколько допустимо то или иное обращение. В КС это особенность процесса. Надо сказать, что это особенность именно КС РФ. Это такая особенность, черта, институт, который и в других КС не слишком широко применяется. Есть нечто подобное в КС ФРГ, т.н. Третий Сенат – Сенат - коллегия научно-консультативная. Но окончательное решение принимают судьи.
Секретариат же КС РФ во многих решениях оценивает, имеет ли место в обращении какая-то конституционно-правовая проблема, заслуживающая рассмотрения дела судьями. Это несколько странно, работники Секретариата, которые, конечно, очень квалифицированные и хорошо подготовленные, опытные специалисты, они, тем не менее, не имеют того статуса, которые имеют судьи, и эта практика зачастую вызывает и теоретические, и, особенно, практические возражения, потому что, в этом отношении, Секретариат становится фильтром, который не допускает обращение до судей вообще.
Секретариат формально, по закону, должен оценить соблюдение формальных требований к обращению. Если требования к обращению соблюдены, значит, можно передать судьям на предварительное изучение поступившее обращение, и судьи уже будут принимать решение, следует ли принимать это обращение к рассмотрению, выносить Определение о возбуждении производства.
Однако в реальности решение о соблюдении формальных требований перерастает в оценку содержания обращений, потому что формальным требованием является, например, подача обращения в рамках компетенции КС, а это уже вопрос оценочный. И во многих случаях заявитель считает, что он ставит вопрос конституционного уровня, а Секретариат КС считает, что здесь вопрос лежит в плоскости оспаривания фактического решения, вынесенного судами общей юрисдикции или арбитражными судами, и, собственно, предмет для рассмотрения КС отсутствует.
Секретариат, конечно, с одной стороны, с организационной стороны, с практической стороны, вещь необходимая. Потому что в КС РФ поступает огромное количество жалоб, это количество несколько раз превосходит количество обращений, подаваемых в ФКС Германии (хотя у него компетенция немного шире), в этом отношении без Секретариата Суду было бы сложно существовать. Но Секретариат в некоторых ситуациях, принимая на себя полномочие по оценке допустимости того или иного обращения, он становиться блокирующим элементом, которое даже действительно содержательному обращению не позволяет дойти хотя бы до судей. Работники и руководство Секретариата говорят, что они стараются следовать презумпции того, что любое обращение должно быть передано судьям. В реальности, есть уже в литературе несколько публикаций, посвященных критике КС, где указывается на разные случаи, ситуации, в которых Секретариат отказывал с передаче обращений судьям, ссылаясь на то, что обращение не соответствует требованиям закона.
Формально можно требовать, чтобы дело все-таки было передано судьям. Но, как мы догадываемся, если даже заставить КС рассмотреть обращение – это не будет особо эффективно. В частности, потому что проект решения суда по тому же самому обращению будет писать Секретариат КС, он будет отстаивать ту позицию, которую он считает правильной. Учитывая, что при огромном количестве дел, рассматриваемых Судом, на некоторые Определения уходит несколько минут при рассмотрении всем составом суда, то позиция Секретариата во многих случаях оказывается решающей.
Конечно, Секретариат формально не обладает теми или иными полномочиями в рамках судопроизводства, но в реальности его функции, как наиболее точно было указано в статье Е.В. Тарибо (руководителя Управления конституционных основ публичного права Секретариата КС), он назвал Секретариат выполняющим квазисудебные функции, квазисудебные – что-то вроде близкое, что-то в рамках судопроизводства, что-то непосредственно имеющее отношение к движению дела в КС, но формально остающееся за рамками того процесса, который регламентирован законом. Секретариат иногда ведет переписку с заявителями, иногда эта переписка предполагает, что Секретариат несколько раз возвращает обращение, только с 3-4 раза признает, что в обращении поставлена какая-то проблема, сформулирована достаточно серьезная конституционная проблема, чтобы ее модно было передать на рассмотрение судей. При этом, письма Секретариата, они направляются от имени КС, Секретариат фактически представляет перед заявителем КС, то решение, которое принимает Секретариат – это фактически решение суда, и вопрос о соотношении тех формальных полномочий, которые Секретариату предоставлены и его реального значения в этой процедуре, в этом отношении очень сильно отличается.
Если секретариат пропускает обращение, там в самом Секретариате тоже есть несколько этапов рассмотрения. На 1 этапе отдел писем рассматривает формальные требования, соблюдение формальных требований, например, оплату государственной пошлины. И если не соблюдено такое формальное требование, то уже на этом, предварительном этапе, без рассмотрения по содержанию обращение возвращается заявителю.
Если все формальные (совсем формальные) требования соблюдены, то дело передается в одно из четырех отраслевых управлений секретариата КС: Управление конституционных основ публичного права, Управление конституционных основ частного права, Управление конституционных основ уголовной юстиции и Управление, которое имеет дело с вопросами социального обеспечения и защиту трудовых прав.
Уже содержательно обращение анализируется в этих Управлениях, именно Управления ведут переписку, указывая на то, что поставленный заявителем вопрос не относится к компетенции КС, или требует какого-то более подробного изложения, более тщательного указания на конституционно-правовую проблему.
Если секретариат почитал, что обращение соответствует требования закона, оно передается для предварительного изучения судье, которого определяет Председатель КС. Если судья считает, что обращение подлежит рассмотрению в КС, то этот судья пишет проект Определения о принятии обращения к рассмотрению. Если эта позиция судьи поддерживается всеми судьями, т.е. принимается в пленарном заседании, то в этом случае обращение считается принятым к рассмотрению, суд назначает судью-докладчика, судья-докладчик готовит материалы дела к последующему рассмотрению в КС. В этом случае возможны две процедуры – рассмотрение дела в заседании и рассмотрение по ст. 471.
2 стадия. Общая процедура, которая продолжает фигурировать как общее правило – процедура рассмотрения дела в порядке слушания дел с приглашением сторон, с выступлениями сторон и других участников дел, иногда приглашенных лиц. Эта главная процедура очень похожа на обычную судебную процедуру, где предполагается сначала доклад дела судьей-докладчиком, потом выступление заявителя, противостоящей заявителю стороны.
Собственно, в отличие от других видов судопроизводства, главная особенность рассмотрения дела в КС – краткость. Если в суде гражданские, а особенно уголовные дела могут рассматриваться неделями и даже месяцами, то дела в КС редко когда рассматриваются больше, чем несколько часов. Достаточно обозначить позиции, обсуждаются, в основном, вопросы права, вопросы юридической оценки оспариваемого НПА, и для того, чтобы дать характеристику, чтобы сформулировать основные позиции, много времени не требуется, обычно рассмотрение занимает 2-3 часа, после чего судьи удаляются в совещательную комнату, и совещаются там, тоже в отличие от судей общей юрисдикции, иногда несколько месяцев. Потому что, как раз там начинается основная работа, как раз там начинаются основные дискуссии между судьями, как раз там идее основная подготовка принимаемого решения. При этом, также как в других судах, сохраняется тайна совещательной комнат. Кто как голосовал за итоговое решение публике неизвестно. Единственное, что может стать известно – Особое мнение. Особое мнение у нас не принято делить на оппозиционное и поддерживающие (как в английской практике, в американской практике), у нас просто особое мнение, которое показывает, что судья не согласен с мнением большинства, а в чем именно, это уже только из текста самого особого мнения можно понять. Либо он не согласен вообще в принципе, с принятым решением, либо с отдельными элементами аргументации.
Кроме общей процедуры гласного рассмотрения дела в заседании суда, может быть и вторая процедура, процедура, предусмотренная сит. 471. – процедура письменного производства. Немного забегая вперед, Белов должен сказать, что закон о КС предусматривает такое правило, что если КС признал неконституционным какое-то положение закона, то автоматически утрачивают силу все акты, основанные на положении, признанном неконституционным, а также акты, воспроизводящие это положение.
Из этой короткой нормы вытекает очень много разного рода последствий, часть последствий связана с универсализацией правовой позиции КС, о чем речь позже. Часть последствий связана с распределением компетенций между КС и другими судами в части тиражирования правовой позиции, а часть проблем связана с производством в самом КС, в частности, с новой процедурой, появившейся в феврале 2011 года, с процедурой по ст. 471. Она применяется не слишком часто, буквально несколько десятков дел рассматривались по этой процедуре за прошедшие два года, смысл ее в следующем: если ранее КСом была высказана правовая позиция, которая должна быть лишь воспроизведена вновь, то не требуется открытого гласного слушания дел, достаточно получить отзывы всех лиц, участвующих в деле. Буквально, как только появилась эта процедура, почти сразу стало понятно ее, изначально присутствующая в ней, природой этой процедуры заложенная особенность, которая сильно ограничивает применение такой процедуры. Если Суд принимает решение о том, что он применяет эту процедуру, то, тем самым, он уже косвенно предопределяет итоговый вывод. Если он применяет процедуру ст. 471, значит, он заранее признает, что есть правовая позиция, которая подлежит применению в этом случае. Раз подлежит применению правовая позиция, значит, почти наверняка Суд применит эту позицию, признает НПА неконституционным. В результате представитель Президента, или другие представители государственных органов в КС, обычно возражают против применения письменной процедуры в тех случаях, когда они рассчитывают бороться за конституционность закона. Фактически письменная процедура оказывается применимой в ограниченных случаях, в связи с этим она, собственно, особого распространения не получает. При этом, последствия решения, принимаемого в такой процедуре, они аналогичны принятию Постановления КС, т.е. итогом принимается не Определение, а именно Постановление КС, и применив ранее высказанную правовую позицию, своим Постановлением КС признает неконституционном, фактически отменяет новый НПА, конституционность которого ранее не рассматривалась.
3 стадия. Соответственно, завершается все определенным решением, чаще всего итог решения – это Постановление КС. Чаще всего, сама процедура предполагает, что итоговое решение – Постановление. И только в определенных случаях, если уже в ходе рассмотрения, что бывает очень редко, если в ходе рассмотрения дела Суд придет к выводу, что дело не надо было принимать к рассмотрению, то в этом случае он может вынести Определение и прекратить производство по делу (таких случаев было 2-3 за всю историю существования КС).
Если уж дело попало в производство, то оно закончится Постановлением. Постановлением либо в пользу признания неконституционным, либо в пользу подтверждения конституционности.
С обственно,
один из главных вопросов, которые мы
должны обсудить в рамках этой темы –
решения КС. Про решения КС написано
очень много, в основном, в 90-е гг., после
появления КС, в литературе велись
активные дискуссии относительно того,
что же представляют собой его решения.
И Белов бы сказал, что наша доктрина КП
продемонстрировала в этом вопросе,
во-первых, абсолютное незнание мировой
практики и мировой доктрины конституционного
контроля, во-вторых, чрезвычайную
негибкость.
обственно,
один из главных вопросов, которые мы
должны обсудить в рамках этой темы –
решения КС. Про решения КС написано
очень много, в основном, в 90-е гг., после
появления КС, в литературе велись
активные дискуссии относительно того,
что же представляют собой его решения.
И Белов бы сказал, что наша доктрина КП
продемонстрировала в этом вопросе,
во-первых, абсолютное незнание мировой
практики и мировой доктрины конституционного
контроля, во-вторых, чрезвычайную
негибкость.
Все дискуссии, которые касались особенностей решения КС, они по сути сводились к тому, в какой именно из известных нам типов правовых актов можно «засунуть» решения КС.
На самом деле, решения КС плохо помещаются во все ранее известные классификации. До появления КС отечественная доктрина знала по сути дела 2 типа правовых актов: акты правотворчества и акты правоприменения. Они принципиально друг от друга отличались, причем, отличались по разным параметрам, в т.ч. по внешней форме, по содержанию, по тем полномочиям, которые имел орган, издающий эти акты, по тем полномочиям, которые реализовывались в процессе издания этих актов. Собственно, по самим органам, какое место правотворческие и правоприменительные органы занимают в общей системе органов государственной власти.
Решения судов традиционно признавались актами правоприменительными, потому что решения всех судов, кроме КС – это акты правоприменительные. Суть решения любого суда заключается в том, что суд применяет действующие НПА в конкретной ситуации. Он дает квалификацию определенного правоотношения, принимает решение о правах и обязанностях конкретных лиц, применяет абстрактные правила в конкретной ситуации.
Правотворческий орган устанавливает новые нормы. При этом к числу особенностей правотворческих актов обычно относилось и относится с т.з. формы этих актов отсутствие необходимости как-либо объяснять и мотивировать эти решения. Законодатель посчитал, что будет так, он так написал в законе и никому ничего объяснять не обязан.
Решения КС оказались ни тем и не другим. Они стали совмещать в себе свойства, особенности, характерные черты и правоприменительного, и правотворческого акта. От правоприменительного акта в решениях КС присутствовало, как минимум, форма – форма, характерная именно для судебного решения: вводная, описательная, мотивировочная и резолютивная часть, самая главная – мотивировочная. Суд объясняет, почему закон неконституционный.
Вопрос, на самом деле, зачем нужна мотивировочная часть, он не так прост, как может показаться на первый взгляд. Наверное, отчасти, просто – символ традиции. Судебное решение должно содержать мотивировку. Зачем содержит мотивировку решение КС? Могут быть разные объяснения. Для решения суда общей юрисдикции или арбитражного суда демонстрируются доводы, основания, в первую очередь, оценка доказательств, которая позволила сделать итоговый вывод для того чтобы 2 инстанция могла оценить обоснованность сделанных выводов. У КС нет 2 инстанции, он никому ничего не должен доказывать, он не должен доказывать, что его решения правильные, потому что оно априори так есть. Но, при этом, отчасти, в силу традиции сохранилась форма, которая может считаться необходимой в случае с КС как некий институт убеждения всех правоприменительных органов, законодателя, в том, что КС делает действительно обоснованный, а не произвольный вывод. КС, в отличие от законодателя, не может принимать решения так, как ему заблагорассудится. У него должны быть приведены достаточные доводы, аргументы в пользу принимаемого решения.
Но, при этом, вывод очень похож на тот вывод, который делает законодатель, но только со знаком минут. Эта характеристика, т.н. характеристика КС как «негативного законодателя», она получила широкое распространение в отечественной литературе. Многие писали о том, что КС по сути дела осуществляет правотворчество только со знаком минус. Многие решения КС были для этого достаточными доказательствами, потому что КС имеет дело с очень сложной материей, с принципами Конституции. Конституционные принципы чрезвычайно абстрактны, они требуют определенного и навыка, и определенного контекста их толкования, они требуют определенной квалификации, которой обладают, естественно, далеко не все практикующие юристы. КС, иногда толкуя конституционные принципы, делает выводы совершенно неожиданные для неквалифицированного и неподготовленного читателя его решений. Из-за этого, часто возникает вопрос, почему КС именно такое решение принял, просто потому что он так захотел? Просто потому что он решил, что можно именно так истолковать норму Конституции? Во многих решениях КС отсутствует последовательность и предсказуемость, вытекающая из большей определенности нормативных актов, применяемых другими правоприменительными органами. Соответственно, решения КС для многих оказываются почти произвольным толкованием. Подвести мотивировку можно, как мы понимаем, при должной сноровке под любое решение, именно так многие и оценивают практику КС.
То, что КС пытается следовать неким сложившимся в доктрине, в теории представлениям о конституционных принципах, сопоставлять понимание этих принципов с нормами международного права, это для многих остается, как минимум, не очень понятным.
Соответственно, те выводы, которые делает КС в отношении неконституционности закона для многих выглядит абсолютно произвольными решениями, принимаемыми по усмотрению самого КС. И для того чтобы убедить, что это не совсем так, а если и стараться, то совсем не так, КС вынужден излагать мотивировку своего решения. Практические последствия изложения мотивировки, объяснение причин, мотивов и оснований, которыми руководствуется КС, они помогают лучше понять, что же именно решил КС. Как именно, например, он истолковал положения Конституции. Это очень полезно для оценки в будущем подобных же ситуаций, для понимания содержания, смысла конституционных норм, для их последующего толкования и восприятия.
Соответственно, мотивировочная часть оказалась по разным причинам необходима КСу, но поскольку решение КС не совсем похоже на решение других судов, на решение других правоприменительных органов, то две основных позиции, сформулированные в отечественной литературе в 90-е гг., сошлись на главной проблеме - являются ли решении КС источником права?
При желании, можно порассуждать о том, что такое источник права, как можно понимать источник права, обязательно ли источник права должен быть результатом правотворчекой деятельности, каковы формы этого правотворчества.
Дискуссии в отечественной литературе велись на более примитивные темы, одни говорили: решение КС, оно применяет положение Конституции, значит, оно правоприменительное. Другие говорили, решение КС меняет содержание НПА, значит, как и любые другие акты, вносящие изменения в нормативное регулирование – это акты нормативные. Собственно, спор этот ничем не закончился, потому что каждый остался при своем мнении. Пи этом, те, кто пытался решения КС оценить как нормотворческие акты, они совершали еще одну ошибку. Многие пытались назвать решения КС прецедентом. Под определенным углом зрения решения КС действительно прецедент. Собственно, та норма закона о КС, норма о том, что аналогичные признанные неконституционными акты также утрачивают силу, по сути дела, позволяет распространить ранее высказанную позицию КС на новые ситуации, это в каком-то смысле создание прецедента, но это не прецедент в том классическом смысле, в том смысле, в которым теория права обычно оценивает прецедент как источник права, это не прецедент рассмотрения какого-то правоотношения, ввиду отсутствия полной нормы создание нового регулирования, исходя из особенностей конкретного дела.
Именно этого в решениях КС нет, кроме того, когда мы в начале этой темы обсуждали разные модели судебной охраны конституции, конституционного контроля, мы говорили о том, что кельзеновская модель и появилась потому, что в тех странах, где она понадобилась, не существовало прецедента, не существовало прецедентного права, все прецедентные механизмы не работали, поэтому потребовалось принятие решения об учреждении КС как особого суда, не как обычный суд действует КС, он находится на особом положении, у него специальные полномочия, специальная компетенция, особая процедура и особый характер решений.
То объяснение, которое Белов может предложить: Решения КС – это самостоятельное правовое явление, которое не может быть отнесено к известным ранее классификациям НПА, потому что в нем действительно сочетаются определенные элементы как акта правотворческого, так и акта правоприменительного решения.
Сама природа КС настолько особенна, настолько специфична, настолько КС отличается от других судов, а его решения от любых других судебных актов, в т.ч. судебного прецедента, что его вряд ли можно отнести к какому-либо уже известному типу правовых актов. Соответственно, решения КС – это отдельная, особая история.
При этом, то, что касается самих решений, то мы можем увидеть, что они отличаются по своей форме, в смысле - по видам, они отличаются по характеру тех вопросов, которые в них разрешены. Они отличаются по многим параметрам содержания юридического. Давая такую общую характеристику, мы говорим о самых значимых решениях – о Постановлениях.
Есть еще Заключения, но Заключения – это совершенно не актуально, потому что заключение выносится исключительно в случаях, когда КС оценивает соблюдения процедуры выдвижения импичмента против Президента, во всех остальных случаях КС выносит или Постановления, или Определения.
Итоговые решения должны называться Постановлениями.
Определения, в этом отношении, когда создавался закон о КС, то старались следовать в целом тем представлениям о судебных решениях вообще, о судебных процедурах вообще, собственно, в судах общей юрисдикции тоже самое - Определение – процессуальный документ, это документ, в котором оформляется решение по процессуальному вопросу.
В КС так и задумывалось, но получилось несколько иначе, потому что Определения, которые выносились с отказом в рассмотрении дела в КС, они оказались совершенно особенными и во многих случаях занимающими место итоговых актов КС. Эти Определения, во-первых, они породили определенный конфликт компетенции КС с другими судами. Во-вторых, они вызвали раздражение многих правоприменительных органов и законодателя, исходя из того, что КС использовал ненадлежащую форму для принятия решения по вопросам, которые входят в его компетенцию, но должны решаться иначе по процессуальной форме.
Первая проблема – проблема столкновений с компетенцией других судов – главным образом касалась Определений, которые никак специально не обозначались, но их можно отличить от других Определенный определенными словесными формулами, используемыми КС, в частности, такой словесной формулой может быть то, что КС или в мотивировочной, или в резолютивной части указывает на неправильное толкование примененного в конкретном деле НПА судом или иным правоприментельным органом.
Представим себе гражданина, который участвовал в каком-то судебной разбирательстве в суде общей юрисдикции, получил решение суда, решение суда, по его мнению, настолько несправедливо, настолько неконституционно, что явно оно должно быть признанно неконституционным. Но, при этом, для гражданина еще и достаточно очевидно, что суд неправильно применил закон. Закон, который должен был быть применен в конкретном деле, он был судом или истолкован неправильно, или применен не тот закон. В общем, была совершена ошибка в применении материального права. Гражданин будет обжаловать это решение суда в системе суда общей юрисдикции. Сначала он подаст во 2 инстанцию, если не получится – кассация, если не получится, то надзор. В итоге, гражданин может получить на всех этажах судебной системы подтверждение того, что это решение правильно, хотя и с т.з. здравого смысла, и с т.з. всех способов толкования закон был истолкован неверно. Гражданин с этим решением суда приходит в КС. И КС, увидев эту ситуацию, оказывается в сложном положении, с одной стороны, он видит, что в конкретном деле закон применен неконстиутцинно, т.е. последствия, к которым привело именно такое применение закона, оно явно нарушает конституционные права гражданина, но при этом КС видит, что проблема не в норме, что норма сама по себе подобных последствий не предусматривает, и что суд общей юрисдикции, пусть даже в трёх инстанциях, но он ошибся, он применил закон неправильно. КС в этом случае не может принять никакого решения, т.е. он гражданину ничем помочь не может. Потому что в его компетенцию не входит пересмотр судебных решений, в отличие от ФКС Германии, КС РФ оценивает только конституционность нормы. А такая оценка не позволяет оценивать конкретные условия конкретного применения закона. Соответственно, КС начинает изучать все материалы дела, начинает изучать практику, видит, что в других то решениях суды нормально, правильно применяют этот закон, и никакого массового нарушения прав нет. Что в этом случае делает КС? КС выносит Определение об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина, ссылаясь на то, что закон в его деле был применен неправильно, делает запятую, и дальше пишет, но пересмотр конкретного решения к компетенции КС не относится. Гражданин, получив решение на красивом бланке, с Гербом РФ, с надписью «Конституционный Суд Российской Федерации» берет это решение и идет в суд общей юрисдикции, говорит: видите, даже КС считает, что вы неправильно применили закон. Какая реакция в судах общей юрисдикции? А причем здесь КС? Мы применяем закон, это наше полномочие, это наша компетенция, почему КС указывает нам, как мы должны толковать закон? Это мнение КС, может оставить его при себе. Такие Определения, естественно, ничего кроме раздражения в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах по сути дела не порождают. КС вроде стремится помочь гражданам, одновременно оставаясь в пределах своих полномочий, но, при этом, результат, тот эффект, который производит его решение, скорее, обратный. И последствий в виде исправления ситуации и восстановления прав гражданина точно не возникает.
О таких определений КС не слишком много пишут в литературе, хотя, конечно, эта проблема затрагивается во многих публикациях, но почему то, именно эти случаи, они не вызвали столь широкого обсуждения как другая проблема – проблема, приведшая к появлению Определений с позитивным содержанием.
Белов должен нам рассказать об Определениях с позитивным содержанием, несмотря на то, что теперь их не существует. Их не существует, прежде всего, потому, что появилась процедура по ст. 471. Она была создана для того чтобы заменить Определения с позитивным содержанием.
Определения с позитивным содержанием появились в практике КС почти через 10 лет после его появления, появления самого КС, и представляли они собой Определения, в которых КС писал следующее: жалоба гражданина подана против конкретного нормативного акта, но нормативный акт аналогичный по содержанию ранее был признана неконституционным, те Постановления сохраняют свою силу, правовая позиция не пересмотрена КСом, следовательно, тот акт, который обжалует в данном случае заявитель – тоже неконституционен. КС тиражирует, лишний раз воспроизводит, вновь применяет ранее сформулированную правовую позицию. И для этих средств КС стал применять Определения с позитивным содержанием. Сначала они никак не обозначались, потом КС сам стал их выделять, сперва доктринально, потом у них появилась специальная нумерация. С 2007 года до 2011 года – 4 года в практике КС были Определения с разной нумерацией. Если до 2007 года все Определения нумеровались, например, Определение №333-О, то после 2007 года появилась тройная нумерация: №333-О-О (отказное определение); №333-О-П (определение с позитивным содержание); №333-О-Р (определения о разъяснении ранее вынесенного решения КС, причем, разъясняться могло как Определение, так и Постановление, но чаще разъяснялись Постановления).
Определение с позитивным содержание по последствиям, как считал сам КС, равны Постановлениям, потому что КС применяет ранее высказанные правовые позиции к новой ситуации, по сути дела, применяет ту норму закона об утрате силы актов, аналогичных признанным неконституционными. И соответственно, эта практика Определений с позитивным содержанием стала вызвать не меньшие раздражения, чем практика тех Определений, в которых КС указывает на неправильное толкование закона судами общей юрисдикции.
Определения с позитивным содержанием для нашей, чрезвычайно формализованной юридической среды, порождали, как минимум, проблему неопределенности последствий. Многие не были готовы считать, что КС может фактически своим решением, своей практикой создать новый тип решений, создать новую конструкцию Определений с позитивным содержанием, создать новый вид решений, аналогичных по юридической силе тем Постановлениям, в отношении которых закон прямо устанавливает, что Постановления, признающие закон неконституционным, влекут невозможность применения этого закона.
Собственно, если бы мы жили в прецедентной системе, то, наверное, это воспринималось бы проще. У нас все равно сознание остается строго формализованным. Если в законе написано, что признание закона неконституционным может быть сделано только Постановлением, значит, никаких Определений с позитивным содержанием быть не может. Так рассуждали многие суды, как впоследствии выяснилось, законодатель тоже испытывал определенную долю недовольства, связанного с практикой КС. Отсюда, собственно, и появилась процедура ст. 471. Потому что вместо Определений с позитивным содержанием, появились Постановления, выносимые в упрощенной процедуре. Ранее, КС мог бы тоже в каждом случае, когда он выносил Определение с позитивным содержанием, выносить новое Постановление, но это требовало значительных усилий, нужно было собрать открытое заседание КС с участием сторон, провести устные слушания, и, руководствуясь принципом процессуальной экономии, КС посчитал, что в этом нет особой необходимости. Законодатель учел те аргументы, те доводы, которыми руководствовался КС, но и посчитал, что другие суды имели основания считать, что такая практика ненормальна, что решение о признании закона неконституционным закона должно приниматься именно в форме Постановления, а не в форме Определения, хотя бы даже с позитивным содержанием.
Соответственно, Определений с позитивным содержанием фактически уже нет, но у той нормы, на которую мы сегодня столько раз ссылались, об утрате силы аналогичных неконституционному НПА, там есть еще одна проблема.
Проблема касается пределов полномочий иных органов, помимо самого КС по применению решений КС, по распространению действия этих решений на новые ситуации.
На самом деле, по этому поводу у самого КС есть разные позиции, с одной стороны, КС, особенно первое время, любил повторять, что его позиции связывают всех: и законодателя, и правоприменителя, с другой стороны, когда какой-то суд общей юрисдикции применил правовую позицию КС и не применил закон, ссылаясь на то, что он аналогичен тому закону, который ранее КСом был признан неконституционным, КС сказал: нет, этого вы делать не имеете права, это может делать только КС. Соответственно, возникает вопрос, насколько универсальна та норма, которая сформулирована в законе о КС, которая признает утратившими силу все акты, которые аналогично неконституционны, либо воспроизводят неконституционные положения. В законе по-прежнему нет четкого ответа на этот вопрос, и не совсем понятно, насколько в данном случае можно допускать распространение правовой позиции другими органами, помимо самого КС.
И во многом, эта проблема касается такого явления как правовая позиция КС.
Я вление
довольно интересное. До того, как появился
КС термина, понятия, словосочетания
«правовая позиция» в российском праве
не существовало. В законе «О КС РФ», в
его первоначальной редакции в 1994 году,
там впервые появилось это понятие,
понятие правовой позиции, и фигурировало
оно для целей определения условий
пересмотра ранее вынесенных решений в
новых обстоятельствах, в новой ситуации.
В законе было сказано, что если при
рассмотрении дела Палата КС считает,
что она должна пересмотреть ранее
высказанную правовую позицию КС, она
обязана передать дело в пленарное
заседание, и пленарное заседание обладает
исключительной компетенцией в таких
ситуациях. Что такое правовая позиция,
там не было разъяснено. И более нигде в
законе понятия правовой позиции не
фигурировало.
вление
довольно интересное. До того, как появился
КС термина, понятия, словосочетания
«правовая позиция» в российском праве
не существовало. В законе «О КС РФ», в
его первоначальной редакции в 1994 году,
там впервые появилось это понятие,
понятие правовой позиции, и фигурировало
оно для целей определения условий
пересмотра ранее вынесенных решений в
новых обстоятельствах, в новой ситуации.
В законе было сказано, что если при
рассмотрении дела Палата КС считает,
что она должна пересмотреть ранее
высказанную правовую позицию КС, она
обязана передать дело в пленарное
заседание, и пленарное заседание обладает
исключительной компетенцией в таких
ситуациях. Что такое правовая позиция,
там не было разъяснено. И более нигде в
законе понятия правовой позиции не
фигурировало.
КС активнее и активнее, начиная с 1997 года, начал использовать понятие правовой позиции в самых разных контекстах, в самых разных ситуациях, и довел, в итоге, использование этого понятия до одного из наиболее употребимых, наиболее часто встречающихся понятий в современном российском праве. Всего прошло меньше 20 лет, а понятие правовой позиции уже настолько укоренилось в сознании, что уже не только КС, но и ВАС, и даже уже есть некоторые попытки со стороны судов общей юрисдикции говорить о том, что они тоже создают правовые позиции.
Правовым позиция посвящено много исследований, в которых, собственно, исследователи пытались свойства, особенности этого нового явления. Сначала в 2003, потом в 2006 году была издана книжка Лазарева «Правовые позиции КС РФ», Белов ее рекомендует, потому что там содержится в обобщенном виде все те мнения, все те позиции, которые высказывались, начиная с начала 90-х гг. о понятии «правовая позиция КС». Кроме того, там содержатся содержательные правовые позиции, которые представляют собой некую выжимку, выдержку решений КС.
Весь этот анализ может быть сведен к тому, что, во-первых, правовая позиция КС есть явление до определенной степени независимое от решения КС. Правовая позиция содержится в решении, но может жить своей жизнью. Если, например, решение КС никогда и никем не может быть пересмотрено, то правовая позиция, как раз, может быть предметом пересмотра, если раньше закон на это прямо указывал, то теперь это просто подразумевается.
Правовая позиция очевидно имеет отношение и к той аргументации, которую приводит КС, и к толкованию КСом основных положений Конституции, в общем, так или иначе правовая позиция представляет собой некую юридическую квинтэссенцию решений КС. Правовая позиция, наверное, наиболее близка к тому, что можно было бы считать правотворчеством КС. Некоторые правовые позиции, их тоже можно классифицировать, но мы не будем углубляться. По сути дела, можно говорить, что в некоторых случаях правовая позиция сводится к определенной позиции в части оценки решений законодателя, а в каких то случаях более существенные, более важные, более глубокие, КС высказывает правовую позицию, выводя какие-то новые конституционные требования к законодателю, даже в некоторых случаях какие-то определенные новые конституционные принципы, или принципы в кавычках.
Если речь идет, например, о довольно обширной практике КС по части оценки актов о социальной защите, КС, например, сформулировал позицию, что законодатель должен поддерживать доверие граждан к государству, законодатель должен соблюдать стабильность правового регулирования, дабы для граждан была возможность адаптироваться к правовым условиям. В Конституции прямо это требование не содержится. Оно может быть выведено из некоторых положений путем их толкования, но именно это характеризует правовую позицию КС. КС впервые это сделал применительно к конкретному случаю, но впоследствии он стал воспроизводить правовую позицию, определенным образом ее тиражировать, определенным образом применять ее в иных или в похожих случаях, тем самым сделал ее универсальным правовым явлением, универсальным правилом, универсальными требованиями, которые будучи изначально выведены из Конституции, в настоящее время существуют в форме не слишком формально определенного явления правовых позиций КС.
Правовые позиции, наверное, ближе всего, определенным образом приближают решения КС к прецеденту. То, что Белов успел сказать про характеристику решения КС, показывает, что, по большому счету, эти решения не относятся к классическому прецеденту, но они в каком-то смысле представляют собой прецедент толкования Конституции, представляют собой выведенные из конституционных положений новые требования, новые доктрины, идеи, принципы, которым впоследствии КС будет сам следовать и требовать от законодателя, чтобы законодатель этим принципам тоже следовал. Фактически правовая позиция может рассматриваться как некий источник права. В общем-то, это несколько все упрощает, несколько огрубляет всю ситуацию, но, в любом случае, показывает значение правовой позиции.
Правовая позиция есть не что иное, как некое требование, которое формулирует КС и которое в дальнейшем развивается как судебная доктрина. Есть понятие судебной доктрины, у нас он не очень широко применяется, хотя в некоторых работах его можно встретить. Судебная доктрина – что-то вроде правовых позиций, судебная доктрины – те теоретические конструкции, которые на основании нормативных актов строят суды, которым суды впоследствии следуют своими практиками, но которые явно отличаются от тех формальных конструкциях, которые использует законодатель. Многие те институты, о которых мы раньше говорили, скажем, требование пропорциональности ограничения прав, не что иное как судебная доктрина, правда, возникшая много десятков лет назад, и не в России, а в Германии, но в любом случае, это требование, которое непосредственно в Конституции не было зафиксировано, но было сконструировано как некая новая идея, новый принцип, конструкция судами ,именно это можно обозначать понятием правовой позиции.
Последнее, о чем Белов нам должен рассказать – это соблюдение, исполнение решений КС. С решениями КС все не очень просто в части того, как они должны действовать. Начиная с того, как они должны исполняться. У нас должно возникать определенное недоумение относительно соблюдения и исполнения. Исполнение – традиционное свойство правоприменительного акта. Исполнить можно правоприменительное решение, напр., судебное. Соблюдение – то, что нельзя сделать с правоприменительным актом, то, что делают с нормативным актом. Поскольку решение КС наполовину акт правоприменительный, наполовину акт правотворческий – в отношении него требуется и исполнение, и соблюдение. Исполнение решений кс регламентировано ст. 80 ФКЗ «О КС РФ». Механизм сбивающий с толку, потому что в нем говорится об обязательности, о необходимости внесении изменений в те НПА, которые признаны неконституционными. Если КС провозгласил, что какая-то норма закона не соответствует Конституции, то на Правительстве лежит обязанность разработать законопроект, внести в ГД, ГД должна издать этот закон. Предполагается, что это должно быт обязательной процедурой. Если мы почитаем, например, в 2009 году сам КС распространил справку об исполнении его решений, мы увидим, что многие цифры, свидетельствующие о неисполнении решений, имеют ввиду то, что в нормативные акты не вносятся изменений. КС признал неконституционной норму закона, и законодатель никаких действий не предпринимает на протяжении нескольких лет. В этом случае КС говорит, что решение КС не исполняется. Но с т.з. свойств решений КС возникает вполне закономерный вопрос: а зачем? Зачем нужно вносить изменения в нормативный акт, если в силу прямого указания в ФКЗ о КС этот акт, признанный неконституционным, утрачивает силу и не подлежит применению. По сути дела речь идет о приведении в порядок массива. В некоторых случаях КС, признавая норму неконституционной, не указывает ,как ее надо поменять, и тут оставляет определенное усмотрение для законодателя, законодатель должен исправить по сути, но он остается свободен в выборе того, как именно он это сделает.
В этом случае, наверное, наиболее очевидна цель процедуры исполнения решения КС. Гораздо чаще в решении КС достаточно определенно, признав неконституционной какую-то норму, он ее исключает из числа применяемого нормативного материала. В этом случае требования об обязательном исполнении решения рискует исказить саму силу решения КС, потому что может возникнуть ощущение, что до тех пор, пока акт не будет изменен самим законодателем, он продолжает действовать. Иначе зачем вносить в него изменения.
Собственно, осознавая всю эту ситуацию, законодатель включил в ФКЗ о КС в одну статью механизм исполнения решений, в другой статье написал, что, независимо от исполнения, решение КС действует непосредственно и не требует утверждения иными государственными органами и должностными лицами. Если КС признал какую-то норму неконституционной, значит, она не может применяться, независимо от того, исключит ее законодатель из числа действующих, или нет. И в этом смысле решение КС имеет прямой нормативный эффект. Прямой нормативный эффект означает, что все правоприменительные органы, применяя законодательство, должны учитывать и применять решение КС. Здесь речь идет не об исполнении, а о соблюдении решений КС. Потому что в этом случае с ними происходит тоже самое, что и с НПА: им должны следовать, их должны учитывать, на них могут ссылаться в решениях суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Они должны использовать решения КС как часть действующего нормативного регулирования.
При этом КС не всегда строго следует тем полномочиям, которые определены ФКЗ «О КС РФ». КС, например, потихонечку присвоил себе право толкования закона. Это было сделано в достаточно вежливой форме, это было определенным образом заимствованное из зарубежной практики полномочие, которое вытекает из общего права на оценку конституционности закона.
КС, исходя из процессуальной экономии, стал осуществлять конституционное толкование закона, указывая на то, в какой части норма должна считаться конституционной, в какой части конституционной не может считаться. Это толкование в некоторых случаях трудно отличить от изменения закона. На взгляд Белова, самый яркий пример: в ГПК было написано, что правом на подачу кассационной жалобы на решение суда обладают лица, участвующие в деле. КС написал в своем Постановлении, что, помимо лиц, участвующих в деле, в конституционно-правовом истолковании, должна допускаться подача жалоб на судебные решения также иными лицами, чьи права и обязанности затронуты этим актом. Иначе получается, что третье лицо, которое не было привлечено к участию в деле, каким-то образом было затронуто судебным итоговым решением, а оспорить оно не имеет возможности.
Это решение, наверное, которое должен был принимать законодатель, потому что по сути дела в перечень тех, кто имеет право обжаловать решение, дописаны еще несколько позиций. Однако КС это сделал в рамках толкования соответствующего положения ст. ГПК.
Получается, что в таких случаях КС включает в свои решения определенные требования, носящие непосредственно нормативный характер. Законодатель должен их исполнять, но до тех пор, пока изменения в закон не внесены, их требуется соблюдать, и это должны делать суды общей юрисдикции и арбитражные суды.
Самое последнее – это действия решений КС. Довольно интересный вопрос: в зарубежной практике существуют разные походы. В одних государствах считают, что если закон признан неконституционным, то он признается неконституционным с самого его принятия, с момента, когда он был издан. Ведь тогда уже существовала Конституция, и с самого начала, по сути, закон ей противоречил.
Но во многих правопорядках, в т.ч. у нас, скорее, мы склонны к другому объяснению, к другому решению этого вопроса. Предполагается, что решение КС может действовать, условно говоря, с обратной силой. Ведь если закон действовал в течение нескольких лет, только потом был признан неконституционным, возможность применения ко всем ранее вынесенным решениям на основании этого закона, состоявшегося Постановления КС, по сути дела, предполагает обратную силу этого Постановления КС. Вот такая обратная сила, она некоторым образом ограничена, почему это сделано? Предполагается некий баланс. С одной стороны, нужно максимально обеспечить конституционность, потому что обеспечение конституционности – главная задача КС. Но, с другой стороны, нельзя создать слишком большую степень неопределенности в правовой системе. Если, применяя конкретном деле тот или иной закон, даже если граждане будут применять закон, но думать о том, что он впоследствии может быть признан неконституционным и на этом основании все договоренности, гражданско-правовые сделки, которые на нем были основаны, окажутся незаконными, то это сильно подорвет правовую определенность. Компромисс найден не совсем справедливый.
КС указывает на то, что должны пересматриваться те решения, которые, во-первых, касались непосредственно заявителей, тех, кто обратился в КС по этому делу, их решения безусловно подлежат пересмотру, но плюс к тому, еще подлежат пересмотру дела, по которым решение еще до конца не исполнено, и по которым можно произвести поворот исполнения. Иными словами, если решение суда, хотя и было вынесено на основании неконституционной нормы, но оно уже исполнено, то вопрос закрыт. Если же исполнение продолжается, то оно может быть пересмотрено в связи с тем, что примененный закон неконституционный. В этих ситуациях, конечно, КС опять же сталкивается с определенным непониманием со стороны судов общей юрисдикции, которые далеко не всегда готовы пересматривать свои решения, собственно, это касается не только решений КС, ЕСПЧ в той же самой степени, просто КС выносит гораздо больше решений.
Фактически речь идет о том, что, когда дело попадает в суд общей юрисдикции, суд заново, если не все материалы дела рассматривает, то пытается, по крайней мере, оценить все обстоятельства.
Белов рекомендует прочитать Определение 556-О-Р. Оно касается ситуации, когда было судом вынесено очень сомнительное решение с явным нарушением правил подсудности. В силу определенных (дело тёмное) причин, оно не было обжаловано ни во 2, ни в 3 инстанции, остался только надзор. Надзорный протест был принесен заместителем Председателя ВС без инициативы сторон. «Хакасэнерго» и др. участники этого процесса обратились в КС с требованием признать соответствующее положение ГПК неконституционным, потому что оно нарушает состязательность. Почему заместитель Председателя ВС, без всякой инициативы сторон, приносит протест по состоявшемуся судебному акты? Кс признал неконституционным это положение ГПК, а «Хакасэнерго» все равно отказали в пересмотре дела по существу. Потому, что, когда дело вернулось в ВС, ВС сказал: да, действительно, в данном случае процессуальная норма была применена неконституционная, но дело то по существу правильно, все равно, отменять этот акт надо было, потому что он все равно был вынесен с нарушение компетенции, следовательно, пересматривать ничего не будем. Хакасэнерго пришло снова в КС, и КС погладил по головке, сказал: вы правы, да, должны пересматривать, идите обратно.
Это Определение, в нем много доводов, почему нужно исполнять решения КС.
