
Материалы для изучения социологии / Основы социологии. Тексты для семинаров / Коррупция. Антрополог. подход. ЦНСИ
..pdf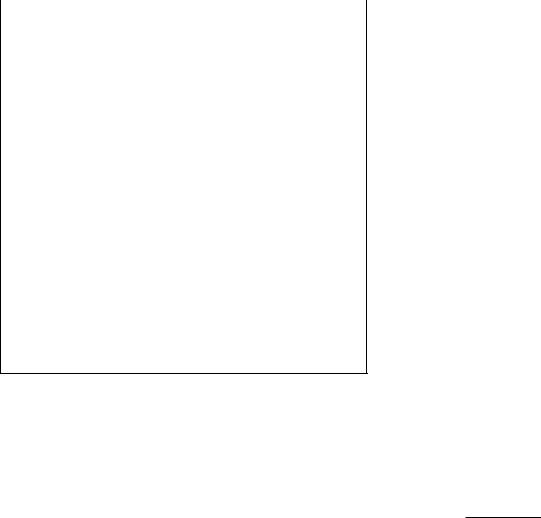
Табл. 2. Распределение выигрывающих от коррупции по группам и типу политических систем в слаборазвитых странах
Тип политической системы |
|
Получатели благ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые элиты |
Индивиды и группы, имеющие личные связи с власть имущими |
Бюрократы/Военные |
Партийные лидеры и кадры |
Избиратели или посредники избирателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
А. Бюрократическое/военное государ- |
x |
X |
X |
|
|
|
ство (напр., Таиланд) |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Б. Партийная несоревновательная |
x |
x |
x |
X |
|
|
система (напр., Гвинея) |
|
|||||
|
|
|
|
|
||
В. Партийная соревновательная систе- |
x |
X |
x |
X |
X |
|
ма (напр., Филиппины) |
||||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Большая «X» означает основных предполагаемых бенефициар иев коррупции в каждом типе политической системы, тогда как мале нькая «x» означает второстепенных бенефициариев. Общий уровень ко ррупции не отражен в таблице; в ней присутствует только распределени е бенефициариев на каждом из уровней. Так что вполне допустимо, что второстепенный бенефициарий в системе, где общий уровень коррупци и высок, может в действительности получить больше прибыли, чем осн овной бенефициарий в другой системе, с меньшим уровнем коррупции.
А) Там, где партии слабы или не существуют вовсе и где чиновники, возможно в союзе с военными, доминируют в политической системе, главными бенефициариями коррупци и становятся бюрократы (военные или гражданские) и финансовые элиты.
Эта модель находит отчетливую экспликацию в Таиланде, где правящая военная/бюрократическая элита избавлена он предвыборных волнений, а не-местническая коррупция кон - центрируется преимущественно вокруг платежей местных и иностранных бизнесменов, стремящихся обеспечить себе ли - цензии, снижение налогов, правительственные контракты и т.п. Согласно природе этой системы, главный политический
ресурс в правительстве — контроль над принудительной силой, а не над голосами. Существующее распределение имеет тенденцию все сильнее скреплять военно-гражданские клики между собой и не допускать отделения потенциально конкурирующих «ударных групп»1. Поскольку нет никакой системы выборов, основная масса клиентелы сосредотачива - ется рядом с теми, кто контролирует силовые структуры; нет нужды использовать средства бизнес-сообщества на укрепление предвыборной коалиции; также и законодательство «казенного пирога» не является решающим фактором.
Государственная система с доминирующей бюрократической/военной структурой и характерная для нее модель коррупции становятся все более распространенными, так как упадок политических партий при наличии мощного штаба офицеров и сильной централизованной бюрократии приводят как раз к их возникновению. Достаточно вспомнить хотя бы такие молодые государства как Пакистан, Индонезию, Ган у, Бирму и Дахомей, которые сегодня подпадают под такую клас - сификацию. В некоторых из этих стран, особенно в Бирме, экстенсивная национализация фактически вытеснила незав и- симую финансовую элиту, превратив коррупцию в преимущественно «домашнее» явление.
Б) Промежуточный случай — партийный режим без соревнования на выборах — встречается все реже. В качестве примеров приходят на ум Тунис, Танзания, Гвинея и Гана до переворота, хотя гибель многих подобных режимов в последнее десятилетие делают категорию как таковую достаточн о эфемерной2.
Характерная для этих режимов руководящая роль партии и попытка усилить ее означает, что лидеры партии и ее кадровый состав получают существенную долю дохода от каждого акта коррупции. Партия не только политизирует, как пр а- вило, многие решения, которые могли бы иначе восприниматься как административные вопросы; партии часто необхо -
1 Существенные изменения в характере состава тайского пра вительства происходят, когда удачливая «ударная группа» вытесняет п редыдущую правящую коалицию. Дискуссию по поводу этой модели см. в: Wilson, 1966.
2 Осторожную оценку силы и слабостей таких режимов в Африке см. у Zolberg, 1966.
44 |
45 |

дим значительный запас благ, способный путем распределения сплотить ее ряды и преодолеть центробежные силы этнического, семейного, регионального и т.п. характера. Многи е из этих благодеяний могут быть оказаны законным порядком; многие нет. В том случае, когда режим приближается по своей сути к индивидуальному политическому механизму (например, как в Гане до переворота), у коррупции больше шансов для распространения, нежели тогда, когда идеология (например, в Тунисе) тоже играет организующую роль.
Дальнейшая классификация таких режимов, влияющая на тип коррупции в каждом случае, связана с тем, насколько для режима характерен плебисцит. Можно ожидать, что доход от коррупции будет более широко распределяться там, где стре м- ление заручиться общественной поддержкой делает необхо - димым удовлетворение частных требований, чем там, где такая поддержка не требуется и не вознаграждается.
Наконец, я показал, что финансовая элита, по видимости, получит в рассматриваемом случае меньше дохода, чем при других двух типах режимов. Эта оценка в меньшей степени основывается на априорных основаниях, в большей же — на факте, что такие режимы обычно отдают предпочтение развитию государственного сектора в ущерб частному. При таких условиях размер и влиятельность неправительственны х финансовых элит существенно уменьшены.
В) Власть имущий (или претендент) в соревновательной электоральной системе, как было замечено выше, занимает положение крайне отличное от того, которое занимает обладатель власти в бюрократическом государстве. Тогда как у последнего нет особенных оснований распределять наград ы так, чтобы они поддерживали его связи с несколькими влиятельными группами, у первого есть сильное побуждение «наградить» лиц, контролирующих выборы, так как это может решительно повлиять на их исход. Зачастую поощрение может принимать и часто принимает форму программ локального развития, законодательства «казенного пирога» и зак онного патронажа1, но столь же типично и использование неза-
1 Многие программы развития, особенно направленные на отде льные сообщества, играют в молодых государствах важную роль в пре двыборной кампании правящей партии. Многие странности, смущающие на блюдателя,
конных стимулов. Последнее особенно характерно для мало развитых стран, где партикуляристские поощрения особенн о убедительны.
Чем оживленнее соревнование на выборах, тем больше вероятность усиления распределительных действий1. Выборы, как правило, имеют результатом «вс¸ или ничего», и неясность результата только повышает ставки; когда скачки при - ближаются к финишу, значимость дополнительного доллара осознается все отчетливее (Heard, 1960: 68). Доступ финансовых элит к влиянию в такой ситуации — как коррумпированному, так и законному — практически гарантирован, поскольку партиям и кандидатам необходимо пополнять фонды для ведения предвыборных кампаний. В получаемом треугольнике взаимоотношений политик выступает в роли посредника, который в ответ на помощь финансовых элит проводит их политическую линию и который отдает часть полу- чаемых средств электорату, у которого он «берет в аренду» свою властную должность. Эти взаимодействия могут вклю- чать или не включать коррупционные формы2.
Замечательный пример коррупции в условиях выборной соревновательности мы видим на Филиппинах. Расходы на предвыборную кампанию здесь самые высокие в мире по отношению к среднедушевому доходу населения (1,6% — 1967) и составляют 13% от государственного бюджета (Wurfel, 1963: 761). Реалистичный подсчет должен включить также огромные средства «казенного пирога», используемые в пред-
который воспринимает эти шаги как реальные попытки подня ть экономи- ческую эффективность, исчезнут, если рассматривать их пре жде всего как попытку построить эффективную предвыборную машину на па ртикуляристской основе. Один проницательный аналитик, говоря об инд онезийской программе национализации в период процветания партийно й системы, заключает: «В целом, их меры по индонезианизации потерпели пр овал в смысле усиления позиции индонезийских национальных фирм в экон омике; этот факт позволяет предположить, что функция патронажа была д ля этих мер существеннее, чем политический аспект» (Feith, 1962: 557).
1 Конечно же, система пропорционального представительств а снижает давящую силу поощрений.
2 Партия власти имеет существенное преимущество в том, что может использовать государственную казну, чтобы подкупить час ть электората, и часто делает это вполне законно. Партии-аутсайдеры, даже е сли обеспечат себе финансовую поддержку, вынуждены прибегать к простом у взяточни- честву, так как обещания в их ситуации редко адекватны.
46 |
47 |

выборных целях (400000 песо на сенатора; 200000 на конгрессмена), и выплаты для 10–20% избирателей, которые реально продают свой голос (Wurfel, 1963: 763). Вурфел дает живое описание процесса перераспределения:
«Для кандидатов в президенты, вице-президенты и сенаторы возрастающая доля всех затрат, теперь практически половина всех расходов, приходится на выплаты местным группам и индивидам, а также «лидерам» кандидатов, то есть верным конгрессменам, губернаторам и мэрам. Впрочем, благодаря конгрессменам, губернаторам и мэрам более двух тре - тей поощрений уходит к их заместителям, т.е. мэрам, муниципальным советникам, в их округа или к деревенским главам, к их друзьям, родственникам и другим возможным сторонникам» (Wurfel, 1963: 761–762).
Значение этого фильтрующего эффекта можно оценить по тому, что рядовой работник в обмен на голос получает эквивалент своего месячного дохода (Wurfel, 1963: 769). Финансовые элиты предоставляют (открыто и тайно) большую часть предвыборных средств, зная, что удовлетворение крат - косрочных материальных запросов бедного электората ста - новится ценой продолжения той политики, которая позволяе т процветать их экономическим предприятиям. Соединения высоко соревновательных выборов, сильной экономической элиты, не связанной с правительством, и электората, которы й уже не лоялен автоматически к своим властям, но еще не выработал достаточно крепких горизонтальных, классовых или профессиональных привязанностей, делают Филиппины своего рода образцом коррупции с выборной основой1.
3. Сплоченность и безопасность элиты
Уже давно признана связь между надежностью механизма аренды и эксплуатацией официального поста. Продажа должностей в 17 веке признавалась более благоразумной, чем их сдача в аренду, поскольку покупатель как бы получает долю в долгосрочном предприятии. Арендатор же, напротив, стремится выжать из своей позиции все возможное в течение
1 Можно назвать и другие государства с похожими чертами: эт о Ливан, Малайзия, Цейлон, Чили, Уругвай и отдельные части Индии. Отл ичия, по большей части, связаны или с менее интенсивной выборной к онкуренцией, или с более сильными идеологическими предпочтениями у эл ектората.
выделенного ему ограниченного периода времени, не задумы - ваясь о долгосрочных эффектах. Городские политические си - стемы в США начала века демонстрируют похожие различия в использовании должностей. С одной стороны, дезорганизованность и неустойчивость чикагской системы привела к та - кому свирепому хаосу, что, согласно Стеффенсу, бизнесмены «пошли в городской Совет, чтобы свести разгул шантажа к благопристойному и систематическому взяточничеству» (Steffens, 1963: 165). Ясно, что хаос достиг таких масштабов, что напугал «гусыню, несущую золотые яйца». Напротив, система Ашбриджа в Филадельфии была настолько прочна и централизована, что могла эффективно контролировать и на - правлять коррупцию, защищая свои долгосрочные интересы (Steffens, 1963: 152.)1. Представляя себе больший временной горизонт, система Ашбриджа заботилась и о здоровье гусыни . Скрытая аналогия с экономическим предприятием вполне уместна в этом контексте. Городские политические механиз - мы в США рассматривались как бизнес предприятия (Banfield and Wilson, 1965: 115), а на Филиппинах партийный лидер однажды сравнил либеральную партию с корпорацией, где все члены — держатели акций, а дивиденды выплачиваются в зависимости от того, кто сколько вложил2. Нельзя ожидать от благоразумного бизнесмена стремления к долгосрочным выгод ам там, где преобладают нестабильность и неопределенность, в этом случае он скорее будет инвестировать в краткосрочные ком - мерческие сделки и поддерживать высокую ликвидность — чт о, собственно, и делают многие в развивающихся странах. Поли - тические предприниматели действуют в очень похожей мане - ре. Когда их пребывание в должности не обещает быть долгим и кажется ненадежным, они стремятся к быстрым выгодам; ког да их положение относительно стабильно и долгосрочно, им цел е- сообразнее сохранить экономическую базу и максимизиров ать прибыль «на весь период поездки»3. Внимание к долгосрочным выгодам сильно зависит от сплоченности или централизова н-
1 См. также McKitrick, 1957.
2 Бывший лидер либеральной партии Jose Avelino «The Manila Chronicle», January 18, 1949, цит. в: Baterina, 1955: 79.
3 Конечно, нужно иметь в виду, что стабильная система, с ее модернизацией и долгосрочной перспективой, может в действительнос ти сделать более стабильными и коррупционные соглашения.
48 |
49 |

ности политической элиты. Коррупция скорее будет более ма с- штабной и хаотичной там, где неконтролируемые коалиционные партии или бюрократические группировки делят власть в период нестабильности, чем там, где политическая элита пр едставляет более эффективную иерархию.
Суммарное влияние сплоченности элиты, надежности и выборной соревновательности на образцы коррупции в развивающихся странах показано ниже в Табл. 3. Хотя при рассмотрении лишь двух дихотомических вариантов упускаетс я множество существенных вариаций, выделенные черты близки определенным эмпирическим моделям во многих развивающихся странах.
Стабильность и сплоченность элиты представляются важными независимо от существования выборной соревновател ь- ности. В Индонезии коалиционный характер кабинета министров до 1958 г. и ненадежная опора парламентской системы привели, в значительной степени, к анархичным моделям коррупции. Внутри таких кабинетов миноритарные партии — особенно те, у которых есть основание считать это, возможн о, своим последним шансом во власти — выступали «главными оппортунистами» (Feith, 1962: 422). Долгосрочные эффекты такой обстановки становятся хорошо понятны из популярного рассказа того периода:
В 1957 г. я услышал следующую историю. Китайский торговец из Менадо (Северный Целебес) рассказал другу в Джакарте о своем намерении вернуться в Менадо. «Но почему? Я слышал, что ты уехал оттуда после революции, потому что здесь ты мог лучше поставить свое дело?» «Да, в те дни. Но теперь ты знаешь, как это бывает… Здесь в Джакарте мне нужно заплатить пяти чиновникам, чтобы получить лицензию, а в Менадо достаточно дать взятку одному лейтенанту» (Wertheim, 1965: 127).
Напротив, до недавнего времени относительно стабильное электоральное большинство у Партии Конгресса в Индии, похоже, приводило к более умеренной и упорядоченной коррупции1. Подобное различие между хаотичной коррупцией и
1 О «хорошо смазанной» политической машине см., например: «Rep ort of the Commission of Inquiry [into allegations against S. Partap Singh Kairon, Chief Minister of the Panjab] (New Delhi: Home Ministry, June 11, 1964).
Табл. 3. Варианты моделей коррупции в связи с характеристиками политической системы в развивающихся странах1
|
Выборная соревнова- |
Незначительная или |
|
тельность |
отсутствующая |
|
|
выборная соревнова- |
|
|
тельность |
|
|
|
Политическая |
Умеренный уровень |
Умеренный уровень |
элита относи- |
коррупции; коррупция |
коррупции; коррупция |
тельно стабиль- |
относительно высоко |
относительно высоко |
на и сплочена |
организована и пред- |
организована и |
|
сказуема; некоторое |
предсказуема; мало |
|
распределение «внизу» |
распределения «внизу» |
|
(напр., Индия. Малай- |
(напр., Пакистан) |
|
çèÿ) |
|
|
|
|
Политическая |
Высокий уровень |
Высокий уровень |
элита относи- |
коррупции; коррупция |
коррупции; коррупция |
тельно неста- |
относительно раздроб- |
относительно раздроб- |
бильна и |
лена и непредсказуема; |
лена и непредсказуе- |
раздроблена |
некоторое распределе- |
ма; мало распределе- |
|
ние «внизу» (напр., |
ния «внизу» (напр., |
|
Индонезия до 1958, |
Южный Вьетнам |
|
Филиппины) |
после Диема) |
|
|
|
более упорядоченными договоренностями, но в зависимости от наличия/отсутствия выборной соревновательности мы видим соответственно в Южном Вьетнаме и Пакистане. Относительная стабильность режима генерала Аюб Хана пре - дотвратила анархическую коррупцию, которая характерна д ля слабых, раздробленных политических режимов Сайгона2.
1 Если бы наша таблица не состояла из четырех ячеек, а протяг ивалась бы в двух измерениях, возможны были бы и более тонкие разгр аничения; например, между большей электоральной соревновательнос тью на Филиппинах, сравнительно с Малайзией и даже с Индонезией до 1958 го да. Таблица также исходит из того, что выборы сами по себе не имеют влияния на уровень коррупции. В отношении партикуляристского элект ората, для которого распределение поощрений важнее, чем принципы поря дочности, эта установка кажется вполне приемлемой.
2 Некоторые сомневаются в целесообразности использования здесь примера Южного Вьетнама из-за сильной военной поддержки и со циальной дезорганизации, которые, по причине войны, делают Вьетнам случаем особым. Тем не менее, нестабильность режима производит незав исимый эффект, поверх этих факторов. Режим Диема в более стабильные дни, скажем, в 1956 г. принес определенную предсказуемость, пусть и огр аниченную, но недоступную современным военным группировкам.
50 |
51 |

В заключение следует задать о коррупции тот же вопрос, который обычно задают о любом другом политическом процессе: кто, что и как получает от коррупции? Анализ коррупции как процесса политического влияния, особенно в случае с менее развитыми странами, обещает существенно изменить не только изучение самой коррупции, но также подходы к анализу исходных «результатов» реализации политики.
Вопрос о том, присутствуют ли элементы коррупции в различных моделях политического влияния зависит, как был о показано, от многих структурных и правовых особенностей политической системы. Соблюдение жестких административ - ных принципов, рост государственного сектора и центральн ая роль бюрократических элит в принятии ключевых решений — все это сужает легальные возможности влияния на формирование политики. Модели влияния, которые могли бы найти законные способы выражения в условиях работающей партий - ной системы, в большинстве развивающихся стран сводятся к использованию методов, нарушающих формальные стандарты общественного поведения. Более пристальное изучение возможностей политического влияния, легитимированных и ли запрещенных в определенный период времени вследствие изменения общественных норм и политической структуры, еще более определенно помещает изучение коррупции в контекст политического развития.
Коррупция, представляя собой важное средство воздействия на политику на стадии ее реализации, может приводить к серьезным изменениям в общем процессе формирования государственной политики. Таким образом, фокусирование исключительно на законодательном процессе рискует серь - езно искажать реальную модель политического влияния там , где воздействие на исполнительном уровне принимает внушительные масштабы. В менее развитых странах определенное число групп, лишенных возможности открытого влияния по различным причинам, тем не менее, посредством коррупции участвуют в конечных результатах политики. Таким образом, любая попытка точно оценить распределение влияния внутри политической системы определенно должна учи- тывать давление как в течение законодательного процесса , так и на фазе исполнения принятого закона.
Попытки определения эмпирически, кто и что получает от
коррупции, в значительной мере зависят как от характера политической системы, так и от характера политической эли - ты. В этом контексте мы рассмотрели три наиболее важные переменные (соотношение «рыночной» и «местнической» коррупции; уровень стабильности и безопасности политиче с- кой элиты; присутствие или отсутствие электорального соревнования) и предположили, каким является их вероятное воздействие на характер, уровень и распределение коррупц и- онного дохода. Очевидно, что невозможно определить эффект коррупции на политическую интеграцию, распределение доходов или экономический рост без того, чтобы сначала выяс - нить, кому, каким образом и какой вариант коррупции выгоден. А поскольку образцы получения выгоды зависят, в свою очередь, от типа политической системы, она должна стать об ъектом подробного изучения.
Частые переходы от партийной выборной модели к военным/бюрократическим режимам, характерные в последнее десятилетие для молодых государств, демонстрируют нам соответственное изменение коррупционных моделей. У новых режимов, в противоположность предыдущим, необходимость широкого распределения поощрений не столь велика. Не встречая никакого электорального давления, коррупция по большей части концентрируется вокруг консолидирован - ных группировок, в центре которых оказываются командующие вооруженными силами. В ряде случаев правящие верхушки, имеющие надежную позицию, упорядочивают коррупцию, налагают на нее определенные ограничения; в случаях с менее стабильными правителями, преобладают более гоббсовские варианты. В любом случае, как в стабильном, так и нестабильном варианте, военный/бюрократический вариант коррупции, по-видимому, становится всеобщей моделью1.
1 Я крайне благодарен Эдварду Фридману, Фреду Хейворду и Кр офорду Янгу за их подробные комментарии к предыдущей версии этой статьи.
52 |
53 |
Литература
Banfield, Edward C. and Wilson, James Q. (1965) City Politics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Baterina, Virginia F. (1955) A Study of Money in Elections in the Philippines // Philippine Social Sciences and Humanities Review. Part I, XX, 1 (March). P. 39–86. Part II, XX, 2 (June). P. 137–212.
Feith, Herbert (1962) The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
Greenstone, J. David (1966) Corruption and Self Interest in Kampala and Nairobi // Comparative Study in Society and History, VIII (January). P. 199–210.
Greenstone, J. David (1966) Corruption and Self-interest in Kampala and Nairobi // Comparative Studies in Society and History, VIII, 2 (January). P. 199–210.
Harrison, J.F.C. ed. (1965) Society and Politics in England: 1780– 1960. New York: Harper.
Heard, Alexander (1960) The Costs of Democracy. Chapel Hill, North Carolina: University of North Carolina Press.
Hofstadter, Richard (1955) The Age of Reform. New York: Random house.
Huntington, Samuel P. (1967) Political Development and Political decay. In: Welch, Claude E., Jr. ed. Political Modernization: A Reader in Comparative Political Change. P. 207–241.
Key,V.O. (1936) The Techniques of political Graft in the United States. Chicago: University of Chicago Libraries.
Leys, Colin (1965) What is the Problem about Corruption? // Journal of Modern African Studies, 3, 2. P. 215–230.
Mayes, Charles R. (1957) The Sale of Peerages in Early Stuart England // The Journal of Modern History, XXIX, 1 (March). P. 21–35.
McKitrick, Eric L. (1957) The Study of Corruption // Political Science Quarterly, 72, 4 (October). P. 502–514.
McMullan, M. (1961) A Theory of Corruption // The Sociological Review (Keele), 9 (July). P. 132–152.
Monteiro, John B. (1966) Corruption: Control of Maladministrtion. Bombay : Manaktalas. P. 20.
Nye, J.S. (1967) Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis // American political Science Review, LXI, 2 (June). P. 417–427.
Riggs, Fred W. (1966) Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Policy. Honolulu: East-West Center Press.
Santhanam, K. (1964) Report of the Committee on prevention of Corruption. Delhi: Government of India, Ministry of Home Affairs.
Skinner, G. William (1958) Leadership and Power in the Chinese Community of Thailand. Ithaca: Cornell University Press.
Somjee, A.H. and G. (1963) India. In: Rose, Richard and Heidenheimer, Arnold J., eds. Comparative Studies in Political Finance // A Symposium, Journal of Politics, 25, 4 (November). P. 686–702.
Soukup, James R. (1963) Japan. In: Rose, Richard and Heidenheimer, Arnold J., eds. Comparative Studies in Political Finance // A Symposium, Journal of Politics, 25, 4 (November). P.737–756.
Steffens, Lincoln (1963) The Shame of the Cities. New York: Hill and Wang.
Swart, K.W. (1949) Sale of Offices in the Seventeenth Century The Hague: Martinus Nijhoff.
Tilman, Robert (1967) Administration, Development, and Corruption: The Emergence of Black-Market Bureaucracy. A paper presented to the Southern Political Science Association annual meeting, November.
Wade, John (1820) The Black Book. London.
Wertheim, W.F. (1965) East-West Parallels: Sociological Approaches to Modern Asia. Chicago: Quadrangle Boks.
Wiener, Myron (1962) The Politics of Scarcity. Chicago: University of Chicago Press.
Wilson , James A. (1966) Politis in Thailand. Ithaca: Cornell University Press.
Wraith, Ronald and Simpkins, Edgar (1963) Corruption in Developing Countries. London: Allen and Unwin.
Wurfel, David (1963) The PhliCines. In: Rose, Richard and Heidenheimer, Arnold J., eds. Comparative Studies in Political Finance // A Symposium, Journal of Politics, 25, 4 (November). P. 757–773.
Zolberg, Aristide R. (1966) Creating Political Order: The Party States of West Africa. Chicago: Rand McNally.
Перевод М. Сергеева
54

ФЕНОМЕН КОРРУПЦИИ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ*
Тон Кристин Сиссенер
«Возможно, с позиции законодательства корректно утверждение, что персональные отношения, устанавливаемые между государственными служащими и людьми, с которыми они имеют дело, говорят о коррумпированности общества; но эта точка зрения упускает из виду, что такие отношения просто отражают различ- ные социальные и моральные нормы [общества]»
Вито Танци, 1995
Введение
В последние несколько лет наблюдается рост внимания к проблемам коррупции, в особенности со стороны Мирового Банка, Международного валютного фонда, различных НГО, стран доноров, а также академической среды. В 1990-х годах департаментами правительств, международными финансовыми организациями и транснациональными политическими объединениями было опубликовано большое количество политических заявлений, в которых подчеркиваются негативные эффекты коррупции. Коррумпированность правительственных чиновников — далеко не новый феномен; упоминания о подобных отношениях встречаются еще в древнеиндийском трактате Артхашастра1. Тем не менее, именно сегодня
* Tone Cristin Sissener Anthropological Perspectives on Corruption. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights WP 2001:5 ISSN 0804-3639 ISBN 82-90584-85-7.
1 Артхашастра — трактат о политике и искусстве государственного управления; написан индийским ученым Каутильей, разработав шим концепцию управления государством; датируется началом первого тысячелетия н.э. (Ruud 1998). На русском языке труд опубликован в 1993 году: Артхашастра или «Наука Политики». Пер. с санскрита. Подг. В.И. Каль янов. — Москва: Научно-исследовательский центр «Ладомир», «Наука ».Прим( . ред.).
коррупция стала рассматриваться как главное препятстви е на пути социального и экономического роста развивающихс я стран. Несмотря на аргументы, демонстрирующие позитивные эффекты коррупции, доминирующей и наиболее распространенной остается позиция, порицающая это явление (Theobald, 1990). Поэтому нужно подчеркнуть, что для разработки эффективной программы антикоррупционных мер в раз - вивающихся странах необходимо изучать природу, характер истики, образцы и внутреннюю структуру этого феномена.
В области изучения коррупции сегодня лидируют экономисты и политики (Price, 1999). Дебаты по поводу подходов к пониманию данного феномена еще продолжаются, однако можно сказать, что наиболее распространенным и доминирующим на сегодняшний день является определение коррупции как «использования служебного положения для извлече - ния личной выгоды»1 (Amundsen, 1999, Gray and Kaufmann, 1998, Rose-Ackerman, 1996, Zakiuddin, 1998). Как видно, это определение основано на идее существования публичной сферы, четко отграниченной от сферы приватной. Вопрос состоит в том, насколько данное определение, опирающееся на веберовскую модель рациональной бюрократии, применимо к незападным обществам.
Цель настоящего эссе — показать, что конвенциональное определение коррупции предлагает слишком узкое понимание предмета и делает чрезмерный акцент на незаконности коррупционных практик. Я доказываю, что субъективная оцен ка людьми собственных действий отнюдь не всегда основывает - ся на некой совокупности универсальных и неизменных куль - турных норм, позволяющих квалифицировать те или иные практики и отношения как коррупционные. Скорее, представления о том, что является коррупцией, различаются в зависи - мости от социального и культурного контекста. Если мы исходим из постулата о существовании таких различий, то необходимо изучать, как сами действующие индивиды оценивают определенные социальные практики.
1 К сожалению, российский аналог этого определения не перед ает противопоставления «публичного» и «приватного», очевидные дл я англоязычной формулировки: «the abuse of public office for private gain». (Прим. перевод- чика).
56 |
57 |

В данном эссе предпринимается попытка поместить парадигму легально-рационального господства, лежащую в основе веберовского понимания рациональной бюрократии, в раз - личные социальные и исторические контексты с тем, чтобы показать ограниченность выше упомянутого определения к оррупции. Рассматривая некоторые антропологические метод ы и подходы, я продемонстрирую, что их применение к анализу феномена коррупции может значительно расширить наше понимание данного явления.
Анализ социо-культурной логики, определяющей повседневные практики людей, позволяет показать, что коррупция может и должна рассматриваться как неоднозначный, сложный феномен — по причине различий, существующих в социальном опыте и культурных ценностях разных обществ и сред.
МОДЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНОЙ
БЮРОКРАТИИ ВЕБЕРА
Легально-рациональная модель господства и соответствующая ей рациональная форма бюрократии имеют многолетнюю традицию в европейских странах. Хандельман полагает, что «идея бюрократической организации вряд ли может считаться изобретением западной социальной науки» (Handelman, 1981:6). Он пытается показать, что «возможно, существует логическая связь между идеей о таксономической органи - зации, появившейся в 17 веке, и веберовским пониманием современной бюрократической организации»1 (Handelman, 1981: 9). Хандельман видит определенную преемственность между ранними организационными принципами, существовав - шими на Западе, и эволюцией бюрократической организации (Handelman, 1981: 12). Это не означает, что бюрократический порядок просто отражает устройство общества2. Бюрократи- ческий порядок, утвердившийся в западных обществах, должен рассматриваться как результат исторических событий ,
1 «Таксономия» означает классификацию; таким образом, идея организационного принципа основывается на классификационной системе.
2 Это ясно видно из следующей цитаты: «На Западе человек нач инает замечать, что идея бюрократической организации отличает ся от его [субъективного] восприятия повседневного опыта…» (Handelman, 1981:14)
формировавших и изменявших идею рациональной бюрократической организации. Как минимум до середины 19 века в большинстве западных обществ «учреждение» или «офис» рассматривались как частная собственность. Этот факт демонстрирует динамику представлений о легально-рационал ь- ном принципе в самой Европе. В этой связи Скотт пишет: «Административный контроль, известный сегодня, был бы невозможен без развития имевшего место в конце 19 века процесса отчетности правительства перед более широкими пре д- ставительскими органами законодательной власти» (Scott, 1969: 316).
Согласно Скотту, развивающиеся нации «в большинстве своем переняли свод законов и регулирующих правил, сформировавшихся и нашедших отражение в долгой политической борьбе за реформы на Западе» (Scott, 1969: 319). Эта точка зрения совпадает с мнением Оливер де Сардана, который пишет об Африке, что «функционирование административного аппарата [здесь] в точности скопировано с европей - ских образцов <…> Законы, функционирование аппарата и [организация] бюджета — абсолютно западные» (Olivier de Sardan 1999: 47). Тем не менее, простое перенесение в иной контекст бюрократических административных образцов совсем не обязательно означает установление сопутствующи х бюрократических ценностей и практик.
В отличие от Западной Европы, логика бюрократической организации в других обществах может совершенно не соответствовать доминирующей социо-культурной логике. В Англии разработка политических и бюрократических правил и норм стала результатом длительного процесса, в то время как в Африке и Южной Азии существующая система законов в значительной степени основывается на колониальном наследии. В результате функционирование административного аппарата, заимствованного из Европы, принимает формы «шизофренического типа» (Olivier de Sardan, 1999: 47). Более того, колониальные законы, смешиваясь с чуждыми им правилами, существовавшими в этих обществах до колонизации, образуют противоречивые, конфликтогенные нормы. Так, Коэн сообщает, что в Нигерии «африканцы научились жить и действовать в рамках такой бюрократической системы, для которой незаконность является нормой» (Cohen, 1980: 81).
58 |
59 |

Новые правила и политические нормы колонизаторов оказались малоприменимыми (если вообще применимыми) к реалиям колонизованных сообществ. Кроме того, принципы организации работы государственной службы, установленные, ск а- жем, британскими колонизаторами, по ряду причин отлича- лись от принципов, в соответствие с которыми те же службы работали в самой Великобритании. Неэффективность, недоверие и недовольство, вызванные конфликтом сверх-цен - трализованной логики бюрократической системы и локальными социо-культурными логиками, стали частью норм и культуры государственной службы в Нигерии задолго до того, как африканцы получили независимость и возможность самоуправления. От прежней системы они унаследовали неподходящий, несовместимый с местными условиями стиль управления колониальной администрации (Cohen, 1980:81).
ОПРЕДЕЛЯЯ КОРРУПЦИЮ:
КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
ÂСОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ
Âполитических науках концепция государственного уч- реждения находится под сильным влиянием выделенного Максом Вебером идеального типа легально-рациональной бюрократии. Парадигма рациональной бюрократии является ключевым моментом в определении коррупции как феномена, не признающего разграничения приватной и публичной сфер. Однако эта точка зрения на коррупцию не единственная, и неоднократно подвергалась критике.
Во-первых, как особо подчеркивается рядом ученых, «государственное учреждение» — это концепция западного проис - хождения. Так, например, Вуд пишет: «не следует исходить из предположения, что эта [«веберианская»] рациональность ап - риори является или может стать нормой для [любого] общества» (Wood, 1994: 520). Прайс показывает на примере Индии, что «государственный служащий находится под влиянием и давлением со стороны множества факторов, которые никак не отражены в официальных правилах и инструкциях <…> Мы можем наблюдать существование конкурирующих кодов, что становится причиной противостояния бюрократи - ческим нормам, широко распространенного в различных сфе-
рах жизни индийского общества» (Price, 1999: 318). Рууд утверждает, что «оставаться самим собой и совсем не принимать во внимание неформальные порядки — недостижимый идеал; если и не всегда, то по крайней мере в некоторых ситуациях жителям бенгальских деревень важнее не потерять доверие друзей» (Ruud, 1998: 4).
Во-вторых, законные процедуры не являются наиболее рациональными per se. Мирдал (Myrdal, 1968) проводит разли- чие между «действительными» правилами бюрократического поведения и «официальными» правилами и полагает, что первые могут быть более «инновативными» и в большей степени соответствовать конкретным условиям. Хотя принято счи - тать, что коррупция ведет в основном к негативным последствиям, некоторые полагают, что у коррупции есть и позитив - ный эффект: она «очеловечивает», гуманизирует работу бюрократии (Ward, 1989)1.
Формулирование такого определения коррупции, которое подходило бы для целей сравнительного анализа, представл я- ется крайне сложной задачей. Традиционное юридическое оп - ределение апеллирует к нарушению закона. Этот подход порождает ряд проблем. Во-первых, это ведет к формулированию правил и законов, запрещающих коррупционное поведение, и, как следствие, к тому, что действиям, не подпадающим под такие законы (в том числе под правила, регулирующие разделение между приватным и публичным) внимание не уделяется. Во-вторых, законодательные коды различаются от страны к стране, и мнения о легальности тех или иных действий также различаются. В-третьих, юридический подход базируется на предположении, что законодательство являе т- ся естественным, объективным и независимым от политики (Williams, 1999). Однако стоит заметить, что коррупционная деятельность не является объективной формой практики, су - ществующей в вакууме. Это социальное действие, которое должно рассматриваться в связи с социальными отношениями между людьми и в определенном историческом контексте. Определенное социальное взаимодействие может сегод - ня оказаться законным, а завтра — незаконным, в зависимости от социального контекста.
1 Дискуссию о позитивных эффектах коррупции см. также: Theobald, 1990.
60 |
61 |
Для того чтобы понять, как следует концептуализировать феномен коррупции, нам необходимо ответить на следующие вопросы: какое поведение мы определяем как коррупционное и с чем мы его сравниваем, а также как оцениваются эти практики и кем? Я придерживаюсь позиции, критикующей веберовское определение коррупции за «узость» и чрезмер - ную связь с категорией «законности», понимаемой в модернистской, «западной» перспективе (Olivier de Sardan, 1999: 27), и полагаю, что это явление требует более широкого определения. Оливер де Сардан использует термин «коррупционный комплекс» для того, чтобы включить в рассмотрение практики, лежащие за пределами определения коррупции в строгом смысле, а именно: непотизм, злоупотребление властью, растрату государственных денег и различные формы присвоения, «торговлю влиянием», уклонение от налогов, не - законные операции с ценными бумагами, присвоение казны и т.п. (Olivier de Sardan, 1999: 27). Это определение представляется наиболее достойной альтернативой конвенциональн о принятому, поскольку оно принимает во внимание комплексную природу социального поведения людей. Более того, данное определение позволяет исследовать представления лю - дей и их собственные оценки совершаемых действий.
НА ПУТИ К ШИРОКОМУ
ПОНИМАНИЮ КОРРУПЦИИ
Антропологические методы и подходы
Бландо и де Сардан указывают, что феномен коррупции включает в себя скрытые, невидимые практики с большим количеством нормативных нюансов, что характерно также дл я таких явлений как масштабная и мелкая преступность, черный рынок и торговля наркотиками (Blundo & Olivier de Sardan, 2000). Антропология как одна из дисциплин общественных наук имеет свои собственные наработки в области методологии и инструментария, подходящего для исследования и анализа скрытых, часто не подлежащих открытому обсуждению, иногда нелегальных, иногда нелегитимных коррупционных практик. Антропологические полевые методы представляются в особенности полезными для работы в таком поле, где коррупция не является хорошо известным или ранее опи-
санным феноменом, где необходимо сформулировать гипотезы или проверить правомерность применения существующих теорий, созданных на основе других исследований. Кроме то го, исследование, проводимое при помощи традиционных социологических инструментов, таких как анкетирование и други е количественные методы, рискует быть принятым за полицейское расследование, что заведомо означает отказ от ответа или искажение информации: кто-то будет выставлять себя жертвой, кто-то — обвинять других, и все это может лишь затруднить понимание данного феномена. Таким образом, «мя г- кие» (непрямые) полевые антропологические методы в зна- чительно большей степени подходят для получения информа - ции в этом поле, практически закрытом для непосвященных (Blundo & Olivier de Sardan, 2000).
Обсуждая антропологические методы полевой работы, Бландо и де Сардан особенно подчеркивают роль наблюдения. По их мнению, этот метод очень полезен, поскольку позволяет оценить различия и отношения между формальной и неформальной системами норм и определить, какие практики сами информанты считают наиболее важными. Коррупция совсем необязательно присутствует именно там, где исслед о- ватель ее ищет; она может существовать где угодно, в любых социальных отношениях. Это «повседневное» измерение кор - рупции часто упускают из виду представители других социальных наук, и в результате оно очень слабо представлено в научной литературе по данному предмету.
Даже там, где коррупционные отношения per se не могут быть изучены при помощи «участвующего наблюдения» (где метод «участвующего наблюдения» оказывается практическ и бессилен для изучения коррупции per se), всегда можно обратиться к неформальным разговорам людей, к повседневным дискурсам. Они полны анекдотов, признаний и обвинений, анализируя которые исследователь может получить доступ к представлениям о сущности коррупции и к ее оценкам. Можно также изучать непосредственно доступные наблюдению пра к- тики, например, взаимодействие людей в автобусах, в больницах или на дорогах (хотя следует отметить, что в таких ситуациях исследователь часто сталкивается с материаль ными затратами и этическими дилеммами).
Ценная информация о коррупции может быть получена из
62 |
63 |
