
- •Глава 1. Исследование мотивации: проблемы и подходы ...............25
- •Глава 2. Основные направления в исследовании проблем мотивации.....54
- •Глава 3. Мотивация в теориях черт ................................ 108
- •Глава 4. Ситуационные детерминанты поведения..................... 150
- •Глава 5. Ожидание и привлекательность как детерминанты мотивации . . . 222
- •Глава 6. Волевые процессы: реализация интенций....................304
- •Глава 7. Тревожность............................................350
- •Глава 8. Мотивация достижения................................... 367
- •Глава 9. Оказание помощи........................................443
- •Глава 10. Агрессия ..............................................485
- •Глава 11. Социальные связи: мотивация аффилиации и мотивация близости ......................546
- •Глава 12. Мотивация власти ......................................575
- •Глава 13. Приписывание причин: теория каузальной атрибуции ........615
- •Глава 14. Атрибуция деятельности достижения ......................668
- •Глава 15. Дальнейшие перспективы развития психологии мотивации .... 717
- •Глава 1 Исследование мотивации проблемы и подходы
- •Глава 2 Основные направления в исследовании проблем мотивации
- •Глава 3 Мотивация в теориях черт
- •Глава 4 Ситуационные детерминанты поведения
- •Глава 5 Ожидание и привлекательность как детерминанты мотивации
- •Глава 6 Волевые процессы реализация интенций
- •Глава 7 Тревожность
- •Глава 8 Мотивация достижения
- •Глава 9 Оказание помощи
- •Глава 10
- •Глава 11
- •Глава 12
- •3. Деятельность власти
- •4. Моральность цели
- •Глава 13
- •Глава 14
- •Глава 15
Глава 14
Атрибуция деятельности достижения
После того как мы рассмотрели попытки построения теории атрибуции (говорить о какой-либо единой теории атрибуции в настоящее время, видимо, еще не представляется возможным) и наиболее важные результаты исследований этой проблемы, необходимо проследить проявления атрибуции в различных сферах деятельности. Этому и будет посвящена данная глава. Речь в ней пойдет о приложении теоретико-атрибутивных концепций к проблемам психологии мотивации. В этой области, как и во многих других, теоретико-атрибутивный подход очень быстро продемонстрировал свою плодотворность.
Из всех областей психологии мотивации наиболее систематично и успешно теория атрибуции применялась в исследованиях мотивации'достижения. Вот почему большая часть данной главы посвящена именно этой теме. Чтобы отдать должное роли теории атрибуции в развитии теории мотивации достижения, необходимо рассмотреть не только последствия атрибуции в деятельности достижения, но и условия возникновения этих последствий. Ключевую роль играет атрибуция И в социальной мотивации, например в мотивации оказания помощи и агрессии. Примеры соответствующих исследований были представлены в главах 9 и 10.
Успех и неудачи как результаты деятельности достижения — наиболее типичные объекты исследования приписывания причин. Превращение атрибутивных процессов, наблюдаемых в рамках деятельности достижения, в парадигму исследования атрибуции и их большая, более систематичная изученность по сравнению с аналогичными процессами в других сферах деятельности легко объясняются тем, что причинные связи здесь, по-видимому, более просты по своей структуре, чем в социальных действиях, включающих взаимодействие партнеров. В разработку этой проблемы существенный вклад внесли Бернард Вайнер и его коллеги (Werner, 1972,1974, 1980,1985а; Werner et al., 1971; Weiner, Heckhausen, Meyer, Cook, 1972; Weiner, Kukla, 1970).
Во многих исследованиях перед испытуемыми ставился вопрос о причинах результатов, достигнутых ими самими или другими людьми, и анализировались предшествовавшие приписыванию причин условия и воздействие атрибуции на такие различные явления, как ожидания, самооценочные эмоции, санкции, выбор, устойчивость и изменение уровня достижений.
При этом неизменно предполагалось, что, будучи предоставлены самим себе, люди точно так же объясняют причины достигнутых или ожидаемых результатов. Мы уже отмечали, что из этого предположения можно исходить лишь в тех случа-
ях, когда имеют место неожиданные или даже ошеломляющие, событи, и многое поставлено на карту (Weiner, 1985a; Wong, Weiner, 1981; Wortman, Dintzer, 1978). Кроме того, несомненно существуют еще и индивидуальные различия в склонности прибегать к атрибуции. Такого рода склонность отчетливо выявилась у «выучившихся беспомощности» школьников при выполнении задания после неудачи (Diener, Dweck, 1978), а также у мотивированных на избегание неудачи студентов на устном экзамене (Heckhausen, 1982b).
Классификация параметров причин
В качестве отправной точки при анализе атрибуции выступают наивно-психологические причинные объяснения «человека с улицы». Однако используются такие объяснения отнюдь не наивным, а вполне научным образом, ибо за конкретным значением отдельной причины, переживаемой как нечто своеобразное, исследователи пытаются вскрыть общезначимые параметры, в которых каждая из возможных конкретных причин должна найти свое место, определяемое психологической совокупностью значений отдельных параметров. Чтобы выявить решающие параметры атрибуции, потребовалось немало усилий, однако такое выявление (абстракция) значимых параметров сделало исследования атрибуции весьма плодотворными в научном отношении. Первое из введенных различений было одномерным, Оно получило название локус контроля (Rotter, 1954,1966) и заключалось в про-тивопоставлении внутренних и внешних причин в смысле подконтрольности результата действия субъекту. Впоследствии обнаружилось, что это различение вводит нас в заблуждение, поскольку существуют внутренние причины, контролировать которые субъект не в состоянии (например собственные способности), а также имеются внешние причины, которые субъект в состоянии контролировать (например, оказывая влияние на людей, обладающих властью). Но это еще не все. В исследовательской практике рассматриваемый параметр воплощался в противопоставлении заданий, определяемых способностями и случаем (Rotter, 1966; Feather, 1969), что неизбежно приводило к смешению двух разных параметров атрибуции: внутреннее—внешнее и стабильное (способности)—вариативное (случайность). Представителям исследовательской парадигмы локуса контроля признание этого дается, по-видимому, с большим трудом (см.: Phares, 1978, р. 270).
Хайдер (Heider, 1958) в своем анализе выделил наряду с внутренними, личностными, и внешними, средовыми, показателями еще один параметр атрибуции: стабильность—вариативность. У субъекта стабильными являются способности, а вариативной — мотивация (намерение и старание). В окружающем мире стабильна трудность задания, а вариативен случай. Вайнер объединил оба параметра — локализацию и стабильность — в четырехмерной схеме причин (см. табл. 14.1), которой вплоть до сегодняшнего дня руководствуются почти все теоретико-атрибутивные исследования деятельности достижения и которая оказалась весьма плодотворной.
Постепенно, исходя из соображений логики и правдоподобия, исследователи ввели и другие параметры. Так, Розенбаум (Rosenbaum, 1972) включил в сферу анализа первый из двух Мотивационных компонентов Хайдера — намерения и ста-рания, — которому Вайнер не уделил должного внимания. Таким образом, стабиль-
ные и изменчивые внутренние причины стали различаться еще и по параметру интенции. Стабильным наряду со способностями является еще и отношение к работе вообще, проявляющееся в систематических проявлениях старания, прилежания или лени (см.: Heckhausen, 1972), и оно в отличие от способностей является интенцио-нальным. С другой стороны, изменчиво не только старание, но и телесное и душевное состояние (настроение, усталость), но только старание интенционалыю.
Таблица 14.1 Классификация причин успеха и неудачи по Вайнеру (Weiner et a!., 1971, р. 2)
|
Стабильность |
Локализация |
|
|
|
внутренняя |
внешняя |
|
Стабильная Вариативная |
Способности Старание |
Сложность задания Случайность |
Однако интенциональность (даже если отвлечься от того обстоятельства, что она характеризует основания, а не причины) (см. главу 13; Buss, 1978) не вполне адекватно объясняет рассматриваемое различие. Ведь когда человек объясняет неудачи недостатком старания, это вовсе не означает, что неудача интенциональна в буквальном смысле слова. Интенция определяет, что именно будет сделано и будет ли оно сделано вообще, т. е. это всего лишь предпосылка", но не непосредственная причина результата действия. В даном случае уместнее говорить об управляемости, как это делает Райнберг (Rheinberg, 1975), или же использовать введенный Вайнсром (Weiner, 1979) термин «контроль» («подконтрольность», см. табл. 14.2). Человек чувствует себя ответственным за причины, воспринимаемые в качестве контролируемых. Андерсон (Anderson, 1983) обнаружил, что элементы «Интенция» и «Контроль» коррелируют между собой. Поэтому, а также из-за того, что такого рода причины являются мишенью для воздействия на действующего субъекта со стороны окружающих, ситуативное или стабильное (отношение к работе) старание играет решающую роль в оценке достигнутых другими людьми результатов. (Ситуативное старание, на которое путем награды и наказания легче воздействовать, чем на стабильное, соответственно стало основным критерием оценки со стороны окружающих (см.: Rest, Nierenberg, Weiner, Heckhausen, 1973, эксперимент 1).)
Таблица 14.2
Классификация внутренних причин по параметрам стабильности
и управляемости (Rheinberg, 1975; интенциональность- Rosenbaum, 1972;
подконтрольность — Weiner, 1979)
|
Стабильность |
Управляемость |
|
|
|
управляется |
не управляется |
|
Стабильно Вариативно |
Отношение к работе (усердие, лень) Старание (в данный момент) |
Способности Телесное и душевное состояние (настроение, усталость) |
В ряде исследований список возможных причин заранее не задавался и от испытуемых требовалось самим выявить основания своих достижений (фиктивных) или достижений других людей (например, учеников) (Frieze, 1976; Meyer, Butzkamm, 1975; Rheinberg, 1975, 1980; Russel, 1982). Среди перечисленных причин ничего похожего на «случайность» из четырехмерной схемы ВаЙнера не обнаружилось.
Что касается трех остальных факторов, то наиболее часто назывались способности и старание, причем последнее нередко приводилось в качестве постоянной личностной переменной (см.; Ostrove, 1978; Saxe, Greenberg, Bar-Tal, 1974). Отмечались также и такие факторы, как личностные диспозиции (отличные от старания), телесные и душевные состояния, домашняя обстановка, социальная поддержка или помехи.
В основном все названные испытуемыми причины укладываются в трехмерную классификационную схему, включавшую параметры локализации, стабильности и управляемости (подконтрольности) (Russel, 1982; Weiner, 1985). Это относится и к всеобъемлющему исследованию Мейера (Meyer, 1980). Стабильность, локализация и подконтрольность в основном задавались с помощью информации о стабильности, согласованности или побудительности. Как обычно, были выявлены различия между атрибуцией успеха и неудачи. Успех воспринимался в большей степени связанным с внутренними, стабильными и подконтрольными причинами, чем неудача. Если же, как это сделали в своем исследовании Ваймер и Келли (Wimer, Kelley, 1982), предлагалось атрибутировать не только действия достижения, но и действия и установки иного содержания, то обнаруживались еще и другие измерения, типа хороший/плохой или простой/сложный.
Абрамсон и его коллеги (Abramson, Seligman, Teasdale, 1978) указывают на необходимость учета еще одного (четвертого) параметра: «глобальность—специфичность», который, как мы сейчас убедимся, позволяет объяснить перенос эффектов атрибуции на деятельности другого рода (см. также: Miller, Norman, 1979).
Четвертый параметр — обобщенность (глобальный—специфический) — представляется необходимым лишь при объяснении перенесения эффектов атрибуции на различные деятельности и ситуации. Пятый параметр — сопряженность, к нему мы еще вернемся, оказывается значимым в условиях, когда результат действия может быть воспринят как зависящий от случая, обратная связь — как фиктивная, а наличие и отсутствие подкреплений — как определяемые произволом экспериментатора. Элиг и Фризе (Elig, Frieze, 1975) разработали ключевые категории анализа содержания для классификации произвольных данных свободной атрибуции по трем названным выше параметрам и нескольким несовпадающим друг с другом основаниям. Всего эти авторы различают 19 каузальных элементов.
В конце концов может возникнуть вопрос об универсальности причинных объяснений. Есть основания предположить, что параметры классификации причин достигнутых результатов универсальны, а выделяемые каузальные элементы — нет. В частности, Триандис (Triandis, 1972) получил данные о том, что в Греции и Японии важной причиной успеха считается терпение, а в Индии — чувство такта и сплоченность. Катима и Триандис (Kashima, Triandis, 1986) обнаружили, что японцы менее склонны к атрибуциям, служащим поддержанию самооценки, чем американцы. Лоув и Лоув-Потжитер (Louw u. Louw-Potgieter, 1986) сравнивали атрибуции
белых, чернокожих и индийцев в Южной Африке. Чаще всего в качестве причин успеха назывались старание и академические знания. Однако факторный анализ приводимых причин не обнаружил соответствия с тремя вайнеровскими измерениями локализации, стабильности и подконтрольности.
Сочетание условий, приводящее к использованию тех или иных каузальных элементов
Информация о ковариации
Фризе и Вайнер (Frieze, Weiner, 1971), руководствуясь ковариационной моделью Келли, попытались выяснить, в какой мере выносящий суждение субъект использует для объяснения успеха и неудачи информацию о стабильности и согласованности. Испытуемых просили объяснить последовательность успехов или неудач исходя из вайнеровской схемы четырех каузальных факторов, причем при этом использовались три уровня стабильности и три — согласованности (стабильность — результаты работы над предыдущим заданием совпадают с текущими на 100,50 или 0%; согласованность — доля людей, успешно справившихся с данным заданием, составляет 100, 50 или 0%).
Полученные данные показывают, что информация о стабильности и согласованности использовалась испытуемыми в соответствии с предсказаниями модели. Чем значительнее была стабильность, тем весомее считалось влияние таких стабильных факторов, как трудность задания и способности, и тем меньшее влияние приписывалось таким ситуационным факторам, как случайность, а при атрибуции неудачи также и старанию. Примечательно, что в этом случае информации о согласованности с результатами других людей (которая давалась, разумеется, с позиции внешнего наблюдателя) уделялось большее внимание и она активнее использовалась, чем (как мы видели выше) в случае действий, не связанных с достижением (McArthur, 1972; Nisbett, Borgida, 1975). Как видно из рис. 14.1, я, низкая согласованность благоприятствует приписыванию результата таким внутренним факторам, как способности и старание, а высокая согласованность — такому внешнему фактору, как сложность задания. Стабильность и согласованность определяют предсказываемые моделью основные эффекты. Так, атрибуция относительно задания проявится тем сильнее, чем в большей степени высокая стабильность будет сочетаться с высокой согласованностью. При этом согласованность заметнее влияет на атрибуцию относительно задания, чем стабильность (см. рис. 14.1, б). Впрочем, немаловажны здесь и индивидуальные различия в процессах использования и переработки информации.
В контексте влияния информации о стабильности на атрибуцию результатов относительно способностей в ситуации деятельности достижения определенную роль играют также эффекты последовательности. Для атрибуции небезразлично, будет ли (при работе над одним и тем же заданием) сначала преобладать неудача, а затем постепенно достигаться успех или, наоборот, после первоначального успеха доминирующей станет неудача. В последнем случае, как установили Джоунс, Рок, Шейвер, Гетэлс и Уорд (Jones, Rock, Shaver, Goethals, Ward, 1968), человек
считает себя более способным, чем в первом, даже если соотношение частоты успехов и неудач в обоих случаях остается одним и тем же. Складывается впечатление, что при постепенном нарастании успеха человек приписывает упражнению и старанию большую по сравнению со способностями роль, тогда как при первоначальном успехе он может объяснить учащающиеся неудачи не утратой способностей, а ослабевающим старанием. Исследователи спрашивали учителей в повседневной школьной ситуации, какими причинами они объясняют достижения своих учеников. При этом Мейер и Бутцкамм (Meyer, Butzkamm, 1975) обнаружили существенные индивидуальные различия. Основной упор делался на факторы одаренности (50%) и старания или мотивации (30%). Одаренности придавалось тем большее значение, чем больше был разброс класса по показателю IQ. Трудность задания и случайность не играли в оценках учителей никакой роли. Фелсон и Борнстедт (Felson, Bohrnstedt, 1980) обнаружили, что учителя были тем более уверены в атрибуции одаренности и мотивации, чем более ярко выраженными были результаты школьников. Вопреки предположению Хайдера, атрибуции одаренности и мотивации коррелировали между собой не негативно, а позитивно, что соответствует каузальной схеме множественных необходимых причин.
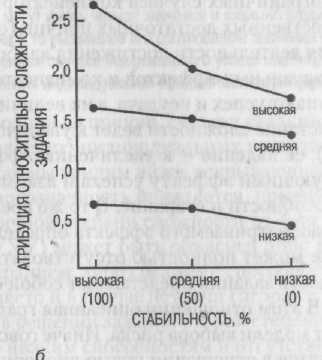
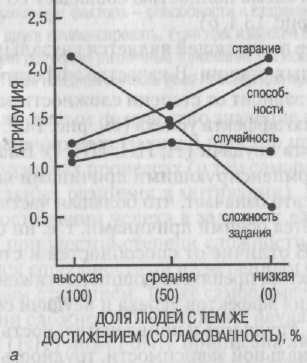
Рис. 14.1. Усредненные эффекты влияния информации о стабильности и согласованности на атрибуцию
результатов: а) зависимость вайнеровских четырех причинных факторов от информации о согласованности
(количестве людей, достигших тех же результатов); б) взаимосвязь информации о согласованности
и стабильности при атрибуции относительно сложности задания (Frieze, Weiner, 1971, p. 594, 597)
Каузальные схемы
Каузальные схемы (Kelley, 1972), как мы уже знаем из предыдущей главы, представляют собой специфические для определенных ситуаций гипотетические представления об уместности (априорной вероятности) тех или иных причин. Они позволяют сделать вывод о причинах (или частичных причинах) наличия или отсутствия какого-либо эффекта при дефиците ковариационной информации. Например, если некто достигает успеха в выполнении определенного задания и у нас есть лишь информация
о согласованности, состоящая в том, что большинство людей в работе над этим заданием терпят неудачу, то речь идет о событии необычном, объяснение которого осуществляется по готовой каузальной схеме множественных необходимых причин (см. рис. 13.4, я). Соответственно успех будет приписан одновременно высокому уровню способностей и сильному старанию.
Если же мы получаем еще и дополнительную информацию о стабильности, указывающую, например, на такую особенность данного человека, как успешное решение многих других задач из этой же области, то у нас появляются основания придать больший вес одной из двух благоприятствующих успеху причин, а именно способностям. В связи с этим степень значимости второй возможной причины — старания — в соответствии с принципом обесценивания снижается. В этом случае используется схема не множественных необходимых причин, а компенсаторного различения причин. С помощью компенсаторной схемы хорошо объясняются градуальные (т. е. принимающие континуум значений) эффекты, если их появлению благоприятствуют два или более факторов. Когда значение градуального эффекта не превышает некоторого типичного уровня, оно также может быть объяснено сильной выраженностью одного из факторов без привлечения другого фактора. Для таких пограничных случаев компенсаторная схема полностью совпадает со схемой множественных достаточных причин (ср. рис. 13.4, б).
Для деятельности достижения наиболее подходящей является каузальная схема градуальных эффектов и компенсаторных причин. В качестве эффектов здесь выступают успех и неудача, а их величина зависит от степени сложности задания. Возрастание сложности ведет к увеличению эффекта успеха (см. рис. 14.2: У, УУ, УУУ), ее падение — к увеличению эффекта неудачи (Н, НН, ННН). Благоприятствующими эффекту успеха и взаимокомпенсирующими причинами являются способности и старание. В то же время это означает, что большая часть значений рассматриваемого эффекта определяется обеими причинами, т. е. ни одна из них не может полностью отсутствовать. В отличие от способностей и старания трудность задания представляет собой фактор, препятствующий-достижению успеха. В этом отношении описанная градация эффектов успеха и неудачи соответствует модели выбора риска. Иначе говоря, трудность и привлекательность успеха находятся в отношении прямо пропорциональной зависимости, трудность и привлекательность неудачи — в отношении обратно пропорциональной зависимости.
В матрице, изображенной на рис. 14.2, представлена такого рода компенсаторная каузальная схема для семи градаций эффекта результата действия (ННН; НН; Н; У; УУ; УУУ; УУУУ), соответствующих семи степеням сложности задания. Для большинства значений сложности (за исключением степени 4) для достижения успеха недостаточно лишь одной из благоприятствующих успеху причин (способностей и старания), необходимы они обе. Значение каждой причины имеет 4 градации и объединяется со значением другой причины не мультипликативно, а аддитивно. Для средней степени сложности задания (4) имеется две возможные комбинации связи причин, соответствующие схеме множественных достаточных причин (верхнее левое и нижнее правое поля): при максимальной выраженности одной из причин другая отсутствует. Успех при работе с чрезвычайно сложными
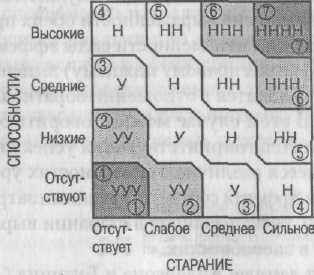
заданиями (6 и 7) и неудача в случае выполнения заданий низкой сложности (1 и 2) представляют собой нетипичные эффекты (соответствующие поля обозначены светло- и темно-серым цветами). В обоих случаях особенно уместна схема необходимых причин.
Рис. 14.2. Каузальная схема компенсаторных причин для градуальных эффектов деятельности достижения:
успеха при возрастании степени сложности задания {У; УУ и т. д.) и неудачи при ее падении (Н; НН и т. д.).
Оба причинных фактора - способности и старание - могут иметь четыре значения и взаимно (аддитивно)
друг друга компенсировать. Если нам известен эффект, то вызвавшее его соотношение значений обеих
причин допускает различные толкования (за исключением случаев максимального успеха или неудачи).
Такая неоднозначность дает простор для проявления индивидуальной предвзятости атрибуции
Если же нам не известно значение ни одной из причин, субъект сталкивается с многозначностью, дающей простор проявлению индивидуальных пристрастий в атрибутивных процессах (и тем самым, как мы увидим ниже, вскрывающей индивидуальные различия в мотивации). Многозначность появляется, прежде всего, при достижении успеха в заданиях различной степени сложности от 4 до 6. Так, успех при шестой степени сложности (УУУ) может быть объяснен либо выдающимися способностями и умеренным старанием, либо средними способностями и сильным старанием. То же самое имеет место и в случае неудачи (вторая и третья степени сложности). Например, неудача в решении задания второй степени сложности (НН) может быть приписана либо низким способностям и отсутствию старания, либо отсутствию способностей и слабому старанию.
Изображенная на рис. 14.2 матрица позволяет выделить внутри каузальной схемы более высокого порядка (схемы градуальных эффектов) три различные взаимосвязанные схемы объяснения. Во-первых, при сравнении (по строкам или по столбцам) результатов для заданий различной степени сложности выясняется, что степень выраженности некоторой причины ковариирует с интенсивностью эффекта, хотя значение второй причины не меняется. Этот случай можно назвать простой ковариацией отдельной причины с эффектом. Она наблюдается, когда одна из причин (например, уровень собственных способностей) остается неизменной, а улучшение результата связано лишь с увеличением значения второй причины (ростом старания).
Во-вторых, при сравнении между собой явно различных эффектов, отличающихся друг от друга, по крайней мере, на две степени сложности, выясняется, что
с увеличением эффекта могут ковариировать одновременно обе причины (по диагоналям в направлении от левого нижнего угла к правому верхнему) и каждая из них будет возрастать прямо пропорционально увеличению эффекта. Таким образом, можно говорить о схеме комбинированной ковариации (причин с эффектом). Комбинированная, как и простая, ковариация служит основой для предсказания эффектов, когда известна степень выраженности обеих причин.
В-третьих, при объяснении неизменности силы эффекта (диагонали в направлении от левого верхнего угла к правому нижнему) выясняется, что степени выраженности обеих причин находятся в отношении обратно пропорциональной зависимости друг с другом. В этом случае можно говорить о каузальной схеме компенсации (влиянии обеих благоприятствующих успеху причин), о компенсации старанием, когда имеющееся различие в способностях уравновешивается при достижении определенного эффекта соответствующими затратами старания, и о компенсации способностями, когда различие в старании выравнивается за счет соответствующего различия в способностях.
Как свидетельствуют данные Андерсона и Бутцина (Anderson, Butzin, 1974), а также Куна и Вайнера (Кип, Werner, 1973), описанная выше компенсаторная схема градуальных эффектов уместна для объяснения результатов деятельности достижения лишь при отсутствии у субъекта информации о степени выраженности одной из двух причин. В основу своих гипотез Кун и Вайнер положили лишь схему достаточных и необходимых причин. Они считали, что в случае необычных эффектов — успеха при выполнении очень сложных и неудачи при выполнении очень легких заданий — во внимание принимаются (как очень слабо или сильно выраженные) сразу обе причины (множественная необходимость), а в случае обычных эффектов — успеха в легком задании и неудачи в сложном — требуется учитывать наличие или отсутствие лишь одной из причин (множественная достаточность).
Авторы исследования давали испытуемым информацию о градуальных эффектах, а именно об успешной или неудачной сдаче экзамена, характеризовавшегося одной из трех степеней сложности (задававшейся с помощью информации о согласованности — успеха добиваются 10, 50 или 90% сдающих экзамен). Наряду с информацией о результате и степени сложности экзамена испытуемым сообщалось еще и значение одной из двух причин (способности или старание); оно было высоким в случае успеха и низким в случае неудачи. Испытуемые должны были указать, считают ли они соответствующее значение второй причины (высокое в случае успеха и низкое в случае неудачи) решающим для возникновения данного эффекта, несущественным или же противоречащим эффекту.
Результаты этого исследования представлены на рис. 14.3. Если при сдаче сложного экзамена достигался успех (необычное событие), то испытуемые были уверены в том, что вторая из благоприятствующих причин тоже была сильно выражена. Эта оценка сохранялась и в том случае, когда успешно сданный экзамен характеризовался средней сложностью. Если же, напротив, добиться успеха было легко (обычное событие), испытуемые считали, что значение второй причины не могло быть высоким. Для ситуации неудачи были получены совершенно аналогичные
данные, соответствующие компенсаторной схеме градуальных эффектов. Впрочем, при неудачной сдаче легкого экзамена (необычное событие) результаты оказались менее однозначными, поскольку уверенность в слабой выраженности второго фактора была незначительной. Неудача при сдаче трудного экзамена (обычное событие) создавала устойчивое впечатление, что значение второй сопутствующей причины — ограниченные способности или слабое старание — низким не является. Если отвлечься от ситуации неудачи при выполнении легкого задания (когда уверенность в слабой выраженности обеих причин была невысокой), то данные Куна и Вайнера подтверждают предположение о том, что вывод об одной из двух причин (способности или старание) градуального результата деятельности достижения при наличии информации о значении другой из этих причин строится по компенсаторной схеме.
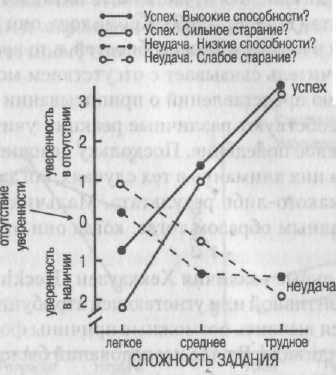
Рис. 14.3. Зависимость средних значений уверенности в наличии или отсутствии высоких способностей
или сильного старания при успехе и неудаче от знания испытуемым 1) об успехе или неудаче, 2) о выраженности одной из двух причин и 3) о степени сложности задания (Кип, Weiner, 1973, р. 203)
Обусловленные мотивами различия в атрибуции
Оборотная сторона уже рассмотренной общей тенденции атрибутировать успех и неудачу в выгодном для самооценки свете опять-таки ставит перед нами проблему индивидуальных различий. Такие различия становятся очевидными как при объяснении результатов деятельности других людей, например при оценке достижений школьников учителями (Meyer, Butzkamm, 1975; Rheinberg, 1975), так и при объяснении собственных результатов, например в случае выученной беспомощности. В частности, эти различия оказались связанными с депрессивностыо как личностной диспозицией (Rizley, 1978), с внутренним—внешним локусом контроля (Gilmor, Minton, 1974), с высокой или низкой самооценкой (Ames, Felker, 1979), а также с половой принадлежностью (Dweck, Bush, 1976; Feather, 1969). Во всех исследо-
ваниях особо выделяется тип атрибуции, приводящий к незначительному усилению мотивации после успеха и к подавленности после неудачи.
Так, депрессивные студенты по сравнению с недепрессивными склонны приписывать неудачу не столько чрезмерной сложности задания, сколько своей неспособности, а успех — легкости задания, а не своим способностям (Rizley, 1978). Испытуемые с внутренним локусом контроля чаще, чем индивиды с внешним контролем, объясняют успех своидш способностями, а неудачу — случайностью, особенно если они начинали выполнять задание с высоким ожиданием успеха (Gilmor, Minton, 1974; Lefcourt, Hogg, Strutjiers, Holmes, 1975). Социально тревожные испытуемые по сравнению с нетревожными усматривали причины своих успехов больше в старании, чем в способностях, а причины неудач — больше в невезении и чрезмерной сложности (Alden, 1987). Девочки чаще, чем мальчики, считали себя менее способными и были склонны отчасти объяснять достигнутый успех удачным стечением обстоятельств (Feather, 1969). Кроме того, они думали, что учитель видит причину их неудач в недостатке способностей, в то время как мальчики полагали, что их неудачи учитель связывает с отсутствием мотивации (Dweck, Bush, 1976). Такому различию представлений о приписывании причин другим человеком, несомненно, способствуют различные реакции учителя на специфическое для каждого пола ролевое поведение. Поскольку девочки более прилежны, учитель чаще обращает на них внимание в тех случаях, когда они испытывают трудности в достижении какого-либо результата. Мальчики же привлекают к себе внимание учителя главным образом тогда, когда они отвлекаются или мешают ходу занятия.
Все эти индивидуальные различия Хекхаузен (Heckhausen, 1987a) свел к общему знаменателю позитивной или угнетающей атрибуционной модели («ПАМ» и «УАМ») и попытался выявить возможные причины формирования этих моделей в ходе развития индивида. В ряде исследований было установлено, что с двумя видами мотива достижения также связаны различные типы атрибуции. Стремящиеся к успеху (или высокомотивированные по nAch) испытуемые чаще приписывают успехи себе и воспринимают себя менее отягощенными неудачами, чем избегающие неудачи (или слабомотивированные) индивиды. Первыми это установили при исследовании простых корреляций Вайиер и Кукла (Weiner, Kukla, 1970), а также Вайиер и Поутпан (Weiner, Potepan, 1970). Стремящиеся к успеху испытуемые чаще, чем избегающие неудачи, выделяли в опроснике Крэнделлов и Катковского «Ответственность за интеллектуальные достижения» (Intellectual Achievement Responsibility, IAR - V. С. Crandall, Katkovsky, V. I. Crandall, 1965) внутренние причинные факторы (прежде всего, способности) как относящиеся к успеху. В одном из экспериментов этого типа (Weiner, Kukla, 1970, эксперимент V) стремившиеся к успеху испытуемые чаще, чем избегавшие неудачи, склонялись к объяснению высоких достижений при выполнении заданий своими способностями, а слабых — недостаточным старанием. В ряде последующих работ зависимость типа атрибуции от мотива была прослежена более детально, В частности, Мейер (Meyer, 1973a) индуцировал у испытуемых неудачу в пяти последовательных попытках решения задания на цифровое кодирование символов, а за-
тем просил их объяснить этот результат, указывая на выраженность (в %) каждого из четырех факторов Вайнера. Оказалось, что избегающие неудачи в меньшей степени по сравнению со стремящимися к успеху возлагают ответственность за неудачу на отсутствие старания и невезение и в большей — на недостаток способностей (аналогичные данные см. также в: Krug, 1972; Jopt, Ermshaus, 1977, 1978). Наиболее заметные различия в типах атрибуции Мейер (Meyer, 1973a) установил при тщательном индуцировании успеха и неудачи. И успех, и неудача индуцировались при помощи варьирования уровня ожиданий каждого испытуемого относительно своих достижений. Давая испытуемому обратную связь, экспериментатор либо завышал (успех), либо занижал (неудача) количество правильно решенных задач по сравнению с тем, что ожидал испытуемый. Данные, полученные для трех факторов — способностей, старания и случайности, — приведены на рис. 14.4 Избегающие неудачи реже, чем стремящиеся к успеху, приписывают свой успех (высоким) способностям и старанию и чаще — везению, тогда как неудачу они чаще приписывают (недостаточным) способностям и реже — (недостаточному) старанию и невезению.
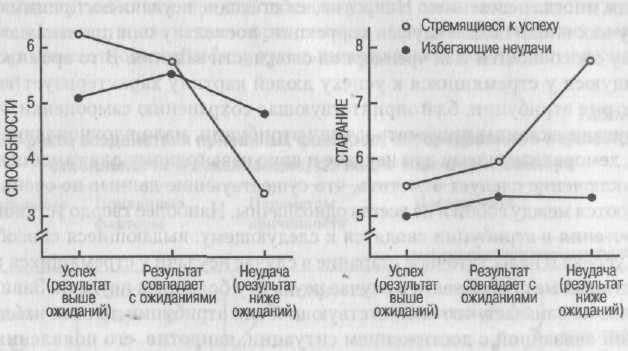
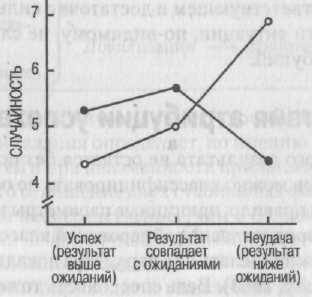
Рис. 14.4. Зависимость средних оценок различных каузальных факторов у стремящихся к успеху и избегающих неудачи испытуемых от соотношения успехов с уровнем ожиданий (Meyer, 1973b, p. 81,82)
Шмальт (Schmalt, 1976c) попытался выяснить, какая именно разновидность мотива избегания неудачи связана с рассмотренным нами выше и часто описываемым типом атрибуции. С помощью методики «Решетка» (см: главу 8) он разделил избегающих неудачи испытуемых на тех, представление которых о себе содержит идею собственной низкой одаренности, и тех, кому свойственна боязнь социальных последствий. Рассматриваемый тип атрибуции — склонность к объяснению успеха везением, а неуспеха — 'недостатком способностей и в меньшей степени недостатком старания — был обнаружен лишь у испытуемых первой группы.
В целом же складывается следующая картина зависимости типа атрибуции успеха и неудачи от мотива. В случае успеха решающую роль играет такой параметр, как локализация. Стремящиеся к успеху индивиды приписывают его прежде всего внутренним факторам, особенно хорошим способностям, а избегающие неудачи акцентируют внимание на внешних факторах, чаще на везении и иногда на легкости задания. В случае неудачи решающим становится такой параметр, как стабильность. С точки зрения стремящихся к успеху неудача объясняется, главным образом, контролируемыми и изменчивыми факторами, чаще недостаточностью старания, иногда невезением. Напротив, избегающие неудачи воспринимают свою неудачу как плохо поддающуюся коррекции, поскольку они приписывают ее недостатку способностей или чрезмерной сложности задания. В то время как складывающуюся у стремящихся к успеху людей картину характеризует типичная асимметрия атрибуции, благоприятствующая сохранению самооценки, избегающие неудачи склонны прибегать к типу атрибуции, мало вдохновляющему при успехе, деморализующему при неудаче и явно невыгодному для самооценки.
В заключение следует отметить, что существующие данные не очень хорошо согласуются между собой и не всегда однозначны. Наиболее твердо установленные предпочтения в атрибуции сводятся к следующему: выдающиеся способности в случае успеха и недостаточное старание в случае неудачи у стремящихся к успеху и недостаточные способности в случае неудачи у боящихся неудачи. Зависимость от мотива не означает, что соответствующий тип атрибуции должен наблюдаться в каждой связанной с достижением ситуации, напротив, его появления можно ожидать лишь при соответствующем и достаточно сильном побуждении мотива, а реальные особенности ситуации, по-видимому, не слишком ограничивают область возможных атрибуций.
Последствия атрибуции успеха и неудачи
Атрибуция достигнутого результата не остается без последствий. Большинство отдаленных ее эффектов можно классифицировать по основным параметрам каузальных факторов. Как правило, причинные параметры непосредственно выводятся из причинных факторов согласно вайнеровской классификационной схеме. Без особых проблем это можно сделать для параметра локализации, но не для параметра стабильности (O'Leary, 1983). Ведь способность тоже может быть изменчивой, если она еще находится в стадии формирования, а старание может быть стабильным, если говорить о прилежании как черте характера.
Параметр стабильности оказывает влияние на ожидание успеха. В частности, стабильность причинных факторов — а не локализация, как предполагали Роттер (Rotter, 1966) и его коллеги, — определяет сопротивляемость угасанию. Параметр локализации, в свою очередь, связан с Мотивационными и эмоциональными последствиями, и именно он оказывает решающее влияние на возникновение эмоций самооценочного характера, а также на формирование такого мотивационного синдрома, как выученная беспомощность (см. ниже). Обе эти причинные цепи, на которые в свое время неоднократно указывал Вайнер (Weiner, 1972; Weiner et al., 1971), представлены в табл. 14.3. Согласно этой схеме, параметры причинности выполняют опосредующую функцию между причинными факторами и их непосредственными проявлениями. В ходе исследований было установлено, что причинные факторы и параметры причинности приводят не только к общим, но и к отдельным друг от друга последствиям (Russel, McAnley, 1986; Russel, McAnley, Tarico, 1987).
Недавно введенный третий параметр — управляемость, который мы для краткости обозначаем как измерение контроля, играет решающую роль в оценке достигнутого другими людьми результата. Отдельные параметры причинности влияют на мотивацию к продолжению работы над заданием, проявляющуюся в длительности (настойчивости) действия, предпочитаемом уровне сложности и достигнутых результатах. Наконец, после недавно проведенных исследований начинает вырисовываться картина соотношений между отдельными параметрами причин и разного рода эмоциями.
Таблица 14.3
Два эффекта воздействия причинных факторов, опосредованные параметрами стабильности и локализации, согласно концепции Вайнера
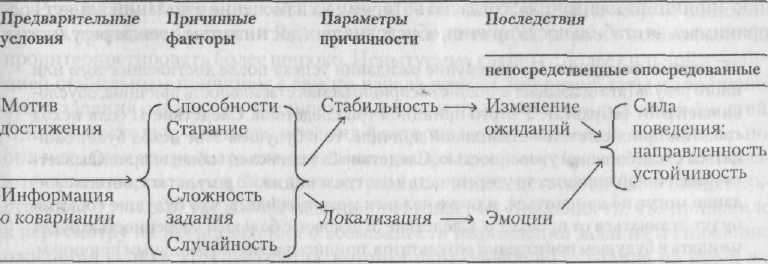
Отношение оцениваемой величины своих способностей к предполагаемой (объективной) сложности задания определяет, по мнению Хайдера (Heider, 1958), переживание возможностей и при неизменности прилагаемых стараний — величину ожидаемого успеха. Это отношение двух стабильных факторов определяет уровень ожидания успеха тем непосредственнее, чем в большей мере субъект приписывает результат действия не изменчивым колебаниям старания и случайностей, а своим способностям и сложности задания.
Эта же цепь рассуждений приводит к выделению двух случаев, когда может меняться сложившееся ожидание успеха. Это происходит тогда, когда в достигнутом результате человек видит повод к пересмотру принимавшегося им до сих пор
отношения обоих стабильных каузальных факторов, поскольку начинает выше или ниже оценивать свои способности к выполнению данного типа заданий и одновременно с переоценкой способностей или независимо от нее считать задание менее или более сложным. Пересмотрам такого рода благоприятствуют длительные серии успехов или неудач.
Этот процесс, вытекающий из теории Хайдера, до сих пор непосредственно не исследовался. Впрочем, Вайнер (Werner, 1972; Weiner et al., 1971) уже давно высказал предположение, что параметр стабильности связан с изменением ожиданий. При этом он имел в виду не соотношение способностей и трудности задания (хай-деровское понятие «могу»), а соотношение стабильных и вариативных факторов. Чем стабильнее причины, влиянию которых человек приписывает результат действия, тем больше он склонен считать, что этот результат повторится. Соответственно в случае достижения успеха человек может повысить ожидание успеха, а после неудачи — понизить. В противоположность этому, если человек приписывает результат действия в большей степени вариабельным причинам, он едва ли изменит свое ожидание успеха после наступившего успеха и неудачи. Это, в общем, очевидно. Далее Вайнер пытался доказать, что ожидания в значительной мере определяются атрибуцией стабильным факторам. А поскольку измерение локализации связано с аффективными последствиями, то у исследователей появилась возможность если и не свести все обычные теории мотивации, рассматривающие ее как произведение ожидания на ценность, к атрибуционным процессам, то по крайней мере сделать атрибуцию центральной предпосылкой мотивационного процесса (Weiner, 1985a).
Проанализировав 12 работ, Вайнер в результате пришел к следующему пониманию «принципа ожидания», согласно которому на изменение ожиданий влияет воспринимаемая стабильность причин, обусловивших достигнутые прежде результаты:
■«Принцип ожидания. На изменение ожидания успеха после достижения того или иного результата оказывает влияние воспринимаемая стабильность причины, обусловившей этот результат. У этого принципа три следствия. Следствие 1: если исход события приписывается стабильной причине, то в будущем этот исход будет ожидаться с еще большей уверенностью. Следствие 2: если исход события приписывается изменчивой причине, то уверенность в наступлении этого результата или его ожидание Moi-ут не измениться, или же человек может ожидать, что будущие события будут отличаться от прошлого. Следствие 3: человек с большей уверенностью будет ожидать в будущем повторения результатов, приписываемых стабильным причинам, чем повторения результатов, приписываемых нестабильным причинам» (Weiner, 1985а, р. 559).
Рассмотрим в качестве примера исследование Мейера (Meyer, 1973b; см. также: Weiner et al., 1972), который первым проверил соотношение между атрибуцией и изменением ожиданий (см. рис. 14.5). В последовательной серии попыток он индуцировал либо успех, либо неудачу и каждый раз просил объяснить результат, исходя из четырех вайнеровских факторов. В серии успехов никакой взаимосвязи между атрибуцией и ростом ожидания успеха обнаружено не было, однако в серии неудач была зафиксирована связь между результирующей атрибуцией относительно стабильных факторов (определяемой как сумма атрибуций всех попыток) и сни-
жением ожидания успеха. Характерно, что атрибуция относительно сложности за дания играет при этом более важную роль, чем атрибуция относительно способно стей. Первоначальные ожидания успеха испытуемых, считавших задание боле< сложным, были чуть ниже, чем у всех остальных испытуемых, однако при по следующих неудачах они снижались заметно быстрее. Впрочем, значимыми полу чепные различия оказываются только при условии, что для каждого испытуемо го подсчитывается суммарное значение обоих стабильных факторов, и по медиан» этого показателя испытуемые подразделяются на две группы: большая стабиль ность приписываемых неудаче причин приводит к более резкому снижению ожи даний успеха (рис. 14.5).
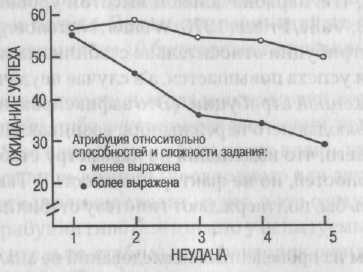
Рис. 14.5. Изменение среднего ожидания успеха при серии неудач у испытуемых с менее и более выраженной атрибуцией неудачи относительно способностей и сложности задания (Meyer, 1973b, p. 105)
Результаты Мейера, по всей видимости, совпадают с первым и вторым следствиями из принципа ожидания Вайнера. С точки зрения Хайдера их можно было бы проинтерпретировать более широко. Испытуемые группы с более сильной атрибуцией стабильным причинам с самого начала верили, что результаты выполнения этого задания зависят от трудности задания и от их собственных способностей. Однако, поскольку соотношение этих факторов не было известно им изначально, они исходили из среднего ожидания успеха, при котором успех и неудача оказываются равновероятными. Каждая наступавшая впоследствии неудача свидетельствовала о том, что трудность задания превышает их способности, что приводило к пересмотру их представления о возможности выполнения задания и снижению ожидания успеха. Другая группа, которая первоначально исходила из такой же атрибуции относительно стабильных причин (различие обнаружилось лишь при суммировании всех неудач), практически не пересматривала представление о своих возможностях, но вместо этого придавала большее значение вариабельным причинам, чтобы получить возможность не признавать недостаточность своих способностей и низкую вероятность успеха. Если эта группа увеличивала таким образом акцент на изменчивых причинах, то первая группа могла (одновременно с изменением соотношения обоих стабильных факторов) увеличивать вес стабильных причин.
Таким образом, при изменении ожидания успеха мы можем столкнуться с двумя процессами: во-первых, с изменением понятия о своих возможностях и перераспределением значимости обоих стабильных факторов; и, во-вторых, — и это
единственное, из чего исходил Вайнер, — с изменением относительного веса стабильных и вариабельных факторов. Исследователям еще только предстоит выяснить, в какой мере происходит изменение ожиданий первого или второго типа в том или ином случае. Данные же, имеющиеся на сегодняшний день, неоднозначны. Разумеется, при возрастании частоты успеха ожидание успеха всегда повышается, а при возрастании частоты неудач снижается, однако эти изменения не обязательно оказываются более выраженными при более сильной атрибуции стабильным факторам (как мы увидим на примере исследования самого Вайнера). Довольно часто выявлялась взаимосвязь между параметром стабильности и величиной ожидания успеха в начале опыта, до или после первого (а иногда и последующих) успеха или неудачи, т. е. первоначальной высотой уровня ожиданий (Fontaine, 1974; McMahan, 1973; Valle, Frieze, 1976; Weiner, Nierenberg, Goldstein, 1976). При более выраженной атрибуции относительно стабильных причин ожидание успеха после достижения успеха повышается, а в случае неудачи снижается заметнее, чем при менее выраженной атрибуции. (Это зафиксировано в работе Макмахана, непосредственно наблюдавшего переживания, возникающие при выполнении задания, и установившего, что изменения по параметру стабильности затрагивали лишь фактор способностей, но не фактор сложности.) Таким образом, полученные данные, казалось бы, подтверждают гипотезу стабилизации понятия о своих возможностях.
Однако ни в одном из проведенных исследований не анализировался пересмотр соотношения способностей и сложности задания от попытки к попытке. Стоит также отметить, что атрибуция относительно стабильных факторов была более выраженной, когда результат не противоречил предшествующим ожиданиям (McMahan, 1973). Таким образом, выявленные к настоящему времени цепи зависимостей, относящихся к величине (но не к скорости изменения) ожиданий успеха, можно суммировать следующим образом: 1) соответствующий ожиданиям успех (неудача) — более выраженная атрибуция относительно стабильных факторов — высокое (низкое) ожидание успеха; 2) противоречащий ожиданиям успех (неудача) — менее выраженная атрибуция относительно стабильных факторов — повышение (снижение) ожидания успеха.
Вайнер и его коллеги (Weiner, Nierenberg, Goldstein, 1976) попытались осуществить «решающий > эксперимент, подтверждающий большую адекватность теоретико-атрибутивного подхода (согласно которому более явная выраженность атрибуции относительно стабильных факторов должна вести к более резким изменениям ожиданий успеха и неудачи) по сравнению с роттеровской теорией социального научения. Рассмотрим этот эксперимент подробнее. Полученные сторонниками теории социального научения данные о более сильном изменении ожиданий после успеха или неудачи в выполнении заданий, решение которых определяется способностями, а не случайностью (см.: Phares, 1967; James, Rotter, 1958; Rotter, Liverant, Crowne, 1961), противоречат теоретико-атрибутивному подходу, поскольку способность является стабильным, а случайность — меняющимся фактором. Однако в теории социального научения этот параметр смешивается с параметром локуса контроля. Для двух оставшихся факторов — старания и сложности задания —
следствия из обеих теорий будут противоположными: согласно теории социального научения, атрибуция относительно старания, являясь внутренней, ведет к более сильным изменениям ожиданий, чем (внешняя) атрибуция относительно сложности задания (см. главу 5); согласно теории атрибуции, напротив, к большим изменениям ожиданий должна вести не атрибуция относительно (меняющегося) старания, а атрибуция относительно (стабильной) трудности задания.
Свое доказательство авторы строили на попарном сопоставлении значимости всех четырех факторов, причем члены каждой пары всегда различались лишь одним из параметров (например, способность и сложность задания — оба фактора стабильны, но различаются локализацией). Испытуемые решали задачи на складывание фигур из фрагментов (Figurlege-Aufgaben) и достигали успеха соответственно 1, 2, 3, 4 или 5 раз подряд. В конце эксперимента все они оценивали вероятность успеха (сколько заданий из 10 будут решены правильно) и объясняли достигнутый ими успех.
Наиболее важные данные, полученные для двух подгрупп, атрибуции которых различались либо стабильными, либо внутренними факторами, приведены на рис. 14.6. Из анализа показателей по параметру стабильности видно, что по уровню ожиданий группы различаются лишь вначале (после одного или двух успехов). С увеличением числа успехов это различие сходит на нет, а это означает, что вопреки вытекающей из теории атрибуции гипотезе именно у испытуемых со слабо выраженной атрибуцией относительно стабильных факторов ожидания претерпевают наиболее сильные изменения. То же самое можно сказать и о параметре локализации: более сильные изменения ожиданий характерны для испытуемых с более выраженной атрибуцией относительно внешних факторов. Таким образом, данные по изменению ожиданий, полученные, во-первых, в рамках серии успехов и, во-вторых, после большого числа успехов, противоречат как теоретико-атрибутивному подходу Вайнера, так и теории социального научения. Позиция Вайнера подтвердилась лишь в отношении величины ожидания после успеха. Параметр локализации, которому теория научения приписывала решающее значение, оказался несущественным.
По-видимому, взаимосвязь атрибуции и изменения ожиданий сложнее, чем предполагали Вайнер и его коллеги. Помимо влияния процесса атрибуции на ожидание, существует еще и обратное воздействие ожидания на процесс атрибуции (Feather, Simon, 1971), причем этот цикл взаимовлияний возобновляется после каждого очередного результата. Чем сильнее результат противоречит исходному ожиданию, тем меньше он будет атрибутироваться относительно стабильных факторов (Feather, 1969; Feather, Simon, 1971; Frieze, Weiner, 1971; Gilmor, Minton, 1974) и тем меньше будет сказываться на ожидании следующего результата согласно принципу ожидания Вайнера (см. данные и построенные на них формальные модели: McMahan, 1973; Valle, Frieze, 1976).
Об одном из звеньев непрерывной цепочки ожиданий и каузальных атрибуции говорит исследование Брауна (Brown, 1984). Перед тем как испытуемые переживали многократный успех или неуспех в заданиях на формирование понятий, Браун индуцировал у них приподнятое или, наоборот, подавленное настроение.
Соответственно перед началом работы у испытуемых в приподнятом настроении были более высокие ожидания успеха, а у испытуемых в подавленном настроении — неопределенные ожидания успеха. После выполнения задания испытуемые в приподнятом настроении и с исходным ожиданием успеха в ситуации успеха приписывали свои результаты стабильным причинам в большей мере, чем в ситуации неуспеха, и далее сохраняли высокую уверенность в успехе. В отличие от этого испытуемые в подавленном настроении и с неопределенными ожиданиями успеха в меньшей степени приписывали свои результаты стабильным причинам в условиях как успеха, так и неудачи и были менее уверены в своем будущем успехе, чем испытуемые в приподнятом настроении. Если испытуемые в приподнятом настроении после успеха поддерживали исходно оптимистическую концепцию своих возможностей при атрибуции стабильным факторам, то после неуспеха они понижали эту концепцию и одновременно начинали считать свои результаты обусловленными менее стабильными причинами. В отличие от этого на испытуемых в подавленном настроении успех и неудача не оказывали влияния, и они сохраняли неопределенное представление о своих возможностях.
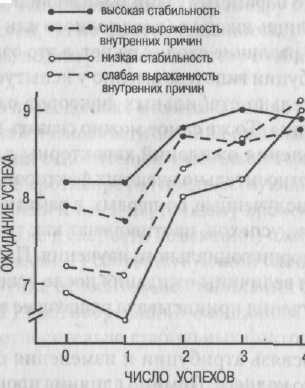
Рис. 14.6. Зависимость средних оценок вероятности успеха от числа предшествующих успехов
у испытуемых, возлагавших ответственность за результат на а) стабильные и 6} внутренние причины
(Weiner, Nierenberg, Goldstein, 1976, p. 62)
К настоящему времени установлена лишь следующая взаимосвязь: у человека с более или менее высокими (низкими) ожиданиями успешного выполнения предстоящего задания, выполнившего его соответственно этим ожиданиям, сохраняется или даже усиливается атрибуция относительно стабильных факторов и одновременно повышаются (снижаются) изначально высокие (низкие) ожидания успеха (что соответствует так называемым типичным сдвигам уровня притязаний). Если же результат противоречит ожиданиям, то прежде всего исходная атрибуция смещается в сторону изменчивых факторов и как следствие этого тормозится повышение или понижение первоначальных ожиданий.
Прогнозирование успеха других людей
Ожидание достижения успеха другими людьми так же, как и ожидание успешности собственного действия, зависит от причинных факторов, которые субъект считает решающими для данного результата действия (Valle, 1974; Valle, Frieze, 1976). Поскольку подобного рода прогнозирование характерно прежде всего для деятельности учителя, РаЙнберг (Rheinberg, 1975) предложил двум выборкам учителей обычных школ оценить различные факторы учебных успехов с точки зрения их стабильности. Как видно из рис. 14.7, такие факторы, как общие умственные способности, специальные способности К соответствующему предмету, а также домашняя обстановка, в основном были сочтены достаточно стабильными во времени. Интерес к учебному материалу и физическое и душевное состояние были признаны изменчивыми факторами. Промежуточное положение между этими стабильными и изменчивыми причинами занял такой фактор, как общее отношение к работе, выражающий характерный для индивида уровень старания.
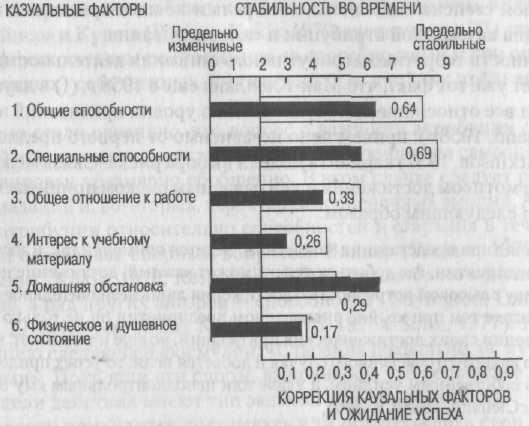
Рис. 14.7. Оцениваемая учителями стабильность различных каузальных факторов успешности занятий
определенным предметом и корреляция между выраженностью этого фактора и прогнозируемым учителем
успехом школьников, показатели которых репрезентативны для соответствующей подгруппы класса
(поданным Rheinberg, 1975, р. 183,192)
В другом исследовании еще одна группа учителей шкалировала значимость отдельных причинных факторов для текущего уровня достижений трех школьников, показатели которых были репрезентативны для подгрупп класса с низкой, средней и высокой успеваемостью, а также прогнозировала уровень их успехов в следующей четверти. Чем в большей степени тот или иной причинный фактор оценивался как стабильный, а не изменчивый, тем сильнее он определял прогнозируемую успешность, что отчетливо видно по величине коэффициентов корреляции, представленных на рис. 14.7. Решающим для прогноза учителей оказался не
интерес к учебному материалу или физическое и душевное состояние, а общие и специальные способности. Общее отношение к работе заняло промежуточное положение. Лишь один фактор выпадает из этой стройной закономерности, а именно домашняя обстановка. Хотя он и является стабильным, учителя считают его слишком внешним для непосредственного влияния на школьные достижения.
Параметр локализации: самооценочные эмоции
Теория мотивации достижения в ее первоначальном виде не рассматривала деятельность достижения как некоторую рефлексивную активность, в ходе которой субъект принимает во внимание причины возможного или уже наступившего успеха и неудачи и, кроме того, в форме самооценочных эмоций может руководствоваться предвосхищением возможных последствий действия. Тем не менее уже в первых экспериментах эти пробелы начали заполняться. В модели выбора риска (ср. главы 5 и 8), по сути своей являющейся моделью процесса самооценки, они уже в значительной степени заполнены, хотя речь и не идет при этом о когнитивных процессах типа каузальной атрибуции и самооценивания.
Естественность теоретико-атрибутивного описания деятельности достижения иллюстрирует уже тот факт, что Мак-Клелланд еще в 1958 г. (!) в двух фразах охарактеризовал все относящиеся к установлению уровня притязаний закономерности (McClelland, 1958b), причем явно независимо от первого предложенного Ат-кинсоном (Atkinson, 1957) варианта модели выбора риска. Связь между отчетливо выраженным мотивом достижения и учитываемым риском принимаемых решений он обосновал следующим образом:
«Рассуждение при предсказании такой связи ведется примерно так: в абсолютно надежном предприятии, где добиться успеха может каждый, достижение цели принесет индивиду с высокой потребностью достижения лишь незначительное удовлетворение. Вместе с тем при крайне рискованном предприятии он не только почти уверен в крушении своих достиженческих притязаний, но еще и понимает, что если он с помощью какого-то счастливого случая и добьется цели, то успех придется приписать не его собственным усилиям, а удаче или неподконтрольным ему обстоятельствам» (McClelland, 1958b, p. 306).
С этого момента началось использование теории атрибуции для объяснения деятельности достижения (Weiner, Kukla, 1970, особенно эксперимент VI). Первоначально было выдвинуто интуитивно правдоподобное, однако чересчур расплывчатое положение о том, что к аффектам ведет внутренняя локализация причин успеха и неудачи (Weiner et al., 1971; см. табл. 14.3). Это положение основывалось на чрезмерно обобщенных данных по оценке достижений другого человека. Впоследствии эти данные стали более дифференцированными. Среди многообразных эмоций, которые могут возникать при осуществлении деятельности достижения (например, раздражение, гнев, когда кто-либо мешает субъекту), с внутренней локализацией причин связаны лишь самооценочные эмоции, и именно они, как это и предполагалось уже в первоначальной модели выбора риска, обладают мотивирующей функцией.
Самооценочные эмоции: атрибуция относительно способностей и старания
Первоначально Вайнер (Weiner, 1972, 1974) приписал атрибуции относительно старания большую аффектогенность, чем атрибуции относительно способностей. Основанием для этого послужили многократно подтвержденные данные по оценке достижений другого человека, согласно которым старанию приписывается более важная роль, чем способностям (Weiner, Kukla, 1970; Rest et al., 1973). Однако перенос данных по оценке со стороны на самооценочные эмоции по целому ряду причин является сомнительным. Во-первых, при сторонней оценке речь идет не об эмоциях, а об оценивающих санкциях в виде похвалы и порицания. Во-вторых, эти оценки по своей природе направлены на то, чтобы как-то повлиять на оцениваемого человека, а поскольку старание представляет собой не только внутренний, но и управляемый фактор (см. ниже раздел о параметре контроля), то направленность оценки именно на него, а не на способности напрашивается сама собой. В-третьих, при сторонней оценке, т. е. при наличии внешнего наблюдателя, необходимо учитывать сдвиг в перспективе наблюдения (см. главу 13). Впрочем, в одном из экспериментов Вайнера и Куклы (Weiner, Kukla, 1970, эксперимент III) старание оказалось более аффектогенным по сравнению со способностями и при оценке результатов (фиктивных) собственных достижений (см. критику этого эксперимента:
Sohn, 1977).
Постепенно стало очевидно, что вопрос о важности атрибуции относительно способностей или относительно стараний для возникновения самооценочных эмоций сформулирован чрезмерно обобщенно. В этом случае следует различать, во-первых, тип заданий и, во-вторых, характер самооценочных эмоций. Аффективная значимость атрибуции относительно способностей и старания в течение некоторого времени оставалась спорным вопросом. Вайнер (Weiner, 1972, 1974) и его коллеги (Weiner, Kukla, 1970; Rest et al., 1973) считали более аффективно значимым старание, а ряд других авторов — способности (Covington, Omlich, 1979b, с; Heckhausen, 1978; Meyer, 1973b; Nicholls, 1975, 1976a; Sohn, 1977). Николе выразил эту позицию следующей формулой: «Старание похвально, но лучше обладать способностями». Пока шли эти споры, выяснилось, что решающее значение для постановки цели действия имеют тип задания и норма сравнения.
Если человеку приходится доказывать или подтверждать свои способности, и речь, следовательно, идет о способностях в нормативном смысле (Nicholls, 1984a, b), т. е. о социальной норме сравнения, то атрибуция относительно способностей оказывается важнее атрибуции относительно старания как после успеха, так и после неудачи, особенно если речь идет о заданиях, важных с точки зрения будущих академических или профессиональных успехов. При этом в случае неудачи возникает кажущаяся парадоксальной ситуация, когда сильное старание еще больше подчеркивает недостаток способностей в смысле компенсаторной каузальной схемы (Heckhausen, 1978; Nicholls, 1976a; Covington, Omelich, 1979b). На рис. 14.8 приведены некоторые из этих данных (Heckhausen, 1978). После неудачи негативная самооценка оказывается более выраженной, если человек приписывал себе меньшие способности и большее старание, чем в случае, если он приписывал себе большие способности и меньшее старание.
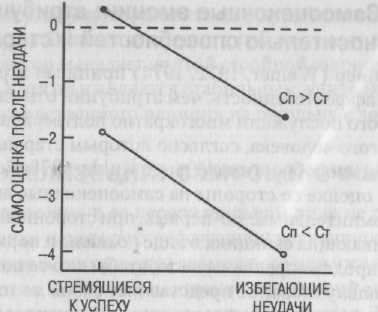
Рис. 14.8. Самооценка испытуемых, чьи значения приписываемых себе способностей превышают значения
приписываемого себе старания (Сп > Сг) или наоборот (Сп < Ст), после противоречащей ожиданиям серии
неудач в выполнении ориентированного на способности задания (Heckhausen, 1978, S. 205}
В противоположность этому старание и настойчивость оказываются более аффективно значимыми при самооценке после успеха или неудачи, если человек руководствуется индивидуальной нормой сравнения, если он хочет расширить свои познания и умения — одним словом, если речь не идет о сравнении своих способностей (считающихся врожденными) с чужими. Ример (Riemer, 1975) обнаружил, что в такого рода ситуации — в его исследовании новички упражнялись в игре на фортепиано — старание не менее важно для возникновения эмоций, чем способности, если предварительно либо один, либо другой из этих факторов указывался в качестве решающего. А при выполнении заданий на концентрацию внимания Шнайдер (Schneider, 1977) как после успеха, так и после неудачи обнаружил более тесную корреляцию эмоций с атрибуцией относительно старания, чем с атрибуцией относительно способностей.
В целом результаты свидетельствуют о том, что атрибуция относительно способностей является тем более эмоционально значимой для самооценки по сравнению с атрибуцией относительно старания, чем в большей степени речь идет о доказательстве своих способностей в нормативном смысле, т. е. чем в большей степени эта атрибуция позволяет сделать выводы о своей нынешней и будущей способности кдостижениям — которую невозможно предсказать исходя из ситуативного приложения усилий. К тому же при такого рода фиксации на способностях и ориентации на будущее аффективная значимость старания приобретает обратный знак в духе компенсаторной каузальной схемы: чем к большему успеху или неуспеху приводит сильное старание, тем больше обесценивается переживание успеха и тем больше усиливается переживание неудачи.
Виды самооценочных эмоций
В одном из своих первых экспериментов Вайнер и Кукла (Weiner, Kukla, 1970, эксперимент III) просили будущих учительниц поставить себя на место школьника, который за работу в классе получил одну из пяти отметок (от «неудов-
летворительно» до «отлично») и для которого, к тому же, характерна одна из четырех комбинаций наличия — отсутствия способностей и старания. В каждом из 20 возможных случаев (5 градаций отметок х 4 комбинации особенностей) испытуемые должны были оценить величину переживаемых в этой ситуации гордости или стыда. Обе эти эмоции были заимствованы из аткинсоновского определения привлекательности обоих мотивов достижения (Atkinson, 1964). Результаты приведены на рис. 14.9. Самооценка, становящаяся по мере улучшения отметки все более позитивной, модифицировалась в соответствующей констелляции причин таким образом, что решающей оказывалась атрибуция относительно старания. Отсутствие способностей и наличие старания уменьшали чувство стыда при плохих результатах работы в классе и усиливали гордость при достижении успеха по сравнению с констелляцией наличия способностей и отсутствия старания.
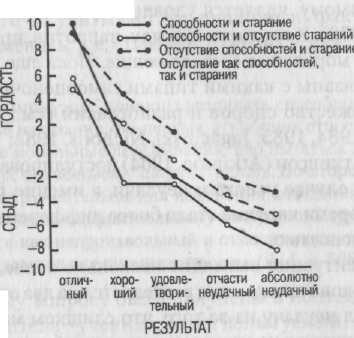
Рис. 14.9. Зависимость переживания эмоций гордости и стыда при различном гипотетическом успехе в выполнении классной работы от наличия либо отсутствия способностей и старания (Weiner, Kukla, 1970, p. 6)
Если пренебречь тем, что в данном случае в роли школьников выступали будущие учителя, то эти результаты можно объяснить пониманием работы в классе как ориентированной скорее на старание, чем на способности. Зон (Sohn, 1977) предложил другое объяснение этих результатов и смог его подтвердить. Он обратил внимание на то обстоятельство, что стыд и гордость не являются эмоциями, нейтральными в моральном отношении.
«В культуре нашего типа гордость и стыд являются реакциями, особенно тесно связанными с ощущением того, что некто сделал или не сделал все от него зависящее, т. е. приложил максимум усилий. Эти эмоции имеют моральный оттенок, который делает их адекватными реакциями на восприятие таких характеристик поведения, которые, по-видимому, поддаются произвольному контролю, например старания...» (ibid., р. 501).
Гордость и стыд, несомненно, представляют собой эмоции, определяемые некоторой социальной точкой отсчета: они переживаются в присутствии других людей. В этом проявляется моральный характер нормы: сделать все зависящее от челове-
ка, Этим переживаниям Зон противопоставил морально нейтральные самооценочные эмоции удовлетворения и недовольства. Испытуемых просили представить себе, что они заслужили высшую (низшую) отметку, и затем указать, при каком из четырех процентных соотношений старания и способностей (80 к 20; 60 к 40; 40 к 60; 20 к 80) человек чувствует себя наиболее удовлетворенным (неудовлетворенным) или же ощущает наибольшую гордость (стыд). Данные исследования показали, что при морально нейтральных эмоциях удовлетворенности и недовольства более аффектогенным было преобладание атрибуции относительно способностей, а преобладание атрибуции относительно старания сильнее сказывалось на «моральных» эмоциях гордости и стыда/
Таким образом, самооценочные эмоции могут различаться в случае таких результатов, которые, как успехи в учебе, не представляются однозначно обусловленными либо способностями, либо старанием. Наиболее однозначной оценочной эмоцией, по-видимому, является удовлетворенность—неудовлетворенность собой (Heckhausen, 1978). К гордости и стыду, напротив, примешиваются определенные социальные и моральные составляющие. Пока еще не вполне ясно, какие именно атрибуции связаны с какими типами самооценочных эмоций, хотя этот вопрос и вызвал множество споров и разногласий (см.: Brown, Werner, 1984; Covington, Omelich, 1984, 1985; Jagacinski, Nicholls, 1984; Weiner, Brown, 1984). Если первоначально Аткинсон (Atkinson, 1964) постулировал лишь одну пару эмоций, переживаемых в случае успеха и неудачи, а именно гордость и стыд, то за прошедшее с тех пор время картина стала более дифференцированной, хотя и не отличается большой ясностью.
В случае неудачи ситуация выглядит несколько яснее, чем в случае успеха. Постулированный первоначально стыд разделяется на два отдельных вида эмоций. Если человек потерпел неудачу из-за того, что слишком мало старался, то он испытывает ощущение вины: он не сделал наилучшим образом то, что было вполне в его силах. За это он сам несет ответственность. Иначе обстоит дело в том случае, когда причиной неудачи стали недостаточные способности субъекта. В этом случае результатом оказывается стыд: субъект ощущает, что он осрамился перед окружающими, поскольку он вынужден признать перед лицом других людей свой изъян, за который он хотя и не несет ответственности, но который является его долговременной характеристикой. Таким образом, различие между стыдом и чувством вины проходит по показателю подконтрольности события.
В случае успеха испытуемые чаше всего сообщают о чувстве гордости, а также о чувстве собственной компетентности. Гордость представляет собой социальную эмоцию, чувство, возвышающее победителя над побежденным. Поэтому можно предположить (однако этот вопрос до сих пор не исследовался), что в случае индивидуальной сравнительной нормы и деятельности, ориентированной на задачу, будет иметь место не гордость, а радость либо в смысле удовлетворенности собой, либо в смысле удовлетворения успешным выполнением работы. Такого рода различения, очевидно, предполагают более сложные методики, чем простой выбор испытуемыми названия подходящей эмоции; здесь может оказаться полезным анализ выразительного поведения после успеха и неудачи.
Параметр контроля: внешняя оценка и переживание себя
Старание представляет собой не просто внутренний фактор, но фактор, поддающийся произвольному контролю. Поэтому человек несет ответственность за приложенное старание и его можно упрекнуть за недостаток такового. Вот почему при самооценке атрибуция относительно старания может, как мы уже видели, оказаться более аффектогенной, чем атрибуция относительно способностей, при условии, что выполнение задания в большей степени зависит от старания и что речь идет об эмоциях, включающих элементы морали типа гордости и стыда. В случае внешней оценки такая зависимость вполне однозначна: аффектогенностью обладает исключительно атрибуция относительно старания. Поскольку другой человек не только объясняет действие субъекта, но и хочет похвалой и порицанием повлиять на него, вполне естественно, что он учитывает тот причинный фактор, который субъект может произвольно изменять, т. е. старание. Вайнер (Weiner, 1977) по этому поводу пишет;
«Существуют, по-видимому, две причины различать способности и усилия как детерминанты награды и наказания. Во-первых, атрибуция относительно усилий пробуждает интенсивные моральные переживания, ибо пытаться достичь ценимой обществом цели — это то, что человеку "следует" делать. Во-вторых, вознаграждение и наказание усилий инструментальны для изменения поведения в той мере, в какой усилия считаются доступными произвольному контролю. С другой стороны, способность воспринимается как непроизвольный и относительно стабильный фактор и, таким образом, не поддается внешнему контролю» (ibid., p. 508).
Все данные по этому вопросу были получены в исследованиях, воспроизводящих отношения «учитель—ученик», когда испытуемый, оказавшись в положении учителя, на основе информации о достигнутых учеником результатах и их причинах должен был хвалить или упрекать, вознаграждать или наказывать ученика (Lanzetta, Hannah, 1969). Вайнер и Кукла (Weiner, Kukla, 1970), а также Реет и его коллеги (S. Rest et al., 1973) предлагали испытуемым оценить гипотетические ситуации, предоставляя информацию не только о достигнутых субъектом результатах (пять градаций) и его способностях (две градации), но и о степени старания (две градации). Данные, полученные в исследованиях такого рода, оказались весьма однозначными независимо от того, шла ли речь об американских (Weiner, Kukla, 1970) или индийских студентах (Eswara, 1972), швейцарских учителях (Rest et al., 1973) или же детях и подростках из США (Weiner, Peter, 1973), Англии (Leichman, 1977) или Ирана (Salili, Maehr, Gillmore, 1976). На рис. 14.10 приведены оценки американских студентов, которых просили поставить себя на место учителя начальной школы, оценивающего работу в классе. Эти оценки весьма схожи с теми, которые были получены, когда будущие учительницы должны были определить самооценку школьников (см. рис. 14.9). В ситуации успеха значительное старание поощрялось сильнее, чем выдающиеся способности, а при неудаче отсутствие старания наказывалось сильнее, чем отсутствие способностей.
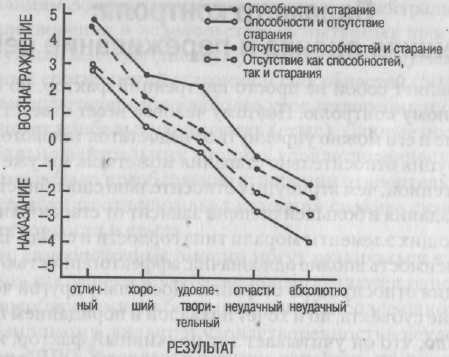
Рис. 14.10. Зависимость вознаграждения и наказания гипотетических школьников за работу в классе со стороны испытуемых-учителей от наличия (отсутствия) способностей и старания (Weiner, Kukla, 1970, p. 3)
Поскольку оценка достижений другого человека определяется предполагаемым старанием, то в похвале и порицании содержится неявное суждение о способностях, которое оцениваемый субъект может реконструировать на основе компенсаторной каузальной схемы для градуальных эффектов. Когда кого-нибудь чрезмерно хвалят за успех, достигнутый при выполнении легкого задания, можно сделать вывод, что оценивающий считает этого человека не очень одаренным. Когда же человека ругают за неудачу при выполнении сложного задания, можно сделать вывод, что в глазах оценивающего этот человек обладает большими способностями. Необходимыми предпосылками для такого рода суждений являются: 1) ориентация сторонней оценки на старание и 2) компенсаторная каузальная схема. Если оцениваемый считает оценивающего компетентным, а суждение последнего — справедливым, то похвала может побуждать его к снижению самооценки, а порицание — к ее повышению.
Такое, лишь на первый взгляд парадоксальное влияние похвалы и порицания на оценку собственных способностей было установлено в исследовании Мейера и Плегера (Meyer, Ploger, 1979; Meyer, 1978). Испытуемых просили поставить себя на место школьника, которого, в отличие от его одноклассников, показавших тот же результат, либо хвалили, либо критиковали за неудовлетворительное выполнение легкого задания. Кроме того, испытуемые в качестве показателя изменения представления о своих способностях оценивали (причем в сравнении с одноклассниками) свое ожидание успеха при выполнении заданий того же типа, но различной сложности, а также степень симпатии, с которой учитель относится к ним самим и к их одноклассникам. Влияние представления о компетентности лица, выносящего оценочное суждение, также принималось в расчет — школьника хвалил и критиковал либо учитель, знакомый с его учебными достижениями, либо замещавший этого учителя преподаватель, не знакомый с обычным уровнем достижений школьника.
Как видно из рис. 14.11, похвала со стороны компетентного учителя за успешное выполнение легкого задания вызывала явное снижение ожидания успеха в сложном задании, т. е. снижение самооценки способностей; порицание же приводило к росту такой самооценки. Напротив, и похвала, и критика со стороны некомпетентного замещавшего преподавателя расценивались как проявления симпатии и антипатии.
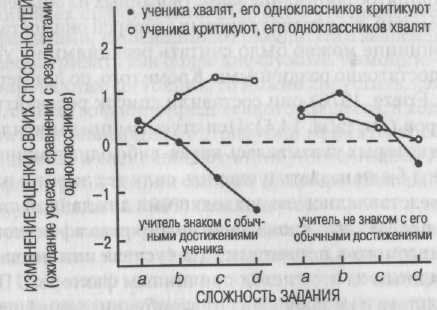
Рис. 14.11. Изменения (служившие показателем оценки своих способностей) ожиданий успеха
при выполнении заданий различной сложности (а - легкое, b - среднее, с - трудное, d - очень трудное),
после того как знакомый или незнакомый учитель похвалил или раскритиковал ученика за выполнение
легкого задания (Meyer, Ploger, 1979, р, 231)
В том случае, когда эти данные предъявляются испытуемым как полученные в гипотетическом эксперименте, в сценарий которого они должны вжиться (испытуемые представляют себя на месте школьников), результаты оказываются теми же (Meyer, 1982, 1988b; Meyer, Bachmann, Biermann, Hempelmann, Ploger, Spiller, 1979). Баркер и Грэхем (Barker, Graham, 1987), работая с детьми в возрасте от 4 до 12 лет, обнаружили этот феномен лишь у самых старших детей. У младших же наблюдалась обратная зависимость: при похвале оценка своих способностей повышалась, а при порицании — снижалась. Это различие указывает на то, что дети осваивают компенсаторную каузальную схему лишь в возрасте примерно 12 лет.
Каузальные параметры и эмоции
Утверждение Аткинсона, что именно гордость и стыд суть специфические эмоции привлекательности мотива достижения, как и представление ВаЙнера о том, что только внутренняя локализация атрибуции вызывает «специфические аффекты», оказались чересчур поспешными и односторонними. В современных исследованиях мотивации достижения простому постулированию возникновения тех или иных эмоций и их роли в мотивационном процессе, что свойственно, например, модели аффективного сдвига (McClelland et al., 1953), все более предпочитается эмпирическое изучение этих вопросов.
Эмоции, переживаемые по достижении результата
Первую попытку систематически проследить связь между атрибуцией и аффектом сделали Вайнер, Рассел и Лерман (Weiner, Russel, Lerman, 1978a, b, 1P79). (Термины «эмоция» и «аффект» используются здесь как синонимы.) Методические трудности, связанные с дифференциацией, классификацией и фиксацией эмоций, они попытались преодолеть довольно простым, но не очень надежным способом, положившись на общепринятое понимание заимствованных из обыденной речи обозначений отдельных эмоций. На основе толковых словарей они составили список эмоций, которые в принципе можно было считать реакциями на успех и неудачу и которые казались достаточно различными. Кроме того, по примеру Элига и Фризе (Elig, Frieze, 1975; Frieze, 1976) они составили список релевантных достижению каузальных факторов (см. табл. 14.4). Испытуемым предъявлялись короткие истории, в каждой из которых указывалась какая-либо одна причина успеха или неудачи, а они должны были назвать и оценить силу тех эмоций из предложенного списка, которые представлялись им подходящими для данной ситуации.
Анализ данных показал, что проявление целого ряда аффектов зависит исключительно от описываемого в истории исхода (успеха или неудачи), но никак не связано с ответственным за этот исход причинным фактором. Примерами таких зависящих от результата и не зависящих от атрибуции эмоций являются: в случае успеха — довольное, счастливое, удовлетворенное, хорошее настроение, в случае неудачи — невеселое, недовольное, расстроенное состояние. Но, как выяснилось, имеются также и аффекты, связанные с каким-либо одним причинным фактором, и дифференцирующие причинные факторы. Такие зависящие от атрибуции аффекты представлены в табл. 14.4. В частности, в ситуации успеха атрибуция относительно способностей ведет к ощущению уверенности в себе и своей компетентности, атрибуция относительно ситуационного старания — к повышению активности и ощущению собственного могущества, относительно старания как устойчивого отношения к работе — к расслаблению, относительно собственных личностных свойств — к повышению самооценки, относительно других людей — к благодарности, относительно везения — к удивлению.
Таблица 14.4 Атрибуции и доминирующие эмоции при успехе и неудаче (Weiner etal., 1979)
|
Атрибуция относительно |
Эмоции |
|
|
|
после успеха |
после неудачи |
|
Способностей |
Уверенность в себе, |
Ощущение |
|
|
ощущение компетентности |
некомпетентности |
|
Ситуационного старания |
Нарастание активности |
Вина, стыд |
|
Стабильного старания |
Расслабление |
Вина, стыд |
|
Личностиi.ix свойств |
Повышение самооценки |
Уныние |
|
Ддругих людей |
Благодарность |
Агрессия |
|
Ведения или невезения |
Удивление |
Удивление |
Если правомерность рассмотренных соответствий окажется не просто обычной семантической конвенцией, то исходя из этих соответствий можно будет разработать определенные мотивационно-психологические гипотезы. Так, различные аффекты могут обладать неодинаковым значением привлекательности для разных людей. Одних людей будут мотивировать, например, ситуации, позволяющие им при атрибуции относительно способностей еще раз ощутить свою компетентность. Другие же могут ощутить желание действовать, только когда ситуация будет требовать напряжения всех сил субъекта. Еще одно утверждение поможет уяснить разницу между аффектами, зависящими от результата и зависящими от атрибуции. Если аффекты рассматривать как более диффузные, а эмоции — как более когнитивно трансформированные состояния, то можно допустить, как это сделали авторы исследования, существование определенного процесса, в ходе которого зависящие от результата и не зависящие от атрибуции аффекты когнитивно обрабатываются и превращаются в зависящие от атрибуции эмоции. Такой ход событий отвечал бы двухфакторной теории эмоций Шахтера (Schachter, 1964) и теории переоценки Лазаруса (Lazarus, 1968) (см. главу 4).
Прежде чем принять такого рода утверждения, полученные данные необходимо подтвердить с помощью менее спорных методов. Среди связанных с атрибуцией аффектов из табл. 14.4 можно выделить соответствующие внутренним каузальным факторам различные самооценочные эмоции, но при этом нельзя указать какой-либо обобщенный, т. е. специфичный для данного параметра, тип аффекта, Однако этот аффект был выявлен на следующей стадии исследования, когда использовался иной методический прием — методика критических случаев. Испытуемым предъявлялся опросник, содержавший 12 заданий с различными сочетаниями успеха и неудачи и 6 вызвавших эти сочетания причинных факторов (способности, ситуационное и стабильное старание, личностные свойства, другие люди, случайность). Испытуемые должны были припомнить соответствующий этому сочетанию случай из собственной жизни, описать этот случай в нескольких словах и с помощью трех из названных эмоций охарактеризовать свои переживания в тот момент (на всякий случай испытуемым предлагалось по семь эмоций, сопровождающих успех или неудачу и, как показало предварительное исследование, специфичных для них).
Полученные результаты отчасти подтвердили уже имевшиеся данные. Во-первых, были зафиксированы эмоции, зависящие исключительно от результата, такие как удовлетворение в ситуации успеха и депрессия или фрустрация в ситуации неудачи. Во-вторых, в 9 из 12 сочетаний результата и причин снова были зафиксированы те же или сходные и зависящие от атрибуции аффекты, что и раньше (см. табл. 14.4). Однако ситуационное старание оказалось теперь связанным не с активацией, а с расслаблением и удовлетворенностью, а неудача вследствие личных недостатков вообще не порождала какой-либо специфичной эмоции. Сопоставление аффектов, соответствующих четырем внутренним (способности, ситуационное и стабильное старание, личность) и двум внешним (другие люди, случайность) факторам, позволило выделить эмоции, специфичные для параметра локализации. В случае успеха внутренней локализации соответствовали такие самооцеиочные эмоции, как гордость, чувство компетентности, уверенность в себе и удовлетворение, внешней локализации — столь разные эмоции, как благодарность, удивление
и чувство вины. В случае неудачи внутренняя атрибуция провоцировала прежде всего чувство вины, а внешняя — гнев и удивление. Таким образом, чувство вины могло сопровождать как неудачу, так и успех; при успехе оно было связано с внешней атрибуцией, при неудаче — с внутренней.
Если процессы атрибуции приводят к возникновению определенных эмоций, то эмоции позволяют установить, каким причинам субъект приписывает результаты своего действия. Возможно, человек именно потому так часто старается сдержать свои эмоции, что хочет скрыть от других те мысли, которые к этим эмоциям привели. Существование подобного способа определения атрибуции было подтверждено в одном из последующих экспериментов Вайнера и его коллег (Werner et al., 1979). В этом эксперименте использовались короткие истории об успехах и неуд'ачах, в каждой из которых сообщалось о трех эмоциях действующего лица, которые, по предварительным данным, были наиболее однозначно связаны с каким-либо из шести причинных факторов. Испытуемые должны были указать, какой же из этих факторов (способности, ситуационное или стабильное старание, другие люди, случайность, сложность задания) герой считает ответственным за исход описанной ситуации.
В подавляющем большинстве случаев испытуемые исходя из аффектов указывали правильные причинные факторы; однако не было установлено какой-либо закономерности для сложности задания. Специфические взаимосвязи с внутренней и внешней локализацией подтвердились еще раз. Полученные данные снова возвращают нас к предположению о последовательности процесса возникновения эмоций. Зависящие от результата диффузные аффекты в результате когнитивной переработки сначала превращаются в эмоции, специфичные для данной конкретной атрибуции, а затем постепенно переходят в эмоции, связанные с тем или иным параметром.
Остается неясным, действительно ли имеет место процесс все большей конкретизации, описываемый Вайнером, или же его модель, изображенная на рис. 14.12 и представляющая эмоции в качестве посткогнитивных событий, сама является артефактом сбора данных. Ведь вполне может быть и так, что эмоции — с функциональной точки зрения — являются докогнитивными событиями, которые лишь впоследствии когнитивно перерабатываются и дают повод для тех или иных конкретных каузальных атрибуций (ср.: Zajonc, 1980). Во всяком случае, такая последовательность подходит для характеристики эмоции удивления. Дело обстоит не так, как предполагал Вайнер: в его представлении сначала событие приписывается случаю, а затем человек испытывает удивление. Скорее, наоборот, переживание удивления ведет к каузальной атрибуции, к поиску причин события, произошедшего вопреки ожиданиям (Meyer, 1988а). Удивление всегда предполагает противоречие ожиданиям, атрибуция же случаю может сопутствовать и ожидавшемуся событию, если человек считает, что не может повлиять на него своими действиями.
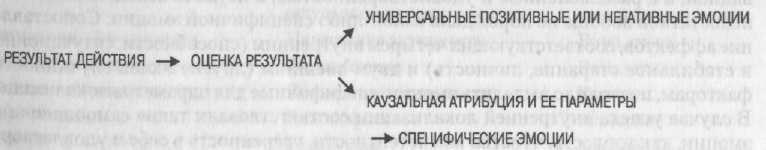
Рис. 14.12. Схема когнитивно-эмоционального процесса по Вайнеру {Weiner, 1985a, р. 560)
Кроме того, можно было бы еще поставить вопрос о том, не подразумеваются ли под атрибуцией еще и неосознаваемые процессы переработки информации. Ведь не подлежит сомнению тот факт, что каждая эмоция должна включать в себя процессы переработки информации, имеющие отношение к атрибуции. В таком случае эмоции и атрибуция оказываются двумя сторонами одного и того же процесса, и при этом мы не можем сказать, что что-то одно влечет за собой другое. Зато мы точно можем сказать, что человек не переживает сначала атрибуцию случаю, а затем удивление. Скорее, переживаемая последовательность является здесь обратной: сначала человек удивляется, а затем начинает искать причины своего удивления и при определенных обстоятельствах усматривает их в случае.
Поведенческие проявления
Приведенные данные не оставляют сомнений во влиянии атрибуций на ожидания и эмоции. Переменной привлекательности в модели выбора риска более всего соответствуют самооценочные предвосхищающие эмоции. В этом отношении исследования атрибуции вайнеровского направления способствовали уточнению предпосылок основных переменных модели выбора риска в теории мотивации — ожидания и привлекательности. Иными словами, эти исследования позволили выявить предварительные условия и основные этапы промежуточных когнитивных процессов мотивирования. Однако исследователи не остановились на достигнутом и попытались превратить атрибуции в действительно основные переменные в модели мотивации, отведя ожиданию и привлекательности роль простых опосредующих конструктов; тем самым они стремились выйти за рамки модели ожидаемой ценности, Основной сферой сосредоточения их интересов стала модель выбора риска; в первую очередь их интересовало объяснение таких параметров поведения, как выбор, настойчивость и достигнутые результаты. Как мы убедимся, попытка заменить модель выбора риска чисто теоретико-атрибутивным подходом оказалась неудачной, поскольку для объяснения отдельных параметров поведения понадобилось вводить различные дополнительные допущения, для которых пока не удалось создать цельной и убедительной альтернативной теоретической системы. Обратимся к последовательному рассмотрению параметров поведения.
Выбор задания
С точки зрения теории атрибуции субъект должен предпочитать задания средней сложности или уклоняться от них в зависимости от его заинтересованности или незаинтересованности в получении максимальной информации о своих возможностях (способностях и/или старании). Именно средняя степень сложности предполагает внутреннюю атрибуцию результата. При работе с такого рода заданиями незначительная ковариация с результатами других индивидов (низкая согласованность) ведет к приписыванию результата субъекту.
Вайнер и его коллеги (Weiner et al, 1971, p. 15-19), исходя из информации о согласованности (но не стабильности), утверждают, что ориентированные на успех индивиды стремятся к получению информации о своей деятельности и поэтому предпочитают задания средней сложности, в то время как индивиды, избегающие
неудачи, стремятся уклониться от такой информации и поэтому выбирают слишком легкие или чересчур сложные задания. Но поскольку внутренняя локализация максимизирует самооценочные эмоции, за основу можно взять также принцип максимизации аффекта, что и было сделано при построении модели выбора риска. Стремление к получению информации и максимизация аффекта приводят к одинаковым результатам, и следовательно, связанные с выбором предпочтения не позволяют решить вопрос в пользу того или иного подхода. Все это не помешало Вайнеру и его коллегам противопоставить аткинсоновскому определению мотива — «способность испытывать гордость за достигнутое» (Atkinson, 1964, р. 214) — собственное определение: «способность воспринимать успех как обусловленный внутренними факторами, в особенности старанием». Если отвлечься от теоретически необоснованного акцента на решающей роли старания (столь же необоснован он и в следующей работе: Weiner et al., 1972, p. 247), то из этого определения следует, что большая способность к внутренней атрибуции ориентированных на успех индивидов должна в случае успеха, согласно «аффективному» принципу модели выбора риска, усиливать чувство гордости (Weiner et al., 1971, p. 18) или, согласно «когнитивному» принципу, активизировать «поиск информации» (Meyer, Folkes, Weiner, 1976, p. 414).
Обратимся теперь к данным, полученным на основании столь неопределенной теоретической позиции. В двух исследованиях доказывалось, что задания средней сложности ведут к более выраженной атрибуции относительно старания и в силу этого предпочитаются другим. В первом из них (Weiner et al., 1972, эксперимент III) испытуемых просили, основываясь на результатах другого человека, оценить значимость старания для успешного решения каждой из пяти задач различной сложности (мера сложности задавалась информацией о согласованности, т. е. количеством (в %) людей, справлявшихся с задачей) и степень сложности, при которой приложение стараний наиболее оправдано. Старание оказалось наиболее значимым и оправданным для задач средней сложности. Во втором исследовании (Kukla, 1972b, эксперимент III) задание на угадывание цифр, результаты которого фактически определялись только случаем, предъявлялось испытуемым как зависящее либо исключительно от способностей, либо от способностей и старания. Чтобы угадать очередную цифру (от 1 до 9) из списка, предъявляемого экспериментатором, испытуемый мог избрать какую-либо более или менее удачную стратегию (всегда выбирать только одну цифру из девяти или же ограничиться меньшим их числом, вплоть до одной). Зависимой переменной выступала частота использования стратегии угадывания, характеризующейся средней вероятностью (от 4 до 6 цифр). Если успешное выполнение задание воспринималось испытуемыми как зависящее от их способностей и старания, то стратегия средней вероятности наиболее часто выбиралась лишь ориентированными на успех испытуемыми. Результаты обоих исследований вполне соответствуют предсказаниям, вытекающим из модели выбора риска.
Запрашивание обратной связи
Выбор сложности задания и запрашивание обратной связи о достигнутых при из-оранном уровне результатах — явления одного порядка. Этот параметр также не позволяет определить, что является «реальным» мотивирующим фактором: поиск
информации или максимизация аффекта. Мейер и его коллеги (Meyer et al., 1976) предлагали испытуемым выбрать партнера для игры в шахматы или в теннис, выигрыш у которого был возможен с той или иной степенью вероятности (от 10, 20... до 90%). Выбор партнера в одном случае определялся удовлетворенностью результатом игры с ним. а в другом — стремлением к получению информации о своих возможностях (способностях и старании). Никаких различий между этими ситуациями обнаружено не было, предпочтение каждый раз отдавалось равному по силам противнику.
В противоположность предсказаниям модели выбора риска не было также зафиксировано никаких различий между выборами ориентированных на успех и на неудачу испытуемых. Предпочтение всеми испытуемыми заданий средней степени сложности исследователи посчитали подтверждением преимуществ подхода, акцентирующего роль информации, по сравнению с моделью выбора риска с ее принципом максимизации аффектов, Однако этот вывод пока недостаточно убедителен, поскольку выявленную общую тенденцию можно объяснить и максимизацией аффекта.
В одном из последующих и описанных в той же работе экспериментов (III) была предпринята попытка проследить эту общую тенденцию. Учащихся школы для полицейских просили сообщить о своих ожиданиях успешного попадания в цель при стрельбе из пистолета с 9 различных расстояний. Они должны были представить себе, что по разу выстрелили с каждого расстояния, а затем выбрать какое-то одно расстояние, чтобы проверить свое попадание в цель. Полученные данные опять-таки свидетельствовали о предпочтении средних субъективных вероятностей успеха по сравнению с низкими или высокими. Поскольку участвовавшим в этом опыте испытуемым были известны показатели мотива достижения по ТАТ, автор этой книги (Heckhausen, 1975b) повторно проанализировал полученные данные и выявил предпочтение средних вероятностей успеха лишь у испытуемых, ориентированных на успех; испытуемые, ориентированные на неудачу, чаще выбирали более низкие вероятности (см. рис. 14.13).
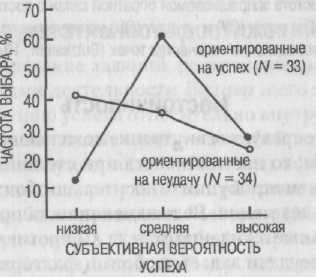
Рис. 14.13. Зависимость частоты выбора (доля испытуемых в %) обратной связи с сообщением об успехе
для заданий с низкой, средней и высокой субъективной вероятностью успеха от выраженности мотива
достижения (положительная ЧН и отрицательная ЧН) (Heckhausen, 1975c, S. 7, 8)
Бутцкамм и Штарке также выявили соответствующую модели выбора риска зависимость запрашивания обратной связи от различий мотивов. При определении количества точек (использовались задания трех степеней сложности) испытуемые, ориентированные на успех, работая с заданиями средней сложности, чаще запрашивали обратную связь по сравнению с испытуемыми, ориентированными на неудачу (Butzkamm, 1972). Соответствующие данные приведены на рис. 14.14. Штарке (Starke, 1.975) поручал испытуемым выполнять задания, релевантные (взятые из тестов на интеллект) и нерелевантные (скажем, оценка рекламных проспектов) мотиву достижения, причем экспериментатор подчеркивал, что только задания первого типа имеют отношение к способностям испытуемых. По окончании эксперимента испытуемый мог для проверки выполнить какое-либо одно выбранное им задание, а через три дня получить у экспериментатора более точную информацию о своих результатах. И выбранные задания, и запрос информации показали, что испытуемые, ориентированные на успех, больше, чем избегающие неудачи, стремятся узнать, как они справились с заданием, релевантным мотиву достижения. В целом эти данные вполне согласуются как с моделью выбора риска, так и с ее теорети ко -атрибутивным вариантом. Противоречат они не максимизации аффекта, а, скорее, представлению о существовании независимой от различных мотивов тенденции к максимизации информации.
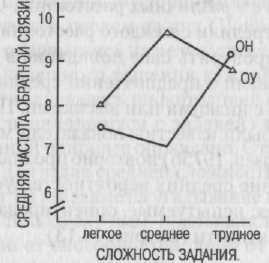
Рис. 14.14. Частота запрашиваемой обратной связи о достигнутых результатах
у ориентированных на успех (ОУ) и неудачу (ОН) испытуемых при выполнении задания
на опеределение количества точек (Butzkamm, 1972, р. 76)
Настойчивость
Если выбор задания опосредуется внутренне локализованными причинами, в первую очередь старанием, то настойчивость при столкновении с неудачей можно объяснить преобладанием атрибуции относительно обоих переменных факторов — недостатка старания и невезения. Ведь изменчивость причин позволяет и дальше сохранять первоначальные ожидания успеха. Сопротивляемость быстрому угасанию ожиданий после неудачи задается обоими факторами, но они имеют разные эмоциональные последствия: только недостаток старания в отличие от невезения сопровождается возникновением самооценочных эмоций. В связи с этим принимается следующее допущение. Ориентированные на успех индивиды должны уде-
лять больше внимания аспекту ожидания (а значит, и параметру стабильности), поэтому даже при недостаточном старании они не только уверены в себе, но и не подвержены негативным аффективным последствиям. Ориентированные же на неудачу должны уделять больше внимания эмоциональному аспекту (а значит, параметру локализации), и соответственно они быстрее аккумулируют негативные аффекты и как следствие — скорее прекращают деятельность даже при сохранении столь же высокого ожидания успеха, что и у ориентированных на успех испытуемых (см.: Weiner, Sierad, 1975, p. 416).
Согласно этим рассуждениям, ориентированные на успех индивиды всегда должны быть настойчивее, чем ориентированные на неудачу, а это противоречит модели выбора риска, согласно которой устойчивость действия определяется взаимодействием мотива и ожидания успеха, причем такое взаимодействие достаточно убедительно подтверждено экспериментами (Feather, 1961,1963; см. также главу 8). Существуют, однако, данные, свидетельствующие о большей устойчивости при атрибуции относительно изменчивых, а не стабильных факторов (см.: Andrews, Debus, 1978). Впрочем, следствия из обеих теорий сравнивались и проверялись пока лишь только в одном исследовании. Олтерсдорф (Oltersdorf, 1978) при выполнении заданий на обведение фигуры индуцировал у ориентированных на успех и на неудачу испытуемых либо высокие, либо низкие ожидания успеха, а затем помещал их в ситуацию постоянной неудачи, пока первоначально высокие ожидания успеха не достигали уровня умеренных, а исходно низкие ожидания не превращались в уверенность в неудаче. Данные по настойчивости испытуемых с разными мотивами и с высокими и низкими ожиданиями не подтвердили какой-либо зависимости от фиксировавшейся атрибуции результата. Напротив, как оказалось, настойчивость полностью определялась взаимодействием мотива и изменения ожиданий, соответствующим модели выбора риска, как это продемонстрировал уже Физер (Feather, 1961,1963b). Ориентированные на успех испытуемые были более настойчивыми по сравнению с ориентированными на неудачу,, если первоначально легкое задание после постоянной неудачи начинало восприниматься как задание средней сложности, но были менее настойчивыми, когда первоначально сложное задание после тщетных попыток справиться с ним начинало казаться еще более сложным.
Результативность достижений
Ответственность за предпочтение заданий, релевантных мотиву достижения, по сравнению с другими видами деятельности Вайнер и его коллеги (Weiner et al., 1971) возложили на атрибуцию успеха относительно внутренних причин (особенно старания), поскольку такие задания влекут за собой позитивные самооценочные эмоции. Этот принцип максимизации позитивных аффектов позволил также объяснить величину достигаемых результатов при увеличении старания. Первое исследование такого рода было проведено Мейером (Meyer, 1973a; см. также: Weiner et al., 1972, эксперимент II). У испытуемых при выполнении задания на кодирование цифр индуцировался постоянный неуспех, а показателем достижений служила скорость их работы. Разделение испытуемых по критерию сильно — слабо выраженной атрибуции достижения при первой попытке относительно конкретных каузальных факторов дало картину, отраженную на рис. 14.15. Очевидно, что
сильно выраженная атрибуция относительно старания благоприятствует улучшению достижений, однако то же самое происходит и при сильно выраженной атрибуции относительно случайности. Таким образом, решающим оказался параметр не локализации, а стабильности: чем выше был уровень, на котором человек, несмотря на неудачу, основываясь на атрибуции относительно переменных факторов, мог сохранять свое ожидание успеха, тем более значительным было улучшение достижений. Кроме того, было зафиксировано не зависящее от атрибуции и благоприятствующее росту достижений воздействие мотива стремления к успеху. Влияние мотива и атрибуции оказалось отчасти аддитивным. Скорость работы ориентированных на успех испытуемых возрастала быстрее, если они считали определяющими переменные факторы. Достижения ориентированных на неудачу испытуемых ухудшались лишь в том случае, когда свою неудачу они приписывали стабильным факторам.
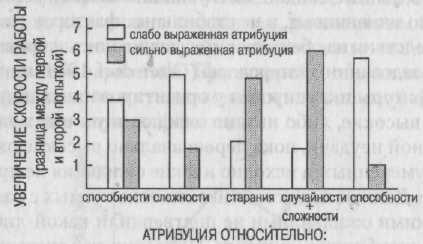
Рис. 14.15. Зависимость возрастания скорости работы между первой и второй неудачами при выполнении
задания по кодированию цифр от выраженности атрибуции относительно отдельных каузальных факторов
(по данным Meyer, 1973а, рисунок из: Weiner et al., 1972, p. 245)
Паттен и Уайт (Patten, White, 1977) повторили исследование Мейера, прибегнув к большей вариации условий. Зависящие от атрибуции различия в достижениях также проявились, но только после пяти-шести неудач подряд. Кроме того, еще раз подтвердилось влияние различия в мотивах (при преимуществе ориентированных на успех испытуемых), причем это различие не зависело от эффектов атрибуции. Из этих данных с еще большей очевидностью, чем из результатов Мейера, следовало, что в подобных ситуациях обусловленные мотивами различия в достижениях не опосредуются атрибуцией.
Самооценка как принцип мотивации
Если действие побуждается предвосхищаемыми последствиями его возможных результатов, то при контролируемости подобных последствий исключительно извне оно должно определяться только ситуативными факторами в форме внешних подкреплений. В этом случае вполне достаточно объяснения поведения со второго взгляда. Такой подход означал бы, что человек легко поддается любому искушению и быстро капитулирует перед любым препятствием, если, конечно, непосредственно следующее за этим подкрепление или наказание не создает конфликта,
тем самым побуждая его к большей стойкости. В таком случае стремящихся к успеху людей с помощью серии индуцированных неудач можно было бы легко превратить в избегающих неудачи, а избегающих неудачи посредством серии успехов — в стремящихся к успеху. При отсутствии более отдаленных последствий люди всегда предпочитали бы лишь легкие, но никак не трудные задания.
В действительности же ничего подобного, как правило, не наблюдается. Деятельность определяется не только внешне опосредованными, но также и внутренне опосредованными последствиями. К последним относятся позитивные и негативные реакции субъекта на достигнутый им результат, причем эти реакции определяются личностным стандартом результатов действия, устанавливаемым самим субъектом или же воспринимаемым им в качестве обязательного. Такого рода процесс самоподкрепления, как его обозначил Скипнер еще в 1953 г., или самооценки (последнее понятие более свободно от неявных теоретических напластований, чем первое) может объяснить определенную автономию действующего субъекта в отношении внешне опосредованных последствий. Поскольку указанные стандарты могут задавать различный уровень требований и в разной мере восприниматься в качестве обязательных, введение переменной типа «мотив» для обозначения индивидуальных различий представляется вполне целесообразным, если с ее помощью можно описать устойчивые тенденции саморегуляции деятельности. Базовые модели саморегуляции разработали Кэнфер (Kanfer, 1970, 1975) и Бандура (Bandura, 1974).
Независимость от внешне опосредованных последствий дает действующему субъекту не только внутренне опосредованная оценка этих последствий. До того как он оценит результат действия в соответствии с установленным им стандартом, он уже может, как мы видели на примере обусловленной мотивами предубежденности атрибуции, проинтерпретировать и истолковать этот результат присущим ему способом. Оба этих момента — личностный стандарт и предубежденность атрибуции — могут посредством своеобразного процесса самоподкрепления лучше объяснить те факты, для интерпретации которых суммарное понятие мотива оказывается чрезмерно широким. Это такие факты, как межиндивидуальные различия действий при сходстве их результатов и внешних последствий, или такие, как относительная стабильность действий индивида вопреки противоречащим ожиданию результатам и изменившимся внешним последствиям (т. е. некоторая автономность по отношению к ситуационным факторам). Ниже мы опишем мотив достижения как такого рода систему самооценивания.
Мотив достижения как система самооценивания
Как было показано в главе 8, аткинсоновская модель (Atkinson, 1957) выбора риска включает в себя модель самооценки: привлекательность последствий для самооценки предвосхищаемого результата действия, умноженная на соответствующую вероятность успеха, и составляет то, что побуждает человека к действию. Однако имеются и два существенных отличия в этих моделях. Во-первых, стандарт (ур°" вень притязаний) является у Аткинсона не независимой, т. е. предшествующей действию, величиной, а зависимой переменной результирующей мотивации. Во-вторЫх, через две переменные мотива Аткинсон вводит индивидуальные различия
в процессах приписывания коэффициентов привлекательности положительной и отрицательной самооценки после успеха и неудачи соответственно. Правда, тем самым первое различие — стандарт как зависящая от мотивации, а не предшествующая действию величина — практически снимается. Ведь стандарт в модели выбора риска оказывается зависимой от мотива и индивидуально вариативной величиной: ориентированные на успех индивиды предпочитают реалистичные, а ориентированные на неудачу — завышенные или заниженные стандарты.
Теоретические следствия из того факта, что модель выбора риска в сущности описывает процесс самооценки, долгое время оставались без внимания. Анализом этих следствий, которые с открытием обусловленной мотивами асимметрии атрибуции успеха и неудачи стали очевидными, занялся автор этой книги (Heckhausen, 1972, 1975а, 1978). Если, как мы убедились выше, ориентированные на успех испытуемые по сравнению с ориентированными на неудачу в большей степени связывают свои успехи с выдающимися способностями, а неудачи приписывают не столько их недостатку, сколько слабому старанию и внешним причинам (см. рис. 14.4), то в результате самооценка таких испытуемых оказываются более сбалансированной. Если к тому же их успехи и неудачи повторяются с той же частотой, что и у ориентированных на неудачу испытуемых, то оба типа индивидов, даже сталкиваясь с противоречащим ожиданиям результатом действия, снова и снова в силу пристрастной (позитивной или негативной) самооценки подтверждают и упрочивают свойственную им «систему мотива*, т. е. систему, в которой решающим значением обладает привлекательность либо успеха, либо избегания неудачи. Таким образом, мотив выступает не как суммарное, раз и навсегда фиксированное личностное свойство, а как система релевантных мотивации когнитивных процессов, стабилизируемая посредством «встроенного», индивидуально подкрепляемого механизма интерпретации (в данном случае определяемого предубежденностью атрибуции) и посредством самоподкрепления (самооценки) даже вопреки опыту, противоречащему присущей субъекту и обусловленной мотивом точке зрения.
Подкрепляющий фактор процесса самооценки автор этой книги связывает с самооценочными эмоциями, такими как удовлетворенность и неудовлетворенность собой или с аналогичными им эмоциями. В качестве подкрепляющего фактора они в определенном смысле всегда находятся «под рукой», поскольку могут возникать всякий раз и сразу, как только появляется адекватный самооценке стимул. Вместо «самоподкрепления» автор этой книги говорит о самооценивании, поскольку понятие подкрепления в смысле подкрепления реакции вводит нас в заблуждение или, по меньшей мере, является поверхностным. К тому же оно не позволяет различать результат процесса сравнения (самооценку) и его последствия («самоподкрепление») как две различные следующие друг за другом стадии, по крайней мере когда последствия заключаются в самооценочных эмоциях, а не в наблюдаемых извне актах самопоощрения или самонаказания.
Модель самооценивания схематически изображена на рис. 14.16. Осуществляемый после достижения результата действия процесс самооценки основан на сопоставлении этого результата со стандартом, а исход этого сопоставления может быть изменен посредством той или иной каузальной атрибуции результата действия. Таким образом, существуют три детерминанта самооценки: результат дей-
ствия, стандарт и атрибуция. До сих пор в качестве обусловленного мотивом мы рассматривали лишь тип атрибуции, однако то же самое можно сказать и о стандарте. Когда ориентированные на неудачу люди устанавливают для себя сверхвысокие стандарты, то тем самым они ограничивают возможности для позитивной самооценки, склоняясь при этом, в силу предпочитаемого типа атрибуции, к объяснению неудачного выполнения чересчур сложной задачи недостатком способностей. Напротив, устанавливая для себя чрезмерно низкие стандарты, они, очевидно, стремятся оградить себя от негативной самооценки, в силу предпочитаемого ими типа атрибуции не имея возможности приписать успех в решении слишком легких задач своим способностям. Ориентированные на успех индивиды при реалистичном стандарте сталкиваются примерно с равным числом успехов и неудач, причем в соответствии с присущим им типом атрибуции успехи сильнее сказываются на их самооценке, чем неудачи. Таким образом, в создании более или менее благоприятного баланса самооценки у обеих групп предпочитаемые уровень стандарта и тип атрибуции дополняются соответствующим Мотивационным воздействием привлекательности.
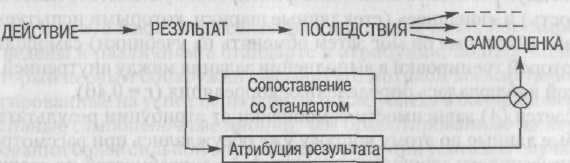
Рис. 14.16. Модель самооценивания
Эмпирические подтверждения модели самооценивания
Для проверки концепции мотива достижения как системы самооценивания, разработанной автором этой книги, необходимо предпринять ряд шагов. Нужно установить связь с мотивом 1) стандарта и 2) типа атрибуции; выявить зависимость самооценки от 3) расхождения стандарта и результата действия и от 4) атрибуции результата действия; определить, 5) в какой степени связанные с мотивом различия самооценки могут быть сведены к различиям в установленном стандарте и атрибуции, и уточнить 6) мотивационное воздействие привлекательности предвосхищаемых последствий на самооценку. Остановимся кратко на данных, относящихся к каждому их этих шагов.
Связь стандарта с мотивом (1) подтверждается множеством данных, если отождествить личный стандарт с уровнем притязаний, хотя для ориентированных на неудачу индивидов это отождествление сомнительно. Однако установленная Кулем (Kuhl, 1978b) противонаправленность у таких индивидов уровня притязаний и личного стандарта тоже связана с мотивом и воздействует на самооценку так же, как и в случае, когда за основу берется уровень притязаний. Что касается связи с мотивом атрибуции успеха и неудачи (2), то соответствующие данные приводились выше.
Как ни странно, данные о зависимости самооценки от расхождения стандарта (или уровня притязаний) и результата действия (3) были получены совсем недавно. Возможно, это объясняется тем, что такого рода зависимость представляется тривиальной. Бутцкамм (Butzkamm, 1981) по достижении испытуемыми плато научения при выполнении сложного задания на время реакции сообщал им либо о постоянном улучшении, либо об ухудшении результатов и просил их отметить уровень своей самооценки на биполярной шкале переживаний. Возникающими расхождениями с уровнем притязаний (разница между намеченной целью И реально достигнутым результатом) в среднем можно было объяснить от 50 до 60% общей дисперсии самооценки в ситуации успеха или неудачи. Влияние мотива на самооценку в этом исследовании в основном проявлялось через опосредованно связанные с мотивами различия в уровне притязаний. Но когда влияние отклонений уровня притязания нейтрализовалось при помощи статистических процедур, взаимосвязи мотива и самооценки не наблюдалось.
Связанные с мотивом различия в самооценке, существенно опосредованные уровнем притязаний, выявил также Халиш (Halisch, 1983) Его исследование заслуживает особого внимания, поскольку в нем сопоставлялись «внутреннее» (передвижения двух рычажков позволяли фиксировать удовлетворенность и неудовлетворенность) и «внешнее» (стеклянные шарики, которыми испытуемый вознаграждал себя и которые он мог затем обменять на учебники) самоподкрепления. После некоторой тренировки в выполнении задания между внутренней и внешней самооценкой наблюдалась определенная корреляция (г - 0,46).
Что касается (4) зависимости самооценки от атрибуции результата действия, то некоторые данные по этому вопросу уже обсуждались при рассмотрении большей аффектогенности атрибуции относительно способностей по сравнению с атрибуцией относительно старания (в ориентированных на способности заданиях). Автор этой книги (Heckhausen, 1978) после того, как испытуемые обеих групп (стремящиеся к успеху и избегающие неудачи) достигали плато научения в выполнении задания на различение сигнала и их восприятие задания (его сложности и своих способностей) становилось приблизительно одинаковым, индуцировал у них противоречащую ожиданиям серию успехов или неудач. В случае успеха обе группы испытуемых вопреки предположениям не отличались друг от друга по самооценке, Более детальный анализ показал, что у ориентированных на успех испытуемых степень удовлетворенности собой сильнее опосредовалась атрибуцией относительно способностей, чем у ориентированных на неудачу, в то время как для последней группы более важную роль играло опосредование уровнем притязаний. В случае же неудачи было выявлено предполагавшееся влияние мотива. Зафиксированная в целом менее негативная самооценка испытуемых с преобладанием мотива успеха по сравнению с испытуемыми, у которых преобладал мотив неудачи, представляет собой чистый эффект мотива, не опосредованный ни каузальной атрибуцией, ни уровнем притязаний. Однако внутри каждой группы самооценка была тем более негативной, чем в большей степени неудача приписывалась недостаточным способностям при высоком старании (см. рис. 14.8). Явно выраженная атрибуция относительно старания, таким образом, наполнялась самооценочной значимостью в духе компенсаторной каузальной схемы. Для уменьшения негативной самооценки эта компенсаторная каузальная схема использовалась лишь ис-
пытуемыми с преобладанием мотива успеха: приписывание серии неудач слабому старанию приводило у них, как видно из рис. 14.17, к некоторой нейтрализации (!)
самооценки.
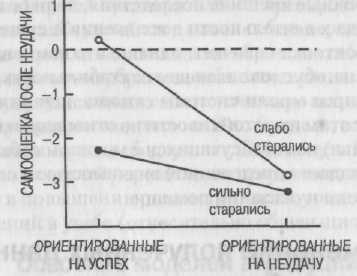
Рис. 14.17. Самооценка испытуемых, отметивших свое сильное или слабое старание, после противоречащей ожиданиям серии неудач (Heckhausen, 1978, S. 204)
Вопрос (5) о том, в какой мере связанные с мотивом различия самооценки могут быть сведены к различиям в стандарте и атрибуции, поднял Мейер (Meyer, 1973b), который первым обнаружил связанную с мотивом асимметрию самооценки. Ориентированные на успех испытуемые после успеха в большей мере испытывали позитивные самооценочные эмоции, чем ориентированные на неуспех, причем на основании более сильной внутренней атрибуции успеха, В случае же неудачи ориентированные на успех демонстрировали менее негативные самооценочные эмоции, чем ориентированные на неуспех, ибо они связывали неуспех в большей степени с внешними причинами.
Бутцкамм (Butzkamm, 1981) установил, что различия мотивов (по тесту Шмаль-та «Решетка*) полностью исчерпываются различиями в уровне притязаний; автор этой книги (Heckhausen, 1978), напротив, пришел к выводу о существовании в случае неудачи еще и особого эффекта мотивов (измеренного с помощью ТАТ).
Вопрос о мотивационном воздействии привлекательности предвосхищаемых последствий для самооценки (6) является ключевым звеном в цепи, обеспечивающей возможность самовоспроизводства системы мотивов и стабилизирующей пли даже иммунизирующей ее по отношению к противоречащему ожиданиям опыту. Бутцкамм (Butzkamm, 1981) выявил связанные с мотивами различия, одновременно выделив резкую и плавную тенденции к изменению самооценки. При выполнении задания на научение сложной реакции ориентированные на успех испытуемые обеих подгрупп в случае успеха улучшали свои достижения. Среди ориентированных на неудачу достижения улучшали лишь испытуемые с плавной тенденцией к изменению самооценки; у лиц с резкой тенденцией наблюдалось заметное снижение результатов.
Какие-либо другие непосредственные исследования этого ключевого звена в цепи рассуждений на сегодняшний день отсутствуют. Определенные данные по этому вопросу содержит модель выбора риска, поскольку она основывается на концепции самооценки как на мотивационном принципе. В целом эту концепцию
решающим образом подтверждают многочисленные данные по выбору заданий, настойчивости и достижениям (ср. главу 8).
Разумеется, трактовка мотива достижения как системы самооцеиивания не означает, что отличные от самооценочных переменные привлекательности, такие как сторонняя оценка, побочные внешние последствия, цели более высокого порядка, не побуждают индивида к деятельности достижения и существенным образом не определяют ее. Эта трактовка означает, однако, что самооценка составляет ядро Мотивационной системы, обусловливающее ее стабильность во времени. Наконец, остается открытым вопрос о роли системы самооценивания в стабилизации других мотивов и в связи с этим их устойчивости по отношению к давлению (в направлении изменения мотива) не согласующихся с мотивом событий. Вполне возможно, что самооценка обладает определенной значимостью в случае социальных мотивов, например агрессии и оказании помощи.
Применение полученных данных: «атрибуционная терапия»
Важным результатом теории атрибуции являются терапевтические попытки изменить неблагоприятную модель атрибуции неуспеха так, чтобы развить большее доверие к себе и способствовать выполнению сложных заданий с большей настойчивостью и старанием. После постановки диагноза неблагоприятной модели атрибуции делается попытка изменить неблагоприятную каузальную атрибуцию, заключающуюся обычно в оценке своих способностей как недостаточных, на модель, в которой ответственность за неуспех приписывается недостаточному старанию. Обычно эта процедура осуществляется путем убеждения, объяснения на опыте, тренировки нового типа атрибуции или демонстрации образцов. Обзор этих исследований дает Ферстерлинг (Foersterling, 1985, 1986), а также Хекхаузен и Круг (Heckhausen, Krug, 1982).
((Переживание себя источником действия» -
Одна из первых методик, независимая от теории атрибуции Хайдера, принадлежит де Чармсу (deCharms, 1968, 1976) и исходит из центрального с точки зрения переживания феномена состояния мотивированности — «ощущения себя источником действия». В терминах теории атрибуции в данном случае имеется в виду интен-циональность действий и личная ответственность за их результаты. Переживание причинности как планируемую цель изменения мотивов де Чармс описывал еле-дующим образом: 1) ставить себе реалистичные, но высокие цели; 2) знать свои сильные и слабые стороны; 3) верить в эффективность собственной деятельности; 4) определять конкретные формы поведения, позволяющие достигнуть своих наличных целей; 5) получать обратную связь о достижении цели; 6) принимать на себя ответственность за свои действия и их последствия и нести ответственность за действия других.
В соответствии с этим описанием, которое близко описанию высокого мотива достижения, ориентированного на успех, де Чармс (deCharms, 1968, 1973) разработал две диагностические методики: одну, подобную ТАТ, предназначенную для выявления среди школьников индивидов, обладающих чувством причинности,
и другую — опросник для выявления в классе «атмосферы причинности», т. е. того, насколько учитель создает на занятиях атмосферу, стимулирующую инициативу учеников и индуцирующую у них чувство ответственности (Ryan, Grolnick, 1986). Еще более впечатляющими оказались результаты других программ (см. deCharms, 1976). Во время однонедельной предварительной тренировки учителя стремились преобразовать представления учеников о самих себе в переживание причинности и с помощью психологов строили занятия таким образом, чтобы у детей была возможность самим принимать решения, брать на себя ответственность, ставить обязательные цели, короче говоря, чувствовать себя источником активности. Осуществление некоторых разделов программы занимало от 3 до 4 недель, всего же некоторые классы занимались тренингом от года до двух лет. Достигнутый эффект проявился не только в повышении показателей переживания причинности и «атмосферы причинности» в классе, но и в повышении реалистичности уровня притязаний, а также в улучшении достижений в учебе (относительно общенациональных норм).
Освоение моделей атрибуции
Атрибуционная терапия применяется в разных проблемных областях, начиная от школьной арифметики (Dweck, 1975; Schunk, 1982,1983, 1984), обучения чтению (Chapin, Dyck, 1976; Fowler, Peterson, 1981) и общей школьной успеваемости (Andrews, Debus, 1978; Wilson, Linville, 1982,1985), включая психомоторную ловкость (Zoeller, Mahoney, Weiner, 1983), зрительное различение (Medeway, Vernino, 1982) и стремление убеждать других (Anderson, 1983) до самооценки (Vorwerg, 1977) и изменения мотивов (Gattling-Stiller, Gerling, Stiller, Voss, Wender, 1979; Krug, Hanel, 1976; Krug, Peters, Quinkert, 1977).
Желаемые каузальные атрибуции вызывались в этих исследованиях с помощью различных методов. Эндрюс и Дебю (Andrews, Debus, 1978) «вдалбливали» ее испытуемым-шестиклассникам с помощью операитных методов, в случае неудачи постоянно включая на четырехклеточной таблице клетку с надписью «недостаточно старался». Целлер и его коллеги (Zoeller"et al., 1983) вербально предъявляли своим умственно отсталым испытуемым желательную атрибуцию. Уилсон и Лин-вилл (Wilson, Linville, 1982, 1985) сообщали своим испытуемым-студентам не каузальную атрибуцию, а соответствующую ковариационную информацию о согласованности, стабильности и специфичности (например, о том, как мало учащихся может выполнить это сложное задание; или о том, что в последующих семестрах студенты будут испытывать меньше трудностей в учебе). Гаттлинг-Штиллер и ее коллеги (Gattling-Stiller et al., 1979) демонстрировали на экране упорную работу человека, служившего примером, который к тому же давал причинные объяснения, ориентированные на старание.
Ниже мы несколько подробнее рассмотрим ориентированные на теорию атрибуции программы изменения мотивов. Если рассматривать мотив достижения как систему самооценивания, то корригирующему влиянию в программах модификации поведения должны подвергаться (по отдельности или вместе) три детерминанта системы мотивов: процессы формирования уровня притязаний, каузальная атрибуция и самооценка. Эти детерминанты соответствуют трем рассмотренным выше показателям развития индивидуальных различий: 1) личностные стандарты, 2) тип атрибуции успеха и неудачи и 3) сравнительная побудительность успеха и неудачи.
В программе школьной коррекции, включавшей 16 занятий на протяжении четырех с половиной месяцев, Круг и Ханел (Krug, Hanel, 1976) пытались более или менее непосредственно воздействовать на все три детерминанта: через разучивание желательных образцов поведения, похвалу и знаки уважения, обучение на примере ведущего программу, а также с помощью самонаблюдения, протоколирования и вербализации (во внутренней речи) всех релевантных мотиву поведенческих и когнитивных элементов. Испытуемыми были четвероклассники, характеризовавшиеся ориентацией на неудачу и низкими достижениями, но не низким интеллектом. Они были распределены на три группы — экспериментальная, контрольная и контрольная с индуцированными ожиданиями. Программа предусматривала переход от привлекательных и далеких от обучения задач (например бросание колец) к заданиям школьного типа по орфографии и арифметике.
На примере каждой из задач ведущий обсуждал и демонстрировал конкретные взаимосвязи между процессами формирования уровня притязаний, приписывания причин и самооценки, проговаривая вслух свои соображения по поводу этих трех процессов. Вслед за этим наступала очередь испытуемых; в промежутке между решениями задач проводились индивидуальные консультации.
В результате испытуемые по сравнению с обеими контрольными группами продемонстрировали не только более реалистичное целеполагание (личностные стандарты), более благоприятную каузальную атрибуцию неудачи (тип атрибуции) и более высокую позитивную самооценку в ситуации успеха (общая привлекательность результата), но и значительное усиление ориентации мотива достижения на успех (по данным теста Шмальта), а также более высокие показатели интеллекта. Правда, в течение учебного года не было зафиксировано улучшения отметок и показателей теста школьных достижений. Неясно, однако, происходило ли это потому, что временной промежуток был слишком коротким для таких изменений, или же потому, что в школе отсутствовали достаточные условия, обеспечивающие повседневную актуализацию измененного мотива достижения. Подобная возможность указывает на необходимость соблюдения особой осторожности и тщательности при проведении исследований, поскольку происшедшие изменения мотива едва ли сохранятся надолго при отсутствии условий для их ежедневной реализации, что продемонстрировали курсы мотивационного тренинга для индийских предпринимателей (McClelland, Winter, 1969).
В более позднем исследовании, проведенном с учащимися 5-6-х Классов спецшкол для детей с трудностями в обучении (и с IQ не менее 70), Круг, Петере и Квин-керт (Krug, Peters, Quinkert, 1977) контролировали достигнутые изменения мотивов при помощи повторного тестирования через полгода после тренинга. Была использована программа Круга и Ханела (Krug, Hanel, 1976), адаптированная для учащихся спецшкол. Из трех подвергавшихся воздействию детерминантов ожидавшиеся изменения после тренинга по сравнению с контрольной группой проявились только в постановке целей. Изменения каузальной атрибуции и самооценки в желательном направлении хотя и наблюдались во время тренинга, однако по тестовым данным оказались статистически незначимыми. Наоборот, все общие личностные свойства значительно улучшились: собственные способности оценивались теперь более высоко,, экзаменационная тревожность, уровень общей тревожности
и нелюбовь к школе снизились. Главным результатом программы было то, что изменение мотивов в желательном направлении было выраженным и стойким. При повторном тестировании (см. рис. 14.18) через полгода еще сохранялось уменьшение боязни неудачи за счет усиления ориентации на успех (тест «Решетка»).
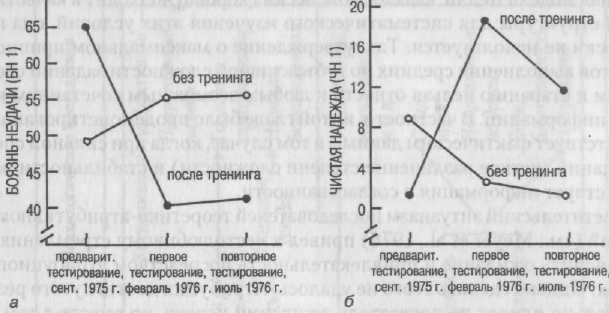
Рис. 14.18. Устойчивость Мотивационных изменений у учеников 5-6-х классов спецшкол
с нарушениями учебной деятельности, прошедших и не прошедших курс коррекции мотивов, разбитых
на группы по а) боязни неудачи, б) «чистой надежды» (Krug, Peters, Quinkert, 1977, p. 673).
Вклад теоретико-атрибутивного подхода в изучение мотивации достижения
Теперь пришло время оценить вклад теоретико-атрибутивного подхода в изучение мотивации достижения. В самом общем виде он состоит во введении гипотетических когнитивных промежуточных переменных, превративших «реакцию, направленную на достижение» в формальных терминах модели выбора риска в рефлексивную «деятельность достижения». Рефлексивность означает, что субъект рассматривает свое деяние как связанное с его волей к действию (намерением), а результат — как определяемый не только внешними причинами, но и особенностями инициатора действия (см.: Heckhausen, Weiner, 1972). Тем самым было открыто мотивирующее значение приписывания причин достигнутым результатам, что чрезвычайно плодотворно сказалось на исследованиях мотивации.
Теоретико-атрибутивный подход привел к модификации модели выбора риска, дав толчок целому ряду перспективных теоретических разработок, но он все же не заменил эту модель. Поясним сказанное: модификации подвергалась каждая из трех основных переменных модели выбора риска. Открытие обусловленной мотивом асимметрии атрибуции успеха и неудачи выявило новые аспекты переменной «мотив» (прежде всего в: Weiner, Kukla, 1970). Наряду с каузальной схемой градуальных эффектов, связавшей отношением компенсации способности и старание (Kelley, 1972; Кип, Weiner, 1973), это, по-видимому, наиболее значимый вклад в развитие психологии рассматриваемого подхода. Им, в частности, обосновывается концепция мотива достижения как системы самоподкрепления. Что касается
двух других переменных модели выбора риска — ожидания успеха и привлекательности, то несколько прояснилась совокупность определяющих их условий.
Решающими для ожидания и привлекательности факторами оказались определенные причины успеха и неудачи, а также различные параметры. Впрочем, условия, определяющие атрибуцию, выявлены не до конца. Несмотря на то что ковариационная модель Келли, казалось бы, весьма хорошо подходит в качестве теоретической структуры для систематического изучения этих условий, она пока что практически не используется. Так, утверждение о максимальном приписывании результатов выполнения средних по субъективной сложности заданий своим способностям и старанию нельзя отнести к любым возможным сочетаниям ковариационной информации. В частности, в этой главе было продемонстировдио, что оно не соответствует фактическим данным в том случае, когда при сильной специфичности заданий (четкое различение степени сложности) и стабильности результатов отсутствует информация о согласованности.
Просветительский энтузиазм последователей теоретико-атрибутивного анализа условий (см.: Meyer et al., 1976) привел к честолюбивому стремлению полностью объяснить ожидание и привлекательность посредством атрибуционных переменных. Однако сделать этого не удалось. Атрибуция достигнутого результата действительно влияет на показатель ожиданий успеха, но вместе с тем степень уверенности в ожидании следующих друг за другом результатов, в свою очередь, влияет на атрибуцию. Как мы убедились выше, последовательности результатов, ведущие к изменению ожиданий, пока не поддаются объяснению с теоретико-атрибутивной точки зрения, причем это относится как к стабилизации представлений о своих возможностях, так и к их пересмотру. Кроме того, показатели мотивов обладают собственной значимостью, независимой от той или иной атрибуции (см., напр.: Cowington, Omelich, 1979a). В конце концов, атрибуции представляют собой лишь реакции на уже наступивший результат действия. Их не следует приравнивать к цели действия: достижению успеха или избежанию неуспеха (Lange, 1982).
Менее всего учитывается и не находит своего места в теоретико-атрибутивной модели взаимосвязь ожидания и привлекательности. Ее отсутствие дает о себе знать при объяснении атрибуцией таких параметров поведения, как выбор, поиск информации, настойчивость и достигнутые результаты, особенно при противопоставлении этого объяснения модели выбора риска. В этом случае модель выбора риска оказывается, как мы уже видели, не только равноценной атрибутивному подходу, но, как правило, даже превосходящей его, поскольку теоретико-атрибутивное объяснение вынуждает нас прибегать к тем или иным дополнительным допущениям, которые не могут быть выведены из модели атрибуции (как, например, обусловленные мотивом различения значимости отдельных каузальных параметров). В целом попытки теоретико-атрибутивного объяснения деятельности достижения пока слабо структурированы, отдельные положения, на основании которых еще только предстоит выработать внутренне целостную теорию, плохо связываются между собой. Это видно уже из беглого взгляда на табл. 14.5, представляющую современное состояние теоретико-атрибутивного подхода по ВаЙне-РУ (Weiner, 1985a). Все сказанное означает, что максимальной предсказательной силы этот подход достигнет лишь в том случае, если в него будет вписана структура «ожидаемой ценности» из модели выбора риска.
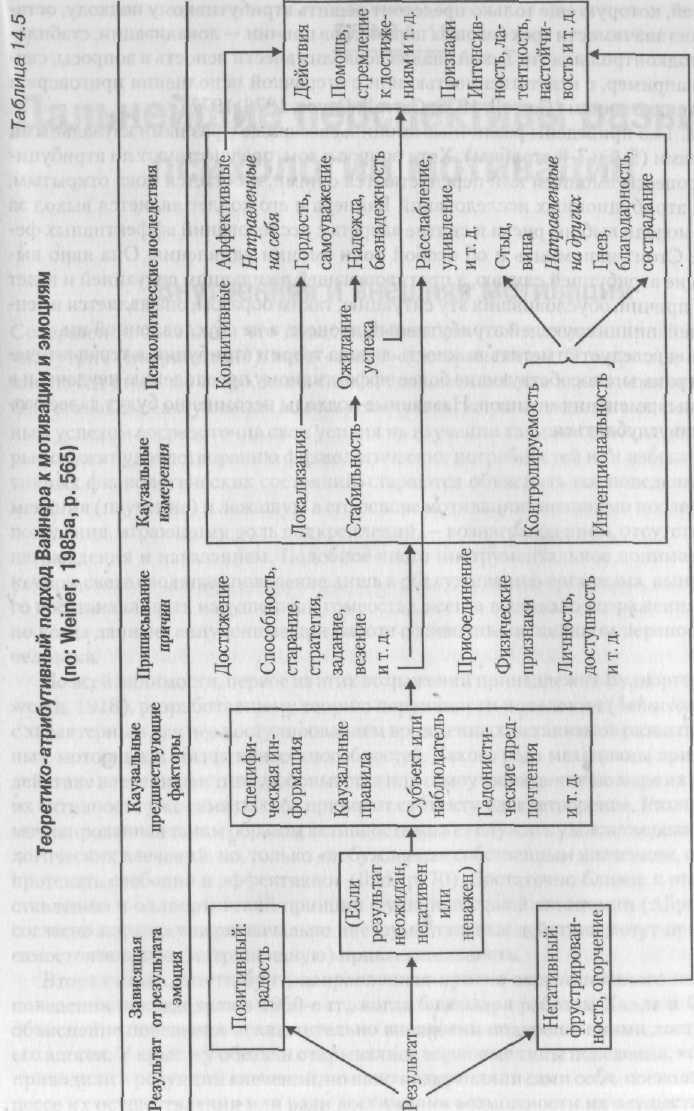
Задачей, которую еще только предстоит решить атрибутивному подходу, остается анализ значимости трех базовых параметров причин — локализации, стабильности и подконтрольности. Такой анализ позволит внести ясность в вопросы, связанные, например, с ответственностью или с отсрочкой исполнения приговора и условным наказанием (Carroll, 1978; Carroll, Payne, 1976, 1977).
В табл. 14.5 приведены различные эмоции, связанные с разными каузальными параметрами (5-й и 7-й столбцы). Хотя вопрос о том, предшествуют ли атрибуци-онные процессы эмоциям или переплетаются с ними, и остается пока открытым, заслугой атрибуционных исследований Вайнера и его коллег является выход за пределы модели выбора риска и снятие запрета с исследований аффективных феноменов. Стоит напомнить и об особой роли эмоции удивления. Она явно вызывается не атрибуцией случаю, а противоречащей ожиданиям ситуацией и ведет к поиску причин, обусловивших эту ситуацию; таким образом, она является именно эмоцией, инициирующей атрибутивный Процесс, а не обусловленной им.
Наконец, следует отметить важность вклада теории атрибуции в терапевтические программы, способствующие более эффективному преодолению неудачи, и в программы изменения мотивов. Названные подходы несомненно будут далее развиваться и углубляться.
