
tom2-2
.pdfГлава ХIV. Предпосылки восстановления государственности. |
35 |
|
|
вого периода в Приднестровье полиэтническую социокультурную общность со своими самосознанием и менталитетом, идентифицирующую себя как «приднестровский народ», отказ ему руководства Молдовы в праве на самоопределение не может иметь законных оснований и абсолютно несостоятелен.
Что касается аргумента о признании мировым сообществом Республики Молдова в границах МССР, то этот вопрос крайне запутан. Несомненно, право народа на самоопределение в некоторых случаях не исключает и возможной сепарации территорий, фрагментирования существующих государств, как это произошло в последнем десятилетии ХХ в. с Югославией, Чехословакией, Советским Союзом. Территориальная целостность, нерушимость границ и право государств на защиту этой целостности и нерушимости представляют собой такое же фундаментальное право, закрепленное во многих международных документах, как и право народа на самоопределение. В конкретных ситуациях эти права могут прийти в противоречие, разумный и правовой выход из которого возможен только на основе учета ясно и точно выраженного желания самоопределяющегося народа и изучения всех конкретноисторических и юридических аспектов данной ситуации.
Руководство Молдовы начиная с запрета Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. и в последующие годы проводило политику, основанную не на волеизъявлении граждан республики, а на собственных партийно-идеологических интересах и политических целях своих национальных кланов и элит. Поэтому судьбоносные для молдавского народа решения (о выходе из состава СССР, о переводе графики молдавского языка с кириллической на румынскую, о введении румынской символики в каче- стве государственной для Молдовы, о придании молдавскому языку статуса государственного и признании его идентичности с румынским, о введении частной собственности на землю и т. д.) принимались органами власти без опроса населения, как правило, вопреки его желаниям и воле. За все время независимого существования Молдовы был проведен всего лишь один референдум при Президенте М. Снегуре, претенциозно названный «Совет с народом».
Для жителей Приднестровья референдумы и всенародные опросы стали делом почти привычным и обыденным. В конце 1989 – начале 1990 г. прошли референдумы по вопросу возрождения государственности (формально речь шла об автономии в составе Молдавии). 17 марта 1991 г., вопреки запретам властей Молдовы, был проведен референдум. 1 декабря 1991 г. во время выборов Президента ПМР состоялся референдум по вопросу о независимости республики. 26 марта 1995 г. одновременно с выборами в местные Советы прошел референдум по вопросу о нахождении 14-й Российской армии на территории ПМР. 26 декабря 1995 г. – референдум за принятие новой Конституции ПМР. При этом референдумы – не единственная форма выявления воли народа. Выборы президента, депутатов высших органов власти и местных Советов также являются убедительным показателем настроения широких слоев населения.
Выборы в Приднестровской республике осуществляются согласно Конституции ПМР точно в назначенные сроки, в напряженной, зачастую драматичной конкурентной борьбе кандидатов под наблюдением представителей различных политических партий, общественных движений, трудовых коллективов, под контролем независимых наблюдателей из-за рубежа. Наибольшее количество голосов обычно получают активные сторонники и защитники свободы и независимости республики, последовательные «государственники» или «республиканцы». Их поддерживают такие массовые и влиятельные общественные силы, как Объединенный совет трудовых коллективов, Черноморское казачество, Союз женщин Приднестровья, Союз защитников ПМР, Союз молдаван, Союз офицеров и прапорщиков в отставке и др. Одной из при-
36 |
История Приднестровской Молдавской Республики |
|
|
вычных форм политической активности населения стали сборы подписей под обращением к политическим лидерам и правительствам по волнующим жителей ПМР вопросам. Обращение с просьбой о приеме ПМР в Союз России и Беларуси и другие подобные документы собирают под собой десятки и сотни тысяч подписей.
И все же, несмотря на все старания руководства Молдовы, лидеров отдельных ее партий и движений привлечь население ПМР к участию в проводимых на правобережье Днестра выборах и политических кампаниях, практически все жители Приднестровья их игнорируют. По сообщениям из Молдовы, количество приднестровцев, принимавших участие в выборах ее парламента или президента, исчисляется мизерными цифрами. И это при той активной агитационной работе, которую проводят в предвыборные периоды представители ряда политических партий Молдовы (аграрии, коммунисты, социалисты и др.). Индифферентное отношение населения ПМР к политическим акциям РМ и, наоборот, самое деятельное и заинтересованное участие в политической жизни Приднестровья говорит о том, что его народ твердо и осознанно сделал свой выбор в пользу государственности. Он не намерен от него отказываться, несмотря на трудности, лишения, экономическую и таможенную блокады, информационно-психологическую войну, замороженное военное противостояние, возможность новой агрессии со стороны Молдовы.
Таким образом, «самопровозглашение» государственности в Приднестровье есть акт политического самоопределения проживающего здесь народа, осуществленного на основе осознанного самостоятельного выбора свободным, демократическим и мирным путем. Этот акт является самодостаточным и не нуждается в утверждении или санкционировании какого бы то ни было правительства иностранной державы или международной организации.
Приднестровский конфликт с самого своего зарождения был не межэтническим столкновением, поскольку в нем принимали участие молдаване, украинцы, русские, представители других национальностей. Это был конфликт политический, где столкнулись различные интересы, силы и устремления. В его сути, с одной стороны, желание населения Приднестровья жить в правовом цивилизованном государстве, в котором права личности являются высшим приоритетом и ценностью, а с другой – твердое намерение национал-бюрократического режима Молдовы установить свое безраздельное господство и принудить приднестровский народ жить по чуждым ему правилам, основанным на аксиоме: права нации (да к тому же нации иностранной – румынской) выше прав человека.
Однако имеют ли власти Молдовы какие-либо правовые аргументы для удержания территории Приднестровья в своем ведении, кроме, пожалуй, того несомненного аргумента, что мировое сообщество признало юрисдикцию Кишинева в границах МССР? И каковы правовые основы данных границ?
Еще за полтора года до фактического развала СССР власти Молдовы провозгласили путь на выход из Советского Союза и создание независимого государства, что сразу лишало население Приднестровского региона союзного гражданства и ставило его перед угрозой возможного включения в состав Румынии. В июне 1990 г. Верховный Совет РМ принял два документа чрезвычайной важности для понимания правового механизма раскола республики и образования ПМР.
В «Декларации о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова» объявлялось о фактическом выходе Молдовы из СССР (в том числе о верховенстве законов Молдовы над союзными законами, об объявлении земли, недр, воды и прочих потенциалов и ценностей в принадлежности государства Молдовы, об объявлении Молдовы демилитаризованной зоной и др.). Второй документ «Заключение комиссии Верховного Совета МССР по политико-юридической оценке советско-гер-
Глава ХIV. Предпосылки восстановления государственности. |
37 |
|
|
манского договора о ненападении и дополнительного секретного протокола от 23 августа 1939 г., а также их последствий для Бессарабии и Северной Буковины» отменял акт от 2 августа 1940 г.
Что касается названного договора, то он потерял всякую юридическую силу еще 22 июня 1941 г., когда фашистская Германия вместе с Италией, Румынией и другими сателлитами нарушили его условия. Более того, этот документ не нуждался в «отмене» его той стороной, которая его не подписывала, т. е. органами государственной власти МССР, не говоря уже о том, что в 1939 г. никакой МССР даже не существовало. Тем не менее власти, контролируемые Народным фронтом Молдовы и его ставленниками, сочли необходимым его принять, чтобы объявить Молдавию оккупированной частью румынского государства: «28 июня 1940 г. СССР оккупировал силой оружия Бессарабию и Северную Буковину вопреки воле населения этого края. Незаконное провозглашение 2 августа 1940 г. Молдавской ССР было актом расчленения Бессарабии и Буковины».
Отмена акта, по которому была провозглашена МССР и ликвидирована МАССР на левобережье Днестра, создавала чрезвычайно редкий и замысловатый прецедент. Дело в том, что объявление собственной государственности порождением иноземного оккупационного режима не так часто встречается в мировой практике. Однако принятое Молдовой «Заключение» спровоцировало два естественных последствия.
Во-первых, юридическая самоликвидация страны, прерывание юридической преемственности власти обязаны сопровождаться полным самороспуском всех органов законодательной, а впоследствии и исполнительной власти, поскольку названные органы были созданы оккупационным режимом (как следует из цитируемых документов) на территории другого независимого государства.
Во-вторых, на территории данной страны после ликвидации оккупационных властей следовало бы провести под эгидой международных организаций плебисцит о дальнейшем государственном устройстве с последующим формированием всех необходимых органов власти и наделением их соответствующими прерогативами. Это было тем более необходимо, что незаконный акт 2 августа 1940 г. ликвидировал автономию на левом берегу Днестра в составе Украины со столицей в Тирасполе. Поэтому провозглашение правобережья частью румынского государства совершенно обязательно должно было сопровождаться референдумом на той территории бывшей МАССР, которая никогда в состав Румынии не входила и с отменой МССР в обязательном порядке должна была пройти все процедуры самоопределения.
Таким образом, то, что спонтанно сделал народ Приднестровья на референдумах в начале 90-х годов, должно было организовать само правительство Молдовы, исходя из духа, буквы и необходимых последствий принимаемых им же решений.
Руководство СССР в лице М. Горбачева никак не отреагировало на отмену парламентом Молдовы упомянутого акта, хотя по законам еще существовавшего тогда Союза республиканское правительство не имело прерогатив отменять его конституционные законы. Своим бездействием Правительство СССР определенным образом признало отмену акта 2 августа 1940 г., а значит, и «незаконность» создания Молдавской ССР и «незаконность» самих властей Молдовы, которые сумели отменить самих себя.
Многонациональный народ Приднестровья был поставлен перед выбором: вернуться ли в состав Украины в качестве автономной республики, признать ли Приднестровье вслед за Молдовой оккупированной румынской землей или приступить к созданию собственного государства, точнее, к восстановлению незаконно отмененной государственности. На референдумах, многочисленных собраниях, сходах, ми-

38 |
История Приднестровской Молдавской Республики |
|
|
тингах приднестровский народ недвусмысленно и демократично высказал свое желание воссоздать государственность.
Возбуждение вопроса о границах МССР – это попытка реанимировать ту незаконную государственность в тех незаконных границах, которые были искусственно созданы сталинским режимом 2 августа 1940 г. и которые высший орган государственной власти Республики Молдова отменил в июне 1990 г. В той же мере всякие попытки «восстановить конституционный порядок» в Приднестровском регионе со стороны Молдовы есть ни что иное как агрессия, преступное посягательство на право народа Приднестровья на самоопределение, рецидив новой ликвидации законно восстановленной государственности, не имеющей по отношению к Бессарабии или Румынии никаких обязательств.
С точки зрения международного права, с очевидностью проявляется и следующий аспект данной ситуации. До Беловежских соглашений декабря 1991 г., т. е. до момента распада Советского Союза, абсолютно все государства (признанные или непризнанные впоследствии), объявившие о своей независимости на его территории, являлись «самопровозглашенными» и не потеряли этого статуса до сих пор. А поскольку Приднестровье приняло Декларацию о независимости на два дня раньше Молдовы и до конца 1991 г. (т. е. до момента официальной ликвидации СССР) успело провести соответствующий референдум, то провозглашенная Приднестровская Молдавская Республика, с юридической точки зрения и здравого смысла, имеет больше оснований для международного признания, чем Республика Молдова. И если произошло иначе, значит в вопросах признания были задействованы более весомые факторы, чем нормы права.
Правомерность создания ПМР можно было бы оспаривать на основании законов только того государства, которое на тот момент было признано международным сообществом и юрисдикция которого на всех его территориях также признавалась, т. е. на основании законодательства СССР. Но именно законы СССР были нарушены всеми входившими в его состав республиками, как признанными, так и не признанными впоследствии. Отличие заключалось лишь в том, что одни республики нарушали законы Советского Союза, чтобы его развалить, а другие – чтобы его сохранить. К числу последних, несомненно, можно отнести Приднестровскую Молдавскую Республику, народ которой меньше всего заслуживает обвинений в сепаратизме.
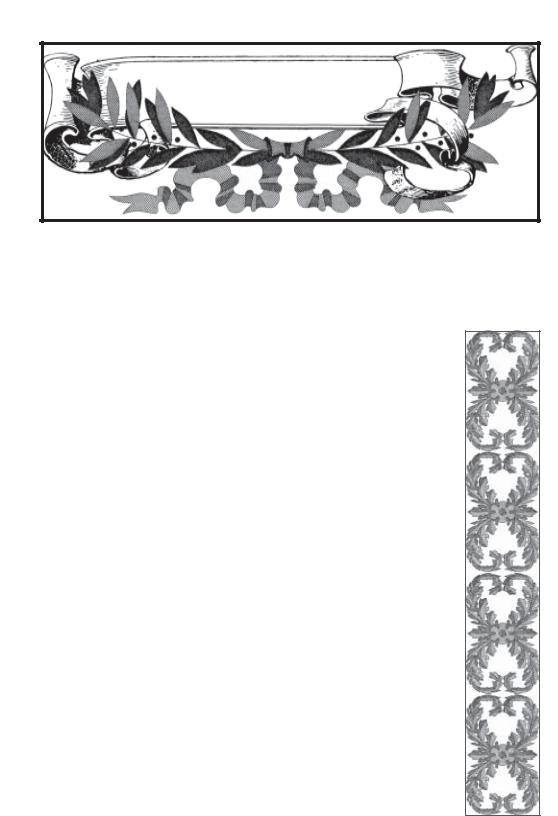
ГЛАВА XV
БОРЬБА НАРОДА ПРИДНЕСТРОВЬЯ ЗА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ ПМР
§1. Этнополитические процессы
èнациональные отношения
âМолдавии в 40–80-å ãîäû
ÕÕстолетия
Ìолдавенизм и румынизм. Восстановление 28 июня 1940 г. государственной целостности молдавского народа и образование 23 авгус-
та 1940 г. союзной Молдавской республики положили начало процессу устранения расхождений в менталитете и культуре молдаван, проживающих восточнее и западнее Днестра, хотя их говоры значительно различались.
Национально-культурная консолидация молдавской нации требовала выработки общемолдавского литературного языка. Принципы формирования такого языка на основе говоров правобережья Днестра были выработаны в марте 1941 г. Состоявшаяся в Кишиневе научная сессия по проблемам молдавского языкознания одобрила новые нормы молдавского литературного языка, включая правила орфографии, основанные на языковой традиции. Постановлением Верховного Совета Молдавской ССР молдавскому языку была возвращена традиционная молдавская кириллическая графика. Реализация языковой реформы продолжалась и после окончания Великой Отечественной войны.
Осознание своей причастности к завоеванию победы укрепило в молдавском народе национальное достоинство, ориентацию на государственность России (СССР). Взгляд широких кругов молдавской общественности на родной язык еще в разгар войны (1943 г.) четко сформулировал видный языковед профессор И.И. Иримица. Молдавский язык, считал он, «имеет... свои фонетические и морфологические особенности, имеет свою грамматику,
40 |
История Приднестровской Молдавской Республики |
|
|
которая отличается от румынской, не говоря уже о лексике, где разница слишком бросается в глаза». К началу 50-х годов в Молдавии сложилась лингвистическая школа, ориентировавшаяся большей частью на молдавский литературный язык периода молдавского национального подъема 1905–1917 гг. В 1945–1950 гг. на основе предложенного этой школой варианта литературного языка при численности молдаван 1,7 млн человек в республике было обучено грамоте 900 тыс. взрослого населения. Лидер молдавских «самобытников» профессор И.Д. Чобану полагал, что стандарты молдавской орфографии, установленные в 1941–1945 гг., выдержали испытание временем, а историк А.В. Грекул пытался обосновать положение о том, что к середине 50-х годов воссоединенные части молдавской нации консолидировались.
На деле ситуация была иной. На язык молдавской прессы, радио, официального общения влиял разговорный язык молдаван Бессарабии. Уже в декабре 1951 г. на совместной сессии Института языкознания АН СССР и Института истории, языка и литературы Молдавского филиала АН СССР по вопросам молдавского языкознания академик АН СССР В.Ф. Шишмарев выступил против формирования литературного молдавского языка на основе диалекта молдаван левобережья Днестра и призвал исходить в языковом строительстве «из современного живого языка наиболее авторитетной в культурно-политическом отношении области, речь населения которой в то же время наиболее понятна для другой части страны». Таковым, уточнил языковед, «является наречие Кишинева и близлежащих к нему населенных пунктов». В конце 1955 г. на лингвистической конференции было высказано мнение изменить отношение к румынскому языку, поскольку Румыния стала народно-демократическим государством, что явилось призывом к отказу от молдавского языкового суверенитета.
Наличие у молдаван собственной государственности укрепляло их национальное самосознание, ограждало от административного и отчасти этнокультурного давления Румынии. Молдавский культурный суверенитет опирался также на молдавское национальное самосознание. В социально-экономическом развитии Молдавская республика опережала Румынию, особенно соседнюю Запрутскую Молдову. С 1 сентября 1958 г. в Молдавской ССР было введено обязательное изучение молдавского языка в школах с русским языком обучения. В 50-е годы учреждается ряд молдавских либо молдавско-русских по языку издания журналов и газет, что открывает перед интеллигенцией новые возможности творческого роста.
Однако среди молдавской бюрократии и интеллигенции усиливался раскол. Их бессарабские фракции стремились увеличить свое представительство в структурах власти, вытеснив оттуда левобережных молдаван. «Можно констатировать, – сетовала группа литераторов в коллективном письме руководству МССР в 1956 г., – что сейчас, через 16 лет (после воссоединения Бессарабии с СССР), не только партийное и государственное руководство Молдавии, но и профессиональные организации, министерства и ведомства, районные партийные органы и исполнительные комитеты, органы юстиции и т. д. не включают достаточно местных бессарабских кадров...
Жители правобережной Молдавии воспринимаются как «неспособные», не заслуживающие доверия с политической точки зрения.» На министерских и других руководящих постах, вопреки фактам, «не было ни одного бессарабца», – утверждал и бывший лидер КП Молдавии И.И. Бодюл. Стремясь превратить обретенное в период румынской оккупации знание румынского литературного языка в социальное преимущество, некоторые бессарабцы от КПМ поддержали в молдавском языкознании течение румынистов, т. е. той части интеллигенции и номенклатурных работников, которые на деле осуществляли румынизацию молдавского языка и культуры.
Учитывая приверженность молдаван национальной культурной традиции, румынисты не отказывались от глотонима «молдавский язык» и от кириллической графи-

Глава ХV. Борьба народа Приднестровья за самоопределение... |
41 |
ки, но пополнение словарного фонда молдавского языка под их влиянием стало осуществляться в основном при посредстве румынского. Невзирая на молдавскую культурную традицию, румынисты начали целенаправленное уничтожение языковой индивидуальности, свойственной молдавской классической литературе и живой молдавской речи, приступили к массированному внедрению в молдавский литературный язык французизмов, галлицизмов, латинизмов, румынских диалектизмов, к вытеснению чисто молдавских слов и славянских заимствований, составлявших до 40% базового лексического фонда молдавского языка, стали игнорировать молдавскую орфографию. Политика румынизации молдавского языка в 50–80-е годы не изменила национальное сознание молдавского народа, но углубила социально-культурные расхождения между молдаванами левого и правого берегов Днестра.
Несмотря на усиливающиеся социально-культурные противоречия, темпы экономического развития Молдавии в 60–80-е годы были достаточно высокими. Интегрированность ее экономики с народнохозяйственным комплексом СССР, крупные капиталовложения министерств и ведомств Союза обеспечили республике быструю индустриализацию. Число рабочих и служащих, составлявшее в 1940 г. всего 100 тыс. человек, к 1960 г. возросло до 439 тыс., а в 1980 г. – до 1500. За 1960–1980 гг. народное хозяйство Молдавии получило более 150 тыс. специалистов высшей квалификации и 193 тыс. – средней. Было подготовлено 50 тыс. специалистов сельского хозяйства, 45 тыс. учителей, 14 тыс. врачей, а также 42 тыс. медицинских и других работников средней квалификации. В 1980 г. на тысячу жителей в республике приходилось 572 человека с полным средним и высшим образованием – больше, чем в наиболее развитых странах Запада. По уровню образованности населения Молдавия вышла на среднеевропейский уровень.
Социальных и экономических причин для возникновения националистических, сепаратистских движений в республике не было. Молдаване составляли две трети нового поколения интеллигенции. Обладая фактически официальным статусом, молдавский язык функционировал в образовании, науке, культуре, богослужении. Однако его позиции в политической жизни, официальном общении, делопроизводстве были слабы, не привился он также в финансовой и технической сферах. Тем не менее его социальные функции неуклонно расширялись. Школа давала качественное образование, открывавшее молодежи двери самых престижных университетов страны. Плеяда молодых деятелей культуры обеспечила взлет молдавской литературы, молдавского театра, молдавской музыки, молдавского киноискусства, молдавской хореографии. Успехи в развитии экономики и культуры, повышении жизненного уровня укрепляли национальное достоинство молдаван.
Однако особая чуткость правящей партии к национальным требованиям провоцировала титульную бюрократию к поддержке течения румынистов. В обмен на отказ от политической оппозиционности руководство КП Молдавии предоставило румынистам свободу действий в деле разрушения молдавской культурной самобытности. В 60–70-е годы, «с приходом к власти И.И. Бодюла, – отмечал языковед профессор И.Д. Чобану, – прорумынский режим и его последствия на деле ожесточились». Своеобразие устной речи молдаван, фонетические и лексические особенности языка – мелодичность, мягкость произношения, словарное своеобразие, отличающие его от литературного румынского языка, – румынисты трактовали как свидетельства некоей культурной отсталости молдаван. Через электронные средства массовой информации, систему образования, прессу, литературу румынисты подгоняли молдавский литературный язык под стандарты румынского.
В условиях СССР существование молдаван как самобытного народа не внушало опасений, и лишь немногие видели в румынизме этнокультурную угрозу молдавской
42 |
История Приднестровской Молдавской Республики |
|
|
национально-культурной самобытности. Молдавскую государственность «образованное сословие» рассматривало как данность. Часть молдавской интеллигенции пошла за «модернизаторами» молдавского языка, поскольку была дезориентирована мифологией прогрессизма. Другая – в силу еще непреодоленного разрыва молдавской культурной традиции – расценивала внедрение румынских языковых стандартов как восстановление неких исторических связей. Но главное заключалось в том, что у бюрократии сохранялась социальная заинтересованность в поощрении румынизма.
Â60-å годы в Молдавии, как и в других субъектах СССР, политика «коренизации аппарата» взяла курс на установление этнической монополии на управление. Аппаратом ЦК КПМ проводилась политика замещения руководящих постов почти исклю- чительно лицами, принадлежавшими к «титульной нации». По свидетельству партийного лидера того времени, к концу 1970 г. «молдаван среди первых секретарей горкомов и райкомов было 70 процентов, председателей горрайисполкомов – 75, секретарей райкомов и горкомов комсомола – 85». Эти нарушения национальной справедливости порождали недовольство «нетитульного населения». Проявления национализма у молдаван, и особенно сепаратистские тенденции в форме этнокультурного румынизма, позволяли руководству КПМ шантажировать и союзный Центр и национальные меньшинства Молдавии.
Отказ интеллигенции от защиты культурного суверенитета молдавской нации обрек молдаван на положение вечно догоняющих. Не только рабочие и крестьяне, но и люди с высшим образованием не успевали усваивать влившийся в молдавский литературный язык поток заимствованных из западноевропейских языков словарных единиц. Перегруженная неологизмами молдавская пресса становилась малодоступной даже для интеллигентов. Читатели находили выход из затруднения, обращаясь к русским газетам. К литературному языку они прибегали только вынужденно, предпочитая пользоваться традиционной молдавской речью. Не прививалось у молдаван
èрумынское произношение. Дистанция между литературным языком, насаждаемым через массовую информацию и с университетских кафедр, и естественным молдавским языком увеличивалась. Слабое знание нового литературного языка служащими препятствовало его распространению в сфере официального общения и делопроизводстве.
Уничижительная идея о культурной отсталости молдаван, исподволь внедряемая в массовое сознание в процессе насильственного «реформирования» языка, формировала у молдавской интеллигенции комплекс национальной неполноценности. Необходимость ориентироваться на чужие образцы в сфере языка и культуры, заимствовать и имитировать их унижала национальное достоинство молдаван. Подчи- нение речи образованных слоев населения румынским языковым стандартам вело к растущему недоверию народа к собственной интеллигенции. Языковые расхождения внутри молдавской нации создавали угрозу ее этнокультурного раскола.
Â50–60-å годы определились также разновекторные национально-культурные ориентиры молдаван, проживающих на правом и левом берегах Днестра. Инициируемая румынистами враждебность к молдаванам левобережья, нашедшая выражение даже в поговорке «Если хочешь быть министром, нужно быть заднестровцем», привела к вытеснению специалистов, подготовленных в Молдавской автономии, с руководящих постов в республиканских органах МССР, из престижных сфер деятельности, к негласной дискриминации в доступе к высшему образованию. В 70–80-е годы руководящие посты приднестровских районов все больше замещались выходцами из Бессарабии. В отличие от политики «коренизации аппарата», эту практику нельзя было замаскировать лозунгами интернационализма, и отчуждение между молдаванами двух берегов стало резко возрастать.

Глава ХV. Борьба народа Приднестровья за самоопределение... |
43 |
Этнократический курс в кадровой политике КПМ, возобладавший в период лидерства И.И. Бодюла, постепенно ограничивал социальные перспективы «нетитульного» населения республики. Русская и украинская молодежь Приднестровья все больше ориентировалась на получение образования не в Кишиневе, а за пределами Молдавии – в России и Украине, особенно в Одессе. Получая работу в порядке послевузовского распределения в тех же регионах, значительная ее часть уже не возвращалась в республику. И только благодаря промышленному подъему 70–80-х годов, особенно строительству металлургического завода в Рыбнице, привлекшему в Приднестровье немало рабочих и специалистов, восполнялись потери от эмиграции. Тем не менее напряженность в обществе не снижалась.
Национально-культурная и кадровая политика официального Кишинева также обостряла на левом берегу Днестра недовольство населения политикой инвестиций в социальной сфере. Население региона укреплялось во мнении, что бурное жилищное строительство в столице республики ведется в значительной части за счет средств, отчисляемых промышленными предприятиями Тирасполя, Рыбницы, Бендер. Крестьяне не понимали, почему поземельный налог и другие платежи в левобережных районах вдвое выше, чем в правобережных. Концентрация в Кишиневе научных учреждений и высших учебных заведений, в том числе технических, также осознавалась общественностью, особенно интеллигенцией, как форма региональной дискриминации Приднестровья. Люди не понимали, почему функции финансового донора республики, установленные для региона в трудные послевоенные годы, нужно было выполнять в благополучные времена.
И, наконец, прямое включение экономики Приднестровья в общегосударственный народнохозяйственный комплекс превращало республиканские инстанции в излишнюю структуру. Вспышка румынизма, спровоцированная на правом берегу Днестра в финале «перестройки», должна была усилить в Приднестровском регионе стремление к освобождению от диктата республиканского Центра.
Политика румынизации и национальной дискриминации в Молдавии. Проекты экономических реформ, выдвигаемых в после-
дние годы перестройки, не привели к политическому размежеванию в Молдавии. Дестабилизация в республике была осуществлена в соответствии с общесоюзным сценарием, опробованным в 70-е годы на Кавказе. В те времена бюрократия республик Закавказья, придав государственный статус языкам «титульных наций», легализовала свои этнические преференции. Массовые увольнения «нетитульных» служащих необычайно обострили на Кавказе межнациональные отношения. 2 марта 1988 г. на пленуме Союза писателей СССР в Москве была озвучена идея придания государственного статуса языкам «титульных наций» всех союзных республик.
В Молдавии актуализация вопросов языковой политики не была связана с лингвистической ситуацией. Молдавский язык являлся родным либо вторым, которым свободно владели, для 66% молдаван и 11% лиц, принадлежавших к национальным меньшинствам. Русский язык был таковым для 68% населения, в том числе для 58% молдаван. Оба языка фактически считались официальными: они были языками политики, науки, культуры, профессионального общения, делопроизводства, массовой информации. Их использование обеспечивало также национальное равноправие в доступе к высшему образованию. Языковая политика до конца 80-х годов не вызывала существенных проблем. Тем не менее сразу после съезда писателей СССР в журнале «Нистру» (1988 г. ¹ 4), как и в литературных журналах других союзных республик, была опубликована заказная статья в поддержку идеи придания статуса государственного языкам «титульных наций».
44 |
История Приднестровской Молдавской Республики |
|
|
Отклонением от кавказского сценария стала в Молдавии пропаганда румынизма. Наряду с утверждениями о якобы маргинализации русского языка и, следовательно, его носителей национал-радикалы потребовали перевода молдавской письменности на латинскую графику. Их требования были включены в «письмо», подписанное 66 литераторами, преподавателями высшей школы, научными работниками, опубликованное 20 сентября 1988 г. Одновременно развернулась кампания по дискредитации русских и украинцев, занимавших в Молдавии политически значимые посты: президента АН МССР А.А. Жученко, председателя Госплана республики В.Г. Кутыркина, Генерального прокурора Н.К. Демиденко, главы Молдавской православной церкви митрополита Серапиона.
Пытаясь защитить национальное равноправие и молдавскую самобытность, часть руководства КПМ изложила свою позицию в тезисах ЦК «Конкретными делами укреплять перестройку». Однако группа М.С. Горбачева, по ложному обвинению, добилась смещения, а затем и ареста второго секретаря ЦК КПМ В.И. Смирнова, а созданная при содействии «горбачевистов» в КПМ капитулянтская «демократическая платформа» – снятия с постов главы Правительства МССР И.П. Калина, министра здравоохранения, Героя Социалистического Труда профессора К.А. Драганюка, министра транспорта И.С. Болбата, секретаря ЦК КПМ Н.Ф. Бондарчука, других деятелей, стоявших на позициях национального равноправия и отстаивавших молдавскую самобытность.
Под давлением капитулянтов из ЦК КПМ в конце 1988 г. из должностных лиц Академии наук МССР, в большинстве своем ориентировавшихся на политическую конъюнктуру, была создана специальная комиссия, призванная рассмотреть требования о придании государственного статуса только молдавскому языку, о признании его идентичности с румынским и переводе молдавской письменности на латинскую графику. Пренебрегая принципами равноправия, жертвуя культурным суверенитетом молдавской нации, комиссия вынесла положительные заключения по всем пунктам.
Под лозунгом «Один язык – один народ!» румынисты открыто потребовали от молдаван отказа от молдавской национальной идентичности. 16 февраля 1989 г. они опубликовали от имени Союза писателей проект закона «О функционировании языков на территории Молдавской ССР». Проект был вызывающе антидемократичен. Он предусматривал административную и даже уголовную ответственность должностных лиц, допускающих использование в официальном общении иного языка, нежели государственный. Кроме того, его авторы отрицали право родителей выбирать своим детям язык обучения. Официальный законопроект, подготовленный Рабочей группой Верховного Совета МССР и опубликованный 30 марта 1989 г., также игнорировал реалии лингвистической ситуации в Молдавии. Легализация этнических преференций титульной бюрократии оказалась увязанной с отказом молдавской нации от культурного суверенитета.
Против разрушения молдавской самобытности и политики агрессивной румынизации выступили ученые-молдаване историки А.М. Лазарев, В.Я. Гросул, Н.В. Бабилунга, историк и филолог В.Н. Стати, юрист В.Н. Яковлев, филолог И.Д. Чобану и др. Но раскол в правящей партии говорил о неспособности КПМ защитить национальное равноправие и молдавскую самобытность. Обсуждение законопроектов о языковом режиме позволило румынистам, без должных оснований выступавшим от имени молдавской нации, внести в общественное сознание межэтнический раскол. В республике приступили к формированию новых общественно-политических структур.
В 1988–1989 гг. при посредстве КГБ МССР и эмиссаров из Прибалтики в Молдавии создаются национал-радикальные унионистские организации, из пропагандистских соображений именовавшие себя «демократами»: инициативная группа Демок-
