
история социологии мельников 2015 нгту
.pdf
Т е м а 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОЦИОЛОГИИ
который питается, одевается, удовлетворяет свои потребности приблизительноаналогичнымобразом.Новыегруппировки(публика)заменяют царство обычая царством моды и традиции, а определенную социальную дифференциацию – немногочисленными ее разновидностями. Публика – это среда, в которой происходит формирование общественного мнения. Значительную роль в становлении публики Тард отводил средствам связи и массовой коммуникации, особенно газетам.
Тард по праву может быть назван одним из создателей социальной психологии, научного изучения массового поведения и социальнопсихологических механизмов межличностного взаимодействия (вместе с Г. Зиммелем). Его труды сыграли важную роль в развитии социологи ческого изучения средств массовой информации, а также средств и спо собов, посредством которых они управляют массовым сознанием и поведением. Тард одним из первых показал возможность рассматривать поведение так называемых образованных классов общества или, говоря современным языком, среднего класса как поведение, немногим отличающееся от поведения массы и толпы. Его труды помогают лучше понять психологию потребителя товаров и избирателя. Тарда также ценят за его исследования в области моральной статистики, социологии преступности и за создание социальных портретов преступников.
Социологический взгляд на работы Фрейда
Зигмунд Фрейд (1856–1939) останется в истории науки и человечества как выдающийся психолог и психиатр. Но его творчество представляет немалый интерес и для социолога. Французский ученый Серж Московичи назвал Фрейда самым верным последователем Ле Бона и Тарда. Из работ, посвященных изложению Фрейдом своих взглядов на общество, наиболее важны работы последних лет жизни: «Будущее одной иллюзии» (1927); «Неудовлетворенность культурой, или Цивилизация и ее тяготы» (1930); «Моисей и монотеистическая ре-
лигия» (1934–1938).
Ученые, изучающие социологические аспекты творчества Фрейда, приходят к выводу, что главной проблемой, которую пытался разрешить Фрейд, была проблема противоречий между интересами индивида, стремящегося к полному удовлетворению своих интересов, и общества, интересы которого расходились с интересами отдельных
111

История социологии
его членов. Эти противоречия осмысливались Фрейдом в контексте его теории сексуальности и агрессивности как врожденных человеческих свойств, которые общество старается подчинить себе, «укротить» или «цивилизировать». Фрейд старательно подчеркивал противоречие между значением удовлетворения сексуальности и агрессивности для индивида и важностью социального контроля для цивилизации, определяя социальный порядок как хрупкий компромисс между сексуальным удовлетворением, социальной дисциплиной и работой. При этом Фрейд относился к обществу двояко. С одной стороны, он рассматривал общество как систему социального контроля, необходимый инструмент обуздания человеческих инстинктов, в том числе инстинкта смерти, освобождение которых способно привести к гибели человечества, но с другой – общество виделось Фрейду как то, что неизбежно ведет ко все большему извращению человеческой личности, росту неврозов и т. д.
Труды Фрейда стали известными после Первой мировой войны. Пол Джонсон пишет: «Причиной этому послужило внимание, которое продолжительная окопная война сфокусировала на случаях душевного расстройства, вызванного стрессом; в обиходе это называли «бомбовым шоком»… Фрейд … предложил психоанализ, который выглядел как утонченная альтернатива «героическим» методам лечения душевных болезней – лекарствам, усмирению или обработке электрическим шоком»113. Эрик Хобсбаум отметил другую причину известности Фрейда: «Наряду с Эйнштейном, Фрейд, возможно, является единственным ученым…, чье имя повсюду знакомо людям на улице. Без сомнения, это произошло благодаря удобству теории, которая позволяла мужчинам и женщинам отбросить вину за свои действия кое в чем, чему они не могли помочь, вроде их подсознания. Но даже больше тому факту, что Фрейд мог справедливо рассматриваться как разрушитель сексуальных табу и, совершенно неверно, как сторонник свободы от сексуального подавления. Ибо сексуальность … была центральной в теории Фрейда»114.
Фрейд открыл человечеству знание тех истин о человеческой природе, которые были не только неизвестными, но, может быть, казались невозможными. Работы Фрейда по последствиям, которые они оказа-
113 Джонсон П. Мир с двадцатых по девяностые годы. – С. 13, 14.
114 Хобсбаум Э. Век Империи. 1875–1914. – С. 396, 397.
112

Т е м а 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОЦИОЛОГИИ
ли на общество, часто сравнивали с трудами Маркса. Обратимся еще раз к Джонсону: «Марксизм, который тогда впервые взобрался на трон власти, был еще одной формой гностицизма, претендовавшей на проникновение сквозь эмпирически воспринимаемую оболочку вещей к скрытой сущности. Приведем цитату из Маркса, которая поразительным образом предвосхищала цитированный выше абзац Фрейда: «Конечнаякартинаэкономическихотношений,каконавиднанаповерхности … очень отличается и по сути дела является противоположной их внутренней, но скрытой сущности… Видимое поведение индивидов просто скрывает классовую структуру, о которой они почти не имеют представления. Но которую они бессильны одолеть. Таким же образом во фрейдистском анализе личная совесть, находящаяся в самом ядре иудейско-христианской этики и являющаяся главным двигателем личных завоеваний, сводится к роли простого предохранителя, созданного коллективно для защиты цивилизованного порядка от ужасной агрессивности человека»115.
Наше Я
Какой же виделась Фрейду человеческая личность? Уже из первых лекций знаменитого курса «Введение в психоанализ» мы узнаем о существовании Оно, Я и Сверх-Я. Человеческая личность сложна по своей природе, но ее ядро, несомненно, составляет Я.
Под именем Оно у Фрейда фигурирует область бессознательного, стихийного андеграунда нашей природы. В нем находят выход все наши инстинкты. Фрейд красочно описывает Оно, сравнивая его то с хаосом, то с котлом, полным бурлящих возбуждений. Оно не знакомы никакие оценки, никакое добро и зло, никакая мораль. Оно не имеет организации, не обнаруживает общей воли, а только стремление удовлетворить инстинктивные потребности при сохранении принципа удовольствия. Для процессов в Оно не существует логических законов мышления. Оно является нашим фундаментом, почвой, из которой появляется наше Я. Сверх-Я нависает над нами как крыша, которая, однако, не создает ощущения уюта и защищенности. Сущность Сверх-Я Фрейдописываетследующимобразом.«Сверх-Яявляетсядлянаспред- ставителем всех моральных ограничений, поборником стремления к совершенствованию, короче, тем, что нам стало психологически до-
115 Джонсон П. Указ. соч. – С. 19.
113
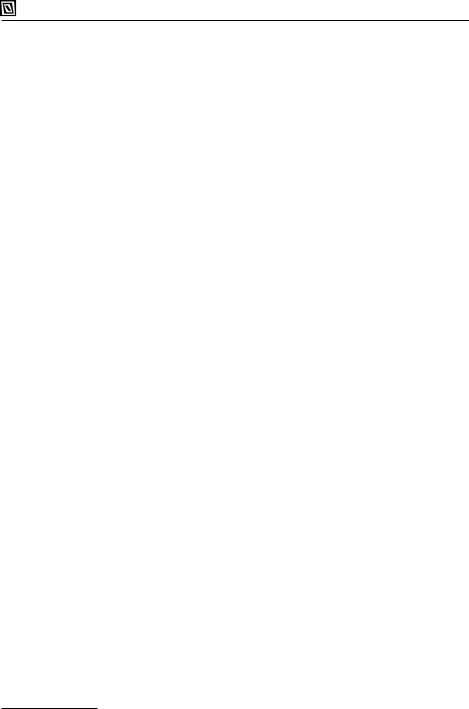
История социологии
ступно из так называемого более возвышенного в человеческой жизни». Сверх-Я – это сумма общественных культурных установлений и норм.
Между двумя этими силами, одинаково могучими, и укрывается, ютится наше Я. «В своем стремлении посредничать между Оно и реальностью оно часто вынуждено одевать бессознательные требования Оно
всвои предсознательные рационализации, затушевывать конфликты Оно с реальностью, даже если Оно упорствует и не сдается. С другой стороны, за ним на каждом шагу наблюдает строгое Сверх-Я, которое предписывает ему определенные нормы поведения, невзирая на трудности со стороны Оно и внешнегомира, и наказывает его в случае непослушания напряженным чувством неполноценности и сознания вины. Так Я, движимое Оно, стесненное Сверх-Я, отталкиваемое реальностью, прилагает все усилия для выполнения своей экономической задачи установления гармонии между силами и влияниями, которые действуют в нем и на него… Если Я вынуждено признать свою слабость, в нем возникает страх, реальный страх перед внешним миром, страх совести перед Сверх-Я, невротический страх перед силой страстей в Оно»116.
Все сказанное Фрейдом о структуре личности вызвало большой интерес у многих видных социологов, например, у Талкотта Парсонса (1902–1979),которыйпризнавал,чтоФрейдоказалнаформированиеего взглядовогромноевлияние.Парсонсписал:«ПричтенииработФрейда мне постепенно открывалась важность того, что я и другие начали называть феноменом интернализации (собственный термин Фрейда был “интроекция”) как социокультурных норм, так и представлений о личностях других людей, с которыми индивид взаимодействовал прежде всего как “субъект социализации” (второй случай иногда называют процессом “идентификации”). Впервые эта идея отчетливо проявилась
вконцепции сверх-Я, хотя можно говорить о ее присутствии у Фрейда уже на ранней стадии, особенно в концепции “переноса” … Фрейд начал рассматривать моральные нормы, в частности, внедряемые отцом, как неотъемлемую часть личности ребенка, прошедшего через известные фазы процесса обучения. Постепенно сфера действия этого фрагмента фрейдовской теории “объектных отношений” расширялась в более поздних работах, охватывая не только сверх-Я, но и Я и даже Оно. Почти тогда же мне стало ясно, что очень похожая концепция, развитая с совсем иных позиций, не чужда и Дюркгейму, особенно в его теории
116 Фрейд З. Введение в психоанализ: лекции. – С. 348.
114

Т е м а 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОЦИОЛОГИИ
социального контроля посредством морального авторитета. Та же идея подразумевалась, по меньшей мере неявно, в веберовской трактовке роли религиозных ценностей в детерминации поведения и очень отчетливо проявилась в трудах группы американских социопсихологов, особенно Дж. Г. Мида и У. Томаса»117.
Цивилизация
В работе «Цивилизация и ее тяготы» Фрейд рассматривает цивилизацию как «всю сумму достижений и правил, которые отличают нашу жизнь от жизни наших животных предков и которые служат двум целям, а именно – защищать людей от природы и регулировать их взаимоотношения»118. Уровень развития цивилизации Фрейд связывает со степенью удовлетворения ее требований: способности защитить человека от сил природы, расцвета красоты, победы чистоты и порядка. Прекрасно характеризуют цивилизацию поддержка умственной деятельности человека – его интеллектуальных, научных и художественных достижений. Последняя, но не менее важная особенность цивилизации, связывается Фрейдом с тем, «каким образом регулируются отношения людей друг с другом, их социальные отношения – то, что затрагивает человека в качестве соседа, источника помощи, сексуального объекта, члена семьи и гражданина»119.
Решающим шагом к цивилизации является замена власти индивида властью сообщества. «Сущность этого лежит в том факте, что члены сообщества ограничивают себя в возможностях удовлетворения, принимая во внимание, что индивидуум не знал никаких таких ограничений. Поэтому первая необходимость цивилизации – это правосудие, то есть гарантия, что однажды установленный закон не будет нарушен в пользу индивида»120.
Замена власти индивида над собою властью общества над индивидом оценивается Фрейдом как деятельность по ограничению человеческой личной свободы. Но ограничивается не только Я, но и Я, управляемоеОно,стихиейинстинктовивлечений,властькоторыхнадчеловеком не менее, а, пожалуй, более тяжела, чем власть цивилизации.
117 Парсонс Т. Система современных обществ. – С. 223.
118 Фрейд З. Цивилизация и ее тяготы // Развитие личности. – 2002. – № 2. – С. 201, 202.
119 Там же. – С. 206.
120 Там же. – С. 207.
115

История социологии
Фрейдхорошопонималсложностьпредложенныхимобъяснений. «Развитие цивилизации налагает ограничения на свободу, и правосудие требует, чтобы никто не нарушал этих ограничений. То, что ощущается в человеческом сообществе как желание свободы, может быть восстанием людей против некоей существующей несправедливости, которое, в свою очередь, способно влиять на дальнейшее развитие цивилизации… Но это может также исходить от остатков их первоначальной индивидуальности, которая все еще не приручена цивилизацией и способна, таким образом, стать основой враждебности по отношению к цивилизации»121.
То, что описывается Фрейдом как остатки первоначальной индивидуальности человека, суть, во-первых, инстинкты человека – инстинкт жизни, описываемый как Эрос, и инстинкт смерти, самоуничтожения, или Танатос, а во-вторых, суть влечения человека. Прежде всего, к пользе и получению наслаждения, но также и к удовлетворению своей агрессивности.
Нельзя не видеть, писал Фрейд, «до какой степени цивилизация создана на отказе от инстинкта, насколько это предполагает отсутствие удовлетворения (подавлением, репрессией или какими-то другими средствами) сильных инстинктов». «Цивилизация должна использовать предельные усилия, чтобы устанавливать, ограничивать агрессивные инстинкты человека и держать их проявления под контролем психическими формированиями эмоций. Следовательно, отсюда использование методов, направленных на подстрекание людей к идентификациям и запрещенные целью любовные отношения. Ограничения на сексуальную жизнь и идеальная заповедь любить ближнего как самого себя – заповедь, которая, действительно, оправдана тем фактом, что ничто иное не находится в таком противоречии с первоначальной природой человека»122.
Таким видится Фрейду развитие цивилизации и воздействие ее на индивида. Какую цену платит человек за свое развитие? Борьба с инстинктом любви приводит к тому, что сексуальная жизнь людей, ставших культурными, цивилизованными, «сильно искалечена и чувствительно ослаблена как источник ощущения счастья, как средство
121 Фрейд З. Указ. соч. – С. 207.
122 Фрейд З. Цивилизация и ее тяготы // Развитие личности. – 2002. – № 3. – С. 227.
116

Т е м а 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОЦИОЛОГИИ
достижения нашей жизненной цели»123. Цивилизация побеждает опасные агрессивные страсти человеческого Я путем их ослабления и обезоруживания. Но эта миссия сравнивается Фрейдом с пребыванием оккупационной власти в завоеванном городе. Чем сильнее подчиняет цивилизация нашу первичную природу – чувствующую и вожделеющую, тем сильнее становится ощущение невыносимой тяжести, которую чувствует наша природа, наше Я, тем сильнее становится желание сбросить со своих плеч это бремя цивилизации, тем сильнее желание освободиться. Цивилизованный «человек становится невротиком, потому что он не может вынести суммы ограничений, налагаемых на него обществом, преследующим свои культурные идеалы»124.
Но человек становится не только невротиком. Вырастает агрессивность, направленная людьми друг на друга, враждебность, против которой приходится бороться всем цивилизациям, борьба и соревнование. Как можно их победить?
Вариант, предложенный марксистами, Фрейд считал ошибочным потому, что, «отменяя частную собственность, мы лишаем человеческую любовь к агрессии одного из ее инструментов». Фрейд также писал: «Коммунисты полагают, что они нашли путь к избавлению от нашего зла… Я никоим образом не касаюсь экономической критики коммунистической системы; я не могу расследовать, является ли отмена частной собственности целесообразной или выгодной. Но я могу признать, что психологической фундамент, на котором основывается система, является ненадежной иллюзией... Только удивительно, что Советы будут делать после того, как они избавятся от своих буржуа»125.
В 35-й лекции курса «Введение в психоанализ» Фрейд еще раз обратился к этому вопросу. Марксисты утверждают, что экономические мотивы являются единственными, определяющими поведение людей в обществе. Но ведь нельзя не видеть, что различные лица, расы, народы в одинаковых экономических условиях ведут себя по-разному. Это отмечал и Макс Вебер. А потому нельзя говорить о единовластии экономических мотивов. Фрейд считает непонятными попытки обойти психологические факторы, когда речь идет о реакциях живых челове-
123 Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудов летворенность культурой. – С. 191, 192.
124 Там же. – С. 167.
125 Фрейд З. Цивилизация и ее тяготы // Развитие личности. – 2002. – № 2. – С. 227–229.
117

История социологии
ческих существ, поскольку эти факторы участвовали уже в самом установлении экономических отношений.
Оценка Фрейдом марксизма интересна еще и потому, что Фрейд пишет о его социологическом характере. «Если бы кто-нибудь был в состоянии показать, … как … всеобщая человеческая инстинктивная предрасположенность, ее расовые различия и их культурные преобразования ведут себя в условиях социального подчинения, профессиональной деятельности и возможностей заработка, тормозят и стимулируют друг друга, если бы кто-нибудь мог сделать это, то тогда он довел бы марксизм до подлинного обществоведения. Потому что и социология, занимающаяся поведением людей в обществе, не может быть ничем иным, как прикладной психологией»126.
Рациональность и иррациональное
Творчество Фрейда иногда сравнивают с Парето и при этом отмечают, насколько похожими были многие идеи и оценки этих современников. И у Парето, и у Фрейда мы встречаем идею о первичности стихийно-коллективного и бессознательного начала человеческой природы, которое с трудом подчиняется разуму, рациональности. И Парето, и Фрейд подчеркивали, что экономические ценности и мотивации деятельности не могут рассматриваться первичными началами человеческой социальной деятельности. И Парето, и Фрейд пессимистически оценивали будущее человечества.
Обратимся к одному из аспектов данной темы. В курсе лекций «Введениевпсихоанализ»(35-ялекция)Фрейдписалотом,чтонаучное мышление в своей сущности не отличается от обычной мыслительной деятельности, которой все люди пользуются для решения наших жизненных вопросов. Только в некоторых чертах оно организуется особо:
– интересуется также вещами, не имеющими непосредственно ощутимой пользы;
– всячески старается отстраниться от индивидуальных факторов и аффективных влияний;
– более строго проверяет надежность чувственных восприятий, основывая на них свои выводы;
– создает новые взгляды, которых нельзя достичь обыденными средствами;
126 Фрейд З. Введение в психоанализ: лекции. – С. 414.
118

Т е м а 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОЦИОЛОГИИ
– выделяет условия этих новых знаний в намеренно варьируемых опытах.
Все это отличает мышление ученого от мышления обычного человека, хотя в вопросах повседневной жизни и ученый мыслит как обычный человек. Фрейд надеется, что интеллект, или разум, со временем завоюет неограниченную власть в человеческой душевной жизни и поможет делу объединения людей, которых так трудно соединить вместе и которыми поэтому почти невозможно управлять. Причем развитие разума приведет не к подчинению чувств, но, наоборот, поможет им занять достойное место.
Такая оценка разума позволяет видеть Фрейда не защитником стихийного начала нашей природы, которая является врагом культуры, рациональности, цивилизации и разума, но сторонником гуманистического рационализма. Парсонс Т. писал: «Возможно, самым отважным предприятием Фрейда была программа “рационального понимания бессознательного”, сущность которого, по его определению, нерациональна по самой его природе. Фактически, это далеко отстоит и от рационалистического понимания “рационального преследования личного интереса” и от рационалистического понимания стремления к рациональному познанию… В каком смысле и в каких пределах рациональное познание нерационального (что явно затрагивает и физический мир) открывает дорогу контролю над действием? В самом общем виде ответ ясен: оно помогает такому контролю».
В свою очередь, современный социолог И. Валлерстайн пишет: «Я хотел бы обсудить то, что считаю скрытым вызовом Фрейда, направленным против самого понятия рациональности. Дюркгейм называл себя рационалистом. Вебер в своем анализе власти опирался на рационально-легальную легитимацию. А Маркс посвятил свой труд тому, что он называл научным (то есть рациональным) социализмом. Все основоположники нашей науки были детьми Просвещения… Фрейд вовсе не был чужд этой традиции. .. Он сказал миру, и особенно миру медицины, что поведение, которое кажется нам странным и иррациональным, на самом деле вполне объяснимо, если только мы понимаем, что разум индивида работает в значительной степени на уровне, который Фрейд назвал подсознательным. … Весь психоанализ, так называемое “лечение разговором”, был разработан как серия практик, которые могут помочь и врачу, и пациенту осознать процессы, происходящие в подсознании. Этот метод, по сути, напрямую проистекает из
119

История социологии
убеждений просветителей. Он отражает точку зрения, согласно которой повышенное самосознание может привести к более эффективному принятию решений, то есть к более рациональному поведению. Но путь к этому более рациональному поведению лежит через признание того, что так называемое невротическое поведение фактически является “рациональным”, если мы поняли, что индивид хочет сказать таким поведением и, таким образом, его причины. С позиций аналитика поведение может быть далеким от оптимального, но тем не менее не быть иррациональным»127. Валлерстайн приходит к выводу, что «рациональность проявляется только на фоне иррациональности. Фрейд вторгся
вобласть того, что в обществе традиционно считалось иррациональным, невротическим поведением. Его подход был нацелен на то, чтобы раскрыть рациональность, лежащую в основе поведения, кажущегося иррациональным».
ИПарсонс, и Валлерстайн указывают, что Фрейд открыл область бессознательного, но только затем, чтобы показать ее влияние на поведение человека и научиться, изучая ее методами науки, ею управлять.
В заключение отметим следующее.
Уже упомянутый Пол Джонсон указал, что и «Маркс, и Фрейд, и ЭйнштейннесливДвадцатыегодыоднопослание:мирнетакой,каким он выглядит. Нельзя доверять чувствам, эмпирическому восприятию понятий о времени и расстоянии, о добре и зле, о законе и справедливости, о природе поведения человека в обществе. Более того, марксистский и фрейдистский анализы вместе взятые и каждый в отдельности подрывали высокоразвитое чувство личной ответственности и долга к устоявшемуся и объективно правильному моральному кодексу, который стоял в центре европейской цивилизации с XIX века».
Идеи и выводы Фрейда о структуре личности, проблемах отношения между личностью и обществом, росте агрессивности и фрустрации людей вместе с ростом цивилизации оказали огромное, хотя и противоречивое влияние на социологию. Особенное внимание развитию идей Фрейда было уделено представителями франкфуртской школы
всоциологии, в частности Гербертом Маркузе (1898–1979). В работе Маркузе «Эрос и цивилизация. Философское исследование учения Фрейда» (1956) автор представил глубоко критическую концепцию состояния и развития современного общества. Уже с первых строк трактата Маркузе мы встречаем знакомые нам интонации: «Концепция че-
127 Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. – С. 306, 307.
120
