
- •СОДЕРЖАНИЕ
- •Предисловие
- •1.1. Дискуссия о природе и причинах применения иностранного частного права, ее роль в выработке подходов к установлению логики коллизионного регулирования
- •2.2. Общая характеристика разнонаправленного подхода
- •2.3. Общая характеристика однонаправленного подхода
- •3.1. Основные характеристики разнонаправленного подхода
- •3.1.1. Основные элементы учения Савиньи
- •3.2. Нормообразующие факторы, свойственные разнонаправленному подходу
- •3.2.2. Классификация коллизионных нормообразующих факторов
- •3.2.3. Взаимодействие различных групп нормообразующих коллизионных факторов и пример их практического применения
- •3.2.4. Критика теории нормообразующих факторов Г. Кегеля
- •3.2.5. Альтернативные теории о нормообразующих факторах, свойственных разнонаправленному подходу
- •4.1.2. Основные характеристики и разновидности теории статутов
- •4.1.3. Критика теории статутов
- •4.2.1. Разновидности однонаправленного подхода, основанные на использовании понятия «суверенитет» и других категорий международного публичного права
- •4.2.2. Разновидности однонаправленного подхода, делающие акцент на эффективности коллизионных решений, и их критика
- •4.3.2. Классификация современных односторонних коллизионных норм и выявление возможных признаков однонаправленного подхода в каждой из их разновидностей
- •4.4.1. Развитие американского коллизионного права до середины XX в.
- •4.4.2. Основные характеристики теории правительственного интереса Бр. Карри
- •4.4.3. Анализ техники применения теории Бр. Карри
- •4.4.4. Теория lex fori А. Эренцвейга
- •5.1. Понятие сверхимперативной нормы
- •5.3. Теории об условиях применения различных групп сверхимперативных норм
- •5.3.2. Теория специальной связи (special connection theory, Sonderanknüpfungslehre)
- •5.3.3. Теория применения сверхимперативных норм договорного статута (theory of the proper law of contract, Schuldstatuttheorie)
- •5.4. Возможность отнесения к разряду сверхимперативных норм императивных предписаний, имеющих основной целью защиту интересов отдельных субъектов
- •6.1. Тенденция материализации коллизионного права как проявление невозможности рассмотрения коллизионных норм в качестве изолированной системы
- •6.4. Множественность коллизионных привязок как специальный механизм учета материальных нормообразующих факторов на коллизионном уровне
- •6.4.1. Альтернативные коллизионные нормы
- •6.4.2. Субсидиарные коллизионные нормы
- •6.4.3. Кумулятивные коллизионные нормы
- •6.4.4. Дистрибутивные коллизионные нормы
- •6.4.5. Комбинированные привязки
- •6.4.6. Наложение коллизионных норм
- •6.5. Критика тенденции материализации коллизионного права и контраргументы
- •6.7.1. Система В. Венглера
- •6.7.2. Система П. Нойхауза
- •6.7.3. Система Э. Читхэма и В. Риза
- •6.7.4. Система Р. Лефлара
- •6.7.5. Система Второго Свода конфликтного права США
- •6.7.6. Сравнение европейских и американских систем нормообразующих факторов
- •6.8. Выводы относительно наиболее оптимальной системы нормообразующих факторов
- •7.1. Предпосылки для возникновения тенденции гибкого коллизионного регулирования
- •7.2. Функции критерия наиболее тесной связи
- •7.2.1. Наиболее тесная связь как коллизионный принцип
- •7.2.2. Наиболее тесная связь как генеральная или субсидиарная коллизионная привязка
- •7.2.3. Наиболее тесная связь как корректирующая оговорка
- •7.3. Гибкое коллизионное регулирование как смещение центра тяжести коллизионной проблемы с законодательного на правоприменительный уровень
- •7.4. Подходы к раскрытию содержания критерия наиболее тесной связи
- •7.4.1. Коллизионный (территориальный) подход
- •7.4.2. Субъективный подход
- •Заключение
- •Список литературы

— Глава 4 —
европейской коллизионной доктрины и, в частности, дискуссию о составе подлежащих учету нормообразующих факторов. Речь идет об оптимальных пределах применения однонаправленного подхода, связанного с учетом публичных интересов разных стран, а также о возможности и целесообразности включения в состав нормообразующих факторов групп факторов, отражающих такие публичные интересы.
4.4.4. Теория lex fori А. Эренцвейга
Принципиально иной разновидностью однонаправленного подхода является теория права суда (lex fori theory) А. Эренцвейга. Данную теорию нельзя считать проявлением однонаправленного подхода в чистом виде, поскольку А. Эренцвейг признавал существование классических двусторонних коллизионных норм, которые получили всеобщее распространение и четко зафиксированы в законодательстве или системе прецедентного права (американский ученый называл их «настоящими» (true) или «устоявшимися» (settled) коллизионными нормами)293. Своеобразие теории А. Эренцвейга проявляется в отношении той сферы, где «настоящие» коллизионные нормы, по мнению А. Эренцвейга, не сложились. В отличие от Карри и его последователей А. Эренцвейг полагал, что суд должен сосредоточиться на анализе отечественного материального права и применять иностранное право только в тех редких случаях, когда необходимость в его применении вытекает из положений отечественного материального права294.
Таким образом, теория А. Эренцвейга представляет собой ничем не прикрытое предпочтение в пользу применения судом lex fori в максимально возможном количестве случаев. Необходимо отметить, что А. Эренцвейг не может считаться оригинальным автором подобных идей. Аналогичные постулаты были высказаны немецким ученым К. Вехтером уже в середине XIX в.295 Как и впоследствии А. Эренцвейг, К. Вехтер признавал существование общепризнанных обычно правовых двусторонних коллизионных
сторонников, среди которых наибольшую известность получили немецкие уче-
ные Йоргес (Joerges) и Витхелтер (Wiethölter).
293. В качестве такой «настоящей» коллизионной нормы А. Эренцвейг рассма- тривал, например, правило о применении права по месту нахождения недвижи- мого имущества к спорам по поводу таких объектов.
294. Подробнее см.: Scoles E., Hay P. , Borchers P. , Symeonides S. Op.cit. P. 38–43.
295. К. Липштайн, соглашаясь с тем, что теория А. Эренцвейга является не- сколько усовершенствованным вариантом учения К. Вехтера (он даже называет А. Эренцвейга “Wächter redivivus”), считает, что истоки теории А. Эренцвейга можно видеть также в подходах к определению оснований подсудности споров,
— 133—

— Часть I —
правил, за пределами действия которых подлежало применению lex fori296. Таким образом, теорию А. Эренцвейга в указанной части следует считать не более чем современной трактовкой европейского учения К. Вехтера.
Оригинальный вклад А. Эренцвейга заключается в обосновании необходимости неразрывной связи между основаниями международной подсудности споров и применением судом lex fori. А. Эренцвейг признает, что применение судом собственного материального права должно сочетаться с жесткими требованиями к допустимости рассмотрения споров в местных судах. Иными словами, для того чтобы применение местного материального права было эффективным и справедливым, необходимо построить правильную систему оснований международной подсудности (lex fori in foro proprio), исключив необоснованное рассмотрение отечественными судами дел, демонстрирующих незначительную связь с данным правопорядком. А. Эренцвейг предлагал трансформировать свойственную англо американскому процессуальному праву негативную доктрину «ненадлежащего форума» (forum non conveniens) в позитивный тест «надлежащего форума» (forum conveniens)297.
Как и теория Карри, доктрина А. Эренцвейга в чистом виде не получила широкого распространения в американских судах298. Практика показала, что американская судебная система не намерена отказываться от весьма широкого подхода к определению оснований подсудности споров, что само по себе делало применение теории А. Эренцвейга неэффективным. Вместе с тем следует признать, что идея lex fori in foro proprio играет достаточно важную роль в коллизионных рассуждениях как американских, так и европейских авторов299. Следует признать, что достижение полной параллели между подсудностью и применимым правом (т.е. применение
сложившихся в немецких землях еще в XII в.: Lipstein K. The General Principles of Private International Law. P. 5, 30–32.
296. Подробнее об учении Вехтера см.: von Bar Chr., Mankowski P. A.a.O. S. 510–512; Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. P. 32–34.
297. См.: Kegel G. The Crisis of Conflict of Laws. Р. 222; Scoles E., Hay P. , Borchers P. , Symeonides S. Op.cit. P. 42.
298. По свидетельству авторов ведущего американского курса международного частного права,теорияlex fori применяетсяв сфеределиктногоправасудамитоль- ко трех штатов (Кентукки, Мичиган, Невада) и вообще не применяется в сфере до-
говорных обязательств (Scoles E., Hay P. , Borchers P. , Symeonides S. Op.cit. P. 86).
299. См., например, работу скандинавского автора О. Ландо (О. Lando), в ко- торой он анализирует применение принципа lex fori in foro в сфере договор- ных обязательств на примере сопоставления правил Брюссельской конвенции
1968 г. и Римской конвенции 1980 г.: Lando O. Lex Fori in Foro Proprio // Maastricht Journal. 1995. Vol. 2. P. 359–375.
— 134—

— Глава 4 —
для всех дел, подсудных судам данного государства, исключительно местного права) является нереальным, поскольку нормы о подсудности и нормы о выборе применимого права преследуют разные задачи300. Очевидным препятствием является также широкое распространение альтернативной международной подсудности, случаи которой не имеют тенденции к уменьшению. Вместе с тем необходимо согласиться с тем, что идея о максимально возможном сближении оснований международной подсудности и критериев выбора применимого права может при определенных обстоятельствах выступать в качестве одного из нормообразующих факторов301.
Подводя итог рассмотрению исторических разновидностей про явления однонаправленного подхода, следует выделить следующие его основные характеристики:
1)выбор применимого права производится исходя из классифи кации, отличительных признаков и толкования самих материаль но правовых норм (их содержания, цели или стоящих за ними госу дарственных интересов), либо сопутствующих им законодатель ных актов, а не исходя из характеристик имущественных и личных неимущественных отношений;
2)не является необходимым формулирование специальных кол лизионных норм, поскольку вывод о применимом праве можно сде лать на основе анализа пространственно персонального действия самих материально правовых норм;
300. Нормы процессуального права о подсудности преследуют такие специфи- ческие цели, не свойственные коллизионному праву, как защита ответчика от не- обоснованных исков, обеспечение исполнимости судебного решения за счет ак- тивов ответчика, обеспечение удобства в сборе и представлении доказательств.
301. О принципе lex fori in foro proprio (в немецкой терминологии – Parallelität der Anknüpfungen) и его роли в современном коллизионном праве см. также: Kropholler J. А.а.О. Р. 47–49. Важность данного принципа для некоторых областей коллизионного права была продемонстрирована выше при описании одной из групп современных односторонних коллизионных норм.
Следует также отметить, что связь между основаниями международной под- судности и критериями выбора применимого права не следует рассматривать в качестве однонаправленной. В некоторых случаях коллизионные правила так- же способны влиять на подходы к определению международной подсудности. В частности, в англо американских странах применение материального права данного государства (вследствие состоявшегося выбора сторонами применимо- го права или вследствие указаний коллизионной нормы) рассматривается в ка- честве одного из важных условий применения доктрины forum non conveniens (см., в частности: Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress? Р. 414 – и разбираемое в этой работе американское дело Burger King Corp. v. Rudzewicz, 471 U.S. 462 (1985)).
— 135—

—Часть I —
3)для решения вопроса о выборе применимого права правопри менителю необходимо обращаться непосредственно к иностранным материально правовым нормам либо к иностранному коллизионно му законодательству302;
4)отечественный законодатель может определить только про странственно персональную сферу действия собственных матери ально правовых норм, в то время как определение аналогичной сферы действия иностранных материально правовых норм осуществляет ся соответствующим иностранным законодателем.
При использовании однонаправленного подхода в основе решения коллизионной проблемы находится учет публичных нормообразую щих факторов с акцентом на интересы, которые преследует то или иное государство при принятии своих материально правовых норм.
К разновидностям однонаправленного подхода следует от нести средневековую теорию статутов, основанную на созда нии систем односторонних коллизионных норм теории конти нентальных авторов конца XIX – начала XX в., а также тео рию правительственного интереса Бр. Карри и теорию lex fori А. Эренцвейга. Не могут расцениваться в качестве проявления одно направленного подхода распространенные в современном колли зионном праве односторонние коллизионные нормы, а также ин
ститут обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны. В своем чистом виде разновидности однонаправленного под хода не получили широкого практического применения в совре менном коллизионном законодательстве разных стран вследст вие многочисленных теоретических и практических недостатков, присущих данному подходу. Среди основных недостатков однона правленного подхода следует указать на невозможность четкой идентификации пространственно персональной сферы действия
каждой материально правовой нормы, отсутствие эффективно го решения проблемы позитивных и негативных конфликтов, су щественное усложнение стоящих перед правоприменителем задач.
Тем не менее различные исторические проявления однонаправ ленного подхода поставили перед коллизионной доктриной во прос о необходимости учета публичных нормообразующих фак торов и стали предпосылкой для формирования современного института сверхимперативных норм. Данный институт бу дет рассмотрен в следующей главе настоящего исследования.
302. Возможны вариации однонаправленного подхода, которые вообще не признают возможность применения иностранного права отечественными суда- ми, за исключением узкой группы изъятий (теории немецкого ученого Вехте- ра и американского автора Эренцвейга), однако данные вариации не получили сколько нибудь широкого признания.
— 136—

Часть II
Тенденции развития современного коллизионного права, их влияние на подходы к решению коллизионной проблемы и систему подлежащих учету нормообразующих факторов
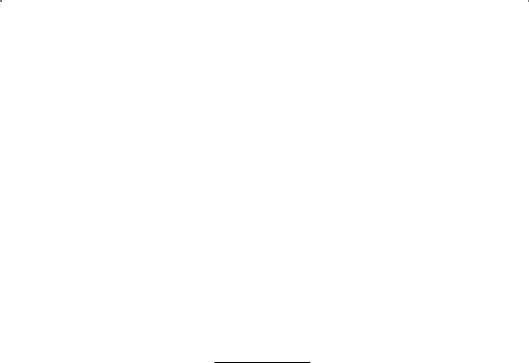
В одном из ведущих комментариев к Вводному закону к ГГУ сре ди основных тенденций развития современного коллизионного права выделяют следующие:
– появление особой группы императивных материально правовых норм, подлежащих применению вне зависимости от положений кол лизионного права (сверхимперативные нормы, нормы непосредствен ного применения303);
– принцип учета предпочтительного материального результа та, реализуемый прежде всего с помощью различных видов коллизи онных норм с множественностью привязок;
– использование корректирующих оговорок (escape clauses, Aus weichklauseln) и гибких коллизионных норм, позволяющих суду от клониться от заданных критериев определения применимого права, если суд приходит к выводу, что иной правопорядок более тесно свя зан с рассматриваемым отношением304.
Указанные тенденции обозначаются также в современной рос сийской литературе305.
Данные тенденции будут рассмотрены в настоящей работе с точки зрения их влияния на соотношение разнонаправленного и од нонаправленного подходов к решению коллизионной проблемы, а так же воздействия на состав подлежащих учету нормообразующих факторов.
303. В различных странах используются многочисленные названия для дан- ной особой группы императивных норм на различных языках (на английском языке – overriding provisions, supermandatory rules, special mandatory rules, conflicts mandatory rules, rules of immediate application, peremptory rules; на не- мецком языке – Eingriffsnormen, selbstgerechte Normen, ordnungsrelevante Normen; на французском языке – lois d’application immediate, loi de police). Под- робнее см.: Kunda I. Internationally Mandatory Rules of a Third Country in European Contract Conflict of Laws. The Rome Convention and the Proposed Rome I Regulation. 2007. P. 19–36; Жильцов А.Н. Применимое право в Международном коммерче- ском арбитраже (императивные нормы). С. 37–38. В российской доктрине меж- дународного частного права можно считать устоявшимся термин «сверхимпе- ративные нормы» (см., в частности, Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юристъ, 2002. С. 347–356. Автор комментария к ст. 1192 ГК РФ – А.Н. Жильцов), хотя в Концепции реформирования гражданского законодательства РФ предла- гается использовать термин «нормы непосредственного применения».
304. См.: von Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR. Einleitung zum IPR; Art. 3–6 EGBGB. S. 51. В данной работе к чис-
лу современных тенденций также относится защита слабой стороны, более силь- ный акцент на принципе автономии воли сторон.
305. См.: Жильцов А.Н., Муранов А.И. Национальные кодификации в совре- менном международном частном праве. Тенденции и противоречия в его разви- тии на пороге третьего тысячелетия // Международное частное право: иностран- ное законодательство / Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2000. С. 34–43; Международное частное право: современные проблемы. В 2 кн. Кн. 1. М., 1993. С. 29–31.
— 138—
