

Свободная трибуна
Сергей Александрович Громов
доцент кафедры гражданского права юридического факультета СПбГУ, кандидат юридических наук
Обеспечительная собственность: догматический очерк на примере лизинга
Предоставление кредитору права собственности на актив, служащий цели вещного обеспечения исполнения обязательств, широко применяется в обороте в качестве оптимальной альтернативы залогу. Само это право нередко именуется обеспечительной собственностью. В статье рассматривается содержание обеспечительной собственности как вещного права на примере лизинга. Составляющие содержание права собственности правомочия (элементы «пучка прав») распределены между собственником (кредитором) и должником, исходя из того, что последнему нужна гарантированная возможность владения и пользования активом с целью извлечения плодов и доходов (с сохранением элементов контроля собственника за управлением имуществом), а также защищенное (в том числе против третьих лиц) право получения имущества в собственность по исполнении согласованных сторонами обязательств. При этом право собственности кредитора, не будучи акцессорным, обременяется многокомпонентным ограниченным вещным правом должника и возникает ситуация двойного владения, при которой должник является непосредственным владельцем вещи, а собственник (кредитор) — опосредованным владельцем, что требует информирования третьих лиц путем внесения сведений в специальный публичный реестр. Закрепление за кредитором права собственности на имущество дает ему возможность рассчитывать на свойство эластичности, благодаря которому при расторжении договора права должника на имущество прекращаются, а право собственности кредитора восстанавливается в совершенной полноте.
Ключевые слова: обеспечительная собственность, лизинг, залог, вещное обеспечение
51

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Sergey Gromov
Associate Professor at the Civil Law Department of the Law Faculty of Saint Petersburg State University, PhD in Law
Security Property: A Dogmatic Essay on the Example of Leasing
Granting the creditor with ownership of the asset serving as property security is widely applied in commerce as an optimal alternative to a pledge. Such an ownership right is often referred to as «security ownership». In this publication, the content of security ownership as a right in rem is described with the concept of leasing as an example. The components of the ownership right (the elements of the «bundle of rights») are divided between the owner (creditor) and the user (debtor). This division is based on the fact that the latter needs the entitlement in order to possess and use the asset to generate benefits and profits (while the owner retains some elements of the property’s control) and also needs the entitlement (erga omnes) to receive ownership after the performance of contractual obligations agreed by the parties. At the same time, the creditor’s title, without being ancillary, is encumbered with the debtor’s multicomponent limited right in rem. The situation of «dual» possession exists, where the debtor is the direct possessor of the asset and the owner (creditor) is the indirect possessor. This situation requires informing third parties by entering information into the relevant public register. Granting the creditor with ownership of the property provides him the chance to rely on the feature of elasticity. This means that after cancellation of the corresponding contract, the debtor’s rights to property will terminate and the creditor’s ownership will be fully restored.
Keywords: security ownership, leasing, pledge, property security
Введение
Когда апологеты залога сопоставляют этот инструмент с альтернативными вещными способами обеспечения исполнения обязательств, невольно вспоминаются мысли Платона о противопоставлении мира идей и мира вещей.
Античный философ предлагал различать чувственно воспринимаемое явление и его идею: «Что такое каждая вещь, мы уже обозначаем соответственно единой идее, одной для каждой вещи... вещи можно видеть, но не мыслить, идеи же, напротив, можно мыслить, но не видеть»1; «душа в своем стремлении к нему [умопостигаемому] бывает вынуждена пользоваться предпосылками и потому не восходит к его началу, так как она не в состоянии выйти за пределы предполагаемого и пользуется лишь образными подобиями, выраженными в низших вещах, особенно в тех, в которых она находит и почитает более отчетливое их выражение»2; «мастер изготовляет ту или иную вещь, всматриваясь в ее идею: один делает кровати, другой столы, нужные нам, и то же самое и в остальных случаях. Но никто из мастеров не создает самое идею»3.
1Платон. Государство. Кн. VI. 507b–c. Пер. А.Н. Егунова.
2Там же. 511a.
3Там же. Кн. X. 596b.
52

Свободная трибуна
В непостижимо прекрасном мире идей вечно обитает восхитительная идея залога как совершенной и непоколебимо справедливой обеспечительной конструкции. Между тем в мире вещей нам приходится сталкиваться лишь с ее земными (если не сказать приземленными) воплощениями, которые неизбежно суть не более, чем бледные тени великолепия эйдоса залога.
Именно поэтому законодателю приходится раз за разом переписывать законы о залоге4, а высшим судебным инстанциям — исправлять (или усугублять, уж как получится) дефекты законодательных текстов5.
Неудовлетворительное правовое регулирование залоговых отношений указывается в качестве причины, порождающей практическую потребность в таком способе обеспечения исполнения обязательств, как обеспечительная передача права собственности6.
Никем не доказано, что залог является эталоном вещного обеспечения, логику регулирования которого следует просто автоматически, т.е. без дополнительного догматического и политико-правового обоснования, распространять на иные виды вещного обеспечения. Выдвижение тезисов об эталонном характере залога и недопустимости существования вещного обеспечения, режим которого расходится с режимом залога, игнорирует как принятые стандарты анализа юридических конструкций, так и потребности оборота, послужившие мотивом формирования в практике альтернативных залогу вещных обеспечительных инструментов.
Если подойти к вопросу более взвешенно, то залог — всего лишь один из видов вещного обеспечения, наряду с несколькими разновидностями титульного обеспечения.
Чтобы делать выводы о чертах, общих для всех видов вещного обеспечения (т.е. для рода), нужно рассмотреть каждый вид вещного обеспечения, известный позитивному праву, и путем индукции определить, какой набор правил входит в общую часть этого института. За рамками общей части останутся специальные нормы, характеризующие своеобразие одного вида обеспечения в сравнении с другим.
4За последнюю четверть века достаточно вспомнить Закон о залоге 1992 г., положения о залоге (§ 3 главы 23) в части первой ГК РФ 1994 г., Закон об ипотеке 1998 г., существенные поправки ко всем перечисленным законам, принятые в 2008 и 2011 гг., новую редакцию параграфа о залоге, введенную в 2013 г. И это не считая многочисленных изменений норм о правах залоговых кредиторов в законодательстве о несостоятельности (законах о банкротстве 1992, 1998 и 2002 гг. с учетом поправок, внесенных в 2008 г.) и специальных видов залога — таких как, например, морской залог и ипотека судна по главе XXII Кодекса торгового мореплавания РФ 1999 г.
5См., напр.: постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» и от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге», информационные письма Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге» и от 21.01.2002 № 67 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм о договоре о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами».
6См.: Сарбаш С.В. Обеспечительная передача правового титула // Вестник гражданского права. 2008. № 1. С. 22–23.
53

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Целесообразность сохранения специфики каждого из видов обеспечения может и должна обсуждаться исходя из прагматических соображений.
Критика титульного обеспечения в существенной части сводится к констатации (бездоказательному постулированию) повышенной рискованности конструкции для неисправных должников (ласково именуемых «попавшими в тяжелое положение»).
Кроме того, в качестве довода против применения титульного обеспечения приводятся слабая урегулированность отношений нормами позитивного права и слабая доктринальная разработка этого материала, порождающие для участников оборота риск забрести на terra incognita7, как будто неисследованные области общественных отношений — это не сама собой напрашивающаяся сфера приложения познавательных и правотворческих усилий, а Мертвые топи на пути в Мордор.
Право, которое получает кредитор при обеспечении его интересов предоставлением титула собственника, время от времени именуется обеспечительной собственностью. Использование этого термина (хотя его употребление в российской литературе пока не имеет особо широкого распространения) в ряде случаев сопровождается намеком или явным указанием на ограниченность (если не второсортность) правомочий, которые приобретает кредитор вместе с титулом8.
Сам феномен обеспечительной собственности пока является скорее экзотикой для отечественной доктрины, хотя он уже давно стал вполне обыденным инструментом на практике.
Продажа с сохранением права собственности на товар за продавцом9, лизинг10, включая возвратный лизинг11, сделки РЕПО12 — все эти конструкции предполагают обеспечительную функцию права собственности кредитора на актив, представляющий больший хозяйственный интерес для должника13.
7См., напр.: Егоров А.В. Залог vs обеспечительная передача права: нужна ли обороту конкуренция? // Актуальные проблемы частного права: сб. ст. к юбилею П.В. Крашенинникова: Москва — Екатеринбург, 21 июня 2014 г. / отв. ред. Б.М. Гонгало, В.С. Ем. М., 2014. С. 87.
8
9
См.: Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 20 и след.
См.: ст. 491 ГК РФ.
10См.: § 6 главы 34 ГК РФ.
11См.: предл. 3 абз. 4 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее — Закон о лизинге).
12См.: ст. 513 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон о рынке ценных бумаг).
13В числе конструкций титульного обеспечения традиционно называется также обеспечительный факторинг (см.: п. 2 ст. 829, п. 2 ст. 831 ГК РФ; подробнее см.: Усманова Е.Р. Титульное обеспечение граж- данско-правовых обязательств: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. С. 65 и след.). Вместе с тем в данном случае обеспечительным активом выступает не вещь, а право требования, поэтому титул обеспеченного кредитора не является правом собственности, а содержание права существенно отличается от содержания вещных прав.
54

Свободная трибуна
Исследования о том, как реализуется или должна реализовываться обеспечительная функция, в литературе появляются14. Между тем то, чтó собой представляет обеспечительная собственность как вещное право, отличается ли она от традиционного права собственности и если да, то в чем именно, ранее с должной степенью подробности не изучалось.
Термин «обеспечительная собственность» не сегодня завтра угрожает ворваться в нормативные и правоприменительные документы. В середине сентября 2018 г. на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен законопроект о совершенствовании гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности15. Документ предполагает, что нормы о лизинге будут изъяты из правил об аренде и помещены в качестве самостоятельного корпуса после норм о факторинге16. При этом сразу после определения договора лизинга предполагается указать, что право собственности на предмет лизинга принадлежит лизингодателю в целях обеспечения исполнения обязательств лизингополучателя17.
Приведенная норма по сути предполагает наиболее существенное изменение регулирования в отечественном праве института собственности после его реформы в первой половине 1990-х гг. Действующее правовое регулирование правомочий собственника основано на том, что все собственники наделяются единым комплексом правомочий в отношении принадлежащего им имущества, а ограничения таких правомочий могут быть обусловлены лишь наличием у других лиц вещных или обязательственных прав на определенное имущество, притом что законом или договором четко определяются как правомочия субъектов подобных прав, так и характер стеснения правомочий собственника. Само право собственности такого собственника при этом не квалифицируется законом в качестве особого или отличающегося от обычного права.
Рассматриваемое правило будет противоречить конституционному принципу равной защиты прав всех собственников18, ибо в отступление от сложившегося режима регулирования имеет целью разграничение комплексов прав собственников на «полноценные» и «второсортные», а также ограничение субъектов «второсортного» права собственности — в данном случае путем указания на цель принадлежно-
14См., напр.: Сарбаш С.В. Обеспечительная передача правового титула; Он же. Удержание правового титула кредитором. М., 2007; Егоров А.В. Лизинг: аренда или финансирование? // Вестник ВАС РФ. 2012.
№3. С. 36–60; Громов С.А. Обеспечительная функция права собственности лизингодателя на предмет лизинга // Меры обеспечения и меры ответственности: сб. ст. / отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2010. С. 248–292.
15См.: http://regulation.gov.ru/projects#npa=83902. Концептуальное обоснование проекта см.: Проект Концепции реформы частноправового регулирования лизинговой деятельности // Лизинг ревю. 2017.
№1. С. 10–22; Теплов Н.В. Будущее лизинга: Есть ли свет в конце тоннеля? // Журнал РШЧП. 2018.
№1. URL: http://www.privlaw-journal.com/budushhee-lizinga-est-li-svet-v-konce-tonnelya.
16Речь идет об исключении § 6 «Финансовая аренда (лизинг)» из главы 34 «Аренда» ГК РФ и о дополнении Кодекса новой главой 431 «Финансовый лизинг».
17См.: п. 2 ст. 8331 проекта главы 431 ГК РФ.
18См. ч. 2 ст. 8 Конституции РФ; п. 4 ст. 212 ГК РФ.
55

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
сти им этого права. По сути, речь идет о том, что параллельно с правом собственности в его традиционном виде создается особое (предположительно вещное) право, схожее с первым по названию, но наполняемое по сравнению с ним существенно выхолощенным содержанием.
Предлагаемое решение, несмотря на внешнюю безобидность, означает фундаментальную реформу системы вещных прав. Такая коренная трансформация нуждается в тщательной и всесторонней доктринальной проработке, а также требует предварительного внесения изменений в раздел II ГК РФ.
Целостное обоснование целесообразности столь серьезного изменения самых основ регулирования имущественного оборота, важнейшим элементом которых является институт собственности, на сегодняшний день в отечественной цивилистической доктрине отсутствует. Равным образом нет сколько-нибудь продуманной концепции сбалансированного распределения всего многообразия собственнических правомочий между субъектом «второсортного» права собственности и иным лицом, в пользу которого предполагается ограничить право собственности путем указания на его целевой характер.
Сама констатация целевой обусловленности права собственности в законопроекте не наполняется сколько-нибудь определенным содержанием, что порождает риск произвольного применения данной нормы в противоречие с фундаментальным для права требованием формальной определенности.
Указание на обеспечительный характер права собственности лизингодателя порождает, в частности, риск применения к отношениям сторон договора лизинга по аналогии правил о залоге. Между тем лизинг как инструмент финансирования приобретения активов сложился в качестве альтернативы заимствованию с залоговым обеспечением ввиду ряда недостатков института залога. Поэтому совершенствование регулирования лизинговой деятельности, вынесенное в заголовок законопроекта, не должно в действительности приводить к стиранию границ между этими двумя механизмами, каждый из которых востребован в своей нише на финансовом рынке именно в силу различий в режимах регулирования.
Рассматриваемое предложение не учитывает также того, что за десятилетия развития лизинговой деятельности в России сложился разумный баланс прав, обязанностей и ответственности лизингодателя как полноценного собственника имущества и лизингополучателя как субъекта правомочий владения и пользования этим имуществом. На основе этого баланса строится экономическая модель лизинга как сектора финансового рынка, которая служит основой успешного поступательного развития отрасли. Норма о целевой обусловленности принадлежности лизингодателю права собственности на предмет лизинга разрушит сложившийся баланс и приведет к дестабилизации правового положения участников лизинговых операций, что, в свою очередь, приведет к существенной трансформации экономической модели лизинга. Между тем отсутствуют какие-либо объективные предпосылки, диктующие необходимость или целесообразность изменения сложившейся экономической модели, равно как и серьезные исследования, демонстрирующие потребность в этих изменениях.
56

Свободная трибуна
Таким образом, ясности с объемом и содержанием понятия обеспечительной собственности в российской доктрине пока нет. Восполнению этого пробела на материале лизинга призвана служить данная публикация.
В рамках этого очерка предполагается:
–рассмотреть основные «прутья» из «пучка прав», составляющего содержание права собственности19;
–сопоставить их с иными элементами регулирования правового режима вещей как объектов прав и с иными правилами, обычно излагаемыми в корпусе норм о вещных правах;
–сравнить все перечисленные положения со специальными правилами о лизинге, включенными в действующие законы, выработанными практикой высших судебных инстанций или сложившимися в договорной практике;
–на основе сравнения общих норм о праве собственности и специальных положений о лизинге очертить круг прав и обязанностей, составляющих правовой статус кредитора именно как собственника обеспечительного актива.
А. Существо отношений при титульном обеспечении
Отправной точкой в ходе дальнейшего изучения этого материала будут следующие соображения.
С хозяйственной точки зрения лизинговая деятельность заключается в финансовом посредничестве между банками и иными инвестиционными институтами, аккумулирующими денежные средства, с одной стороны, и реципиентами инвестиций — с другой.
Услуга, оказываемая лизинговыми компаниями, заключается в привлечении средств (теоретически — по более низкой ставке за счет «опта» и меньшего уровня рисков банков при кредитовании лизинговых компаний по сравнению с кредитованием других хозяйствующих субъектов) и их последующем размещении на условиях срочности, возвратности, платности, обеспеченности путем приобретения для клиентуры необходимого ей имущества у определенных ею же продавцов.
В соответствии с таким пониманием существа лизинга определяется лизинговая деятельность в практике КС РФ: лизинговая деятельность — это вид инвестицион-
19См.: Honoré A.M. Ownership // The Nature and Process of Law: An Introduction to Legal Philosophy / ed. by P. Smith. Oxford, 1993. P. 370–375. См. также: Пеннер Дж.И. Картина собственности как «пучка прав» // Российский ежегодник сравнительного права. 2007. № 1. СПб., 2008. С. 103–209; Капелюшников Р.И. Право собственности: очерк современной теории // Отечественные записки. 2004. № 6. С. 65–81.
57

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
ной деятельности по приобретению имущества (предмета лизинга) и передаче его в лизинг: лизингодатель при помощи финансовых средств оказывает лизингополучателю своего рода финансовую услугу, приобретая имущество в свою собственность и передавая его во владение и пользование лизингополучателю, а стоимость этого имущества возмещая за счет периодических лизинговых платежей, образующих его доход от инвестиционной деятельности20.
В разъяснение этого тезиса также указывается, что общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок его действия, именуемая лизинговыми платежами, помимо возмещения затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, с оказанием других предусмотренных договором услуг, а также дохода лизингодателя, может включать выкупную цену предмета лизинга (если договором предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю), становясь, таким образом, по своей экономической сути не только платой за владение и пользование имуществом, но и возвратом финансирования с уплатой соответствующего вознаграждения21.
Денежные требования по договорам лизинга (наряду с требованиями по кредитным договорам и договорам займа) отнесены к числу требований, приобретение которых для целей эмиссии облигаций с последующим залогом требований может составлять цели и предмет деятельности специализированных финансовых обществ (special purpose vehicle, SPV) по правилам о рынке ценных бумаг22.
В практике ВС РФ под финансовой услугой понимается услуга, оказываемая в связи с предоставлением, привлечением и (или) размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление кредитов (займов), открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные операции и т.п.)23.
Действия, которые совершает лизинговая компания в интересах своих клиентов (предоставление финансирования), полностью соответствуют данному определению.
В ходе совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности сам договор лизинга предполагается определить как сделку, по которой лизингодатель обязуется предоставить финансирование лизингополучателю путем оплаты по договору, заключенному им с третьим лицом, стоимости предмета лизинга (лизингового имущества) либо его части, а лизингополучатель обязуется
20См.: абз. 2 п. 4.1 мотивировочной части постановления КС РФ от 20.07.2011 № 20-П.
21См.: определение КС РФ от 04.02.2014 № 222-О.
22См.: п. 2 ст. 151 Закона о рынке ценных бумаг.
23См.: подп. «д» п. 3 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».
58

Свободная трибуна
возвратить предоставленное финансирование, а также внести плату за пользование им (лизинговые платежи)24.
Кроме того, лизинг признается одним из инструментов эффективного развития бизнеса наряду с банковскими кредитами, публичным размещением акций, облигационным заимствованием, использованием институтов реорганизации, включая слияния и поглощения, и т.п.25
Исходя из этих соображений, услуги лизинговых компаний признаются финансовыми для целей антимонопольного регулирования26, а лизинговые операции признаются операциями с денежными средствами и иным имуществом для целей законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения27.
Наряду с изложенным лизинговые компании, являясь профессиональными заемщиками и покупателями, освобождают клиентов от значительной части трудозатрат, связанных с оформлением документации, сопутствующей банковскому кредитованию и приобретению основных средств (включая импорт оборудования с неизбежным осуществлением сложно структурированных валютных платежей за рубеж, оформление валютных операций и таможенное оформление ввоза имущества).
Наконец, некоторые клиенты только благодаря лизингу и отсутствию его скрупулезной регламентации получают доступ к кредиту (в широком смысле слова), поскольку в силу своих показателей финансово-хозяйственной деятельности и жестких нормативов регулирования банковской деятельности не могут рассчитывать на традиционное банковское кредитование.
Бóльшая доступность лизинга по сравнению с кредитом теоретически обусловливается также предоставлением лизингодателю более сильного обеспечительного права (права собственности) по сравнению с традиционным залоговым правом обычного кредитора. Титул собственника призван упростить лизингодателю порядок восстановления владения активом, рассматриваемым как объект обеспечения его имущественных интересов, по сравнению с процедурой обращения взыскания на предмет залога. Предоставление кредитору более сильного права и упрощение процедуры изъятия имущества расцениваются как факторы снижения стоимости лизинговых услуг и повышения их доступности. (К сожалению, эти факторы на практике работают значительно слабее, чем позволяет их потенциал, в силу громоздкости судебной процедуры изъятия предмета лизинга.)
24См.: п. 1 ст. 8331 проекта главы 431 ГК РФ.
25См.: постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 № 2929/11.
26См.: п. 2 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
27См.: абз. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
59

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
B. Основные интересы сторон
Как следует из существа отношений и подтверждается актами высших судебных инстанций28, применительно к лизингу с правом выкупа законные имущественные интересы сторон состоят в следующем.
Интерес лизингодателя заключается в размещении и последующем возврате с прибылью денежных средств.
Размещение средств осуществляется посредством приобретения в собственность указанного лизингополучателем имущества и предоставления его лизингополучателю.
Приобретение лизингодателем права собственности на предмет лизинга служит для него обеспечением обязательств лизингополучателя по уплате установленных договором платежей, а также гарантией возврата вложенного29.
Возврат средств с прибылью осуществляется в форме платы (лизинговых платежей), вносимой лизингополучателем. При этом лизинговые платежи являются возмещением инвестиционных затрат лизингодателя и обязательны к уплате независимо от получения предмета лизинга во владение30.
Как правило, лизинговые платежи включают в себя вознаграждение за услуги лизинговой компании, в том числе оплату услуги по предоставлению финансирования (лизинговый процент)31.
Интерес лизингополучателя, в свою очередь, состоит в пользовании имуществом и последующем его выкупе (в приобретении предмета лизинга в собственность) за счет средств, предоставленных лизингодателем, и при его содействии.
28См.: п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» (далее — постановление № 17); постановления Президиума ВАС РФ от 25.07.2011 № 3318/11, от 22.03.2012 № 16533/11, от 21.01.2014 № 6878/13; определения КС РФ от 04.02.2014 № 222-О (абз. 3 п. 3 мотивировочной части), от 23.10.2014 № 2494-О (абз. 2 п. 2 мотивировочной части), от 22.12.2015 № 3021-О (абз. 2 п. 2 мотивировочной части).
29Аналогичный подход отражен в Модельных правилах европейского частного права (Draft Common Frame of Reference; далее — DCFR). Они предусматривают, что удержание титула имеет место, если право собственности удерживается собственником переданного имущества с целью обеспечить исполнение обязательства (п. (1) ст. IX.-1:103), и включает в том числе сохранение права собственности на предмет лизинга по договору лизинга, если в соответствии с условиями договора лизингополучатель имеет право по истечении срока аренды приобрести право собственности на предмет лизинга либо продолжать пользоваться им бесплатно или за номинальную плату (финансовая аренда) (п. (2)(c) ст. IX.-10:103). При этом лизингодатель считается обеспечительным кредитором, а лизингополучатель — обеспечительным должником (п. (2)(d) ст. IX.-10:104). (Здесь и далее ссылки на DCFR приводятся по изданию: Модельные правила европейского частного права / пер. с англ.; науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М., 2013.)
30Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 4664/13.
31См.: определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 03.03.2016 № 305-ЭС15- 13547, № 305-КГ15-13551, № 305-КГ15-14104, № 305-ЭС15-14109, № 305-КГ15-15340, от 19.05.2016
№305-ЭС16-734, от 31.05.2016 № 305-ЭС15-19934, от 22.06.2016 № 305-КГ16-2098, от 13.07.2016
№309-КГ16-1524 (последний документ включен в п. 32 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2016), утв. Президиумом ВС РФ 19.10.2016).
60

Свободная трибуна
В соответствии с правовой природой финансового лизинга лизингополучатель имеет первоочередную заинтересованность в приобретении в собственность имущества, непосредственно используемого им в своей хозяйственной деятельности32.
Добросовестный лизингополучатель справедливо рассчитывает на приобретение при содействии лизингодателя в собственность имущества, свободного от притязаний третьих лиц, в результате исполнения договора выкупного лизинга33.
Иными словами, целью сторон такого договора является приобретение лизингополучателем предмета лизинга за счет лизингодателя на определенных договором условиях.
Следовательно, лизинговые платежи при выкупном лизинге включают в себя и цену продажи переданного в лизинг имущества.
Праву лизингополучателя выкупить имущество по договору выкупного лизинга корреспондируют обязанности лизингодателя, неразрывно сочетающие в себе обязанности арендодателя и продавца34.
Отношения пользования активом. Существенную часть лизинговой операции имеет место использование одним лицом (лизингополучателем) имущества, принадлежащего на праве собственности другому лицу (лизингодателю). Поэтому есть потребность в регулировании этой части отношений.
De lege lata лизинг урегулирован как вид аренды с распространением на него общих правил об аренде, поскольку иное не предусмотрено специальными правилами35.
Согласно правовой позиции КС РФ законодатель включил соответствующие нормы в § 6 главы 34 «Аренда» ГК РФ, придерживаясь «арендной концепции» лизинга, при этом исходя из того, что обособление норм о договоре лизинга, который является договорным типом, совпадающим по ряду своих элементов с договором аренды, приводило бы в значительной степени к дублированию норм об аренде36. Иными словами, и договор аренды, и договор лизинга (финансовая услуга особого рода) являются самостоятельными договорными типами. Вместе с тем они совпадают по ряду элементов. Поэтому из соображений законодательной экономии указанным выше приемом законодательной техники на лизинг распространено действие ряда норм об аренде.
32См.: постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 № 17312/12.
33См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 06.12.2018 № 305-ЭС17- 19232 (5).
34См.: постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2012 № 16533/11.
35См.: ст. 625 ГК РФ.
36См.: определение КС РФ от 04.02.2014 № 222-О (абз. 3 п. 3.1 мотивировочной части).
61

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
На том отрезке временнóй прямой, где наблюдается относительная статика отношений между собственником (лизингодателем) и его контрагентом (лизингополучателем), — т.е. после предоставления актива последнему и до выкупа им имущества либо изъятия вещи — отношения лизингодателя и лизингополучателя в известной степени сходны с отношениями арендодателя и арендатора. Поэтому ряд элементов конструкции обеспечительной собственности иллюстрируется примерами не только из позитивного регулирования лизинга, но также, разумеется, субсидиарно (т.е. поскольку не усматривается противоречия позитивному регулированию лизинга и существу отношений) — из норм об аренде и практики их применения37.
В случае исключения правил о лизинге из главы об аренде, как это предполагается соответствующим законопроектом, утратится возможность применения к отношениям из договора лизинга тех правил об аренде, которые разумно регулируют отношения пользования лизинговым имуществом, в известной степени сходные с отношениями арендодателя и арендатора.
Кроме того, в результате предлагаемого решения утратится возможность применения к такого рода отношениям и всего накопленного за два десятилетия корпуса правоположений судебной практики, сложившейся по делам, связанным с арендой, тогда как только основные документы, обобщающие такую практику38, содержат множество разъяснений, которые было бы логично применять к отношениям из договора лизинга, не говоря уже о десятках решений высших судебных инстанций по отдельным делам, имеющих прецедентное значение.
Поэтому представляется оправданным сохранить возможность применения к отношениям по владению и пользованию лизингополучателем лизинговым имуществом правил об аренде, поскольку это не противоречит нормам о финансовом лизинге и существу отношений.
C. Виды обеспечительных конструкций
(1) Обеспечительное удержание права собственности: традиционный финансовый лизинг
ипродажа товаров в кредит
Вэтой публикации обеспечительная собственность рассматривается преимущественно на примере финансового лизинга. С одной стороны, он наиболее под-
37Похожее решение содержится в DCFR, где предусматривается, что заключение договора аренды с целью финансирования, выступление арендодателя в роли финансирующей стороны и предоставление арендатору возможности приобрести арендованное имущество в собственность не исключают применения части B «Аренда вещей» кн. IV (см. п. (4) ст. IV.B.-1:101).
Вместе с тем в той части комментария к этой статье, которая касается финансового лизинга, подчеркивается, что, несмотря на применение правил об аренде к финансовому лизингу, в ряде случаев требуются специальные правила, поскольку использование общих норм для регулирования особых видов отношений, где общие правила неприемлемы, было бы неудовлетворительным (см.: Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR): Full Edition. Vol. 2 / ed. by Chr. von Bar and E. Clive. Oxford, 2010. P. 1432).
38См.: Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66); постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды».
62

Свободная трибуна
робно урегулирован международными конвенциями39, модельными законами40 и национальным законодательством. С другой стороны, по спорам из лизинговых операций высшие судебные инстанции сформулировали немалое число правоположений, которые, даже не имея твердой опоры в тексте закона, в силу соответствия существу отношений служат ориентиром нижестоящим судам при рассмотрении аналогичных споров.
Вместе с тем сильное сходство с лизинговыми операциями имеет продажа товаров в кредит с сохранением права собственности на товары за продавцом. Отношения из таких сделок урегулированы крайне скупо, речь может идти лишь о нескольких нормах, содержащихся в одной статье41. Практика ее применения на уровне высших судебных инстанций также отсутствует42.
Сходство заключается в следующем:
1)в наличии элемента коммерческого кредитования: как при продаже товара с отсрочкой или рассрочкой его оплаты, так и при финансовом лизинге одна сторона — кредитор (продавец, лизингодатель) совершает предоставление в пользу другой стороны — должника (покупателя, лизингополучателя), т.е. передает товар или предоставляет финансирование, единовременно в самом начале исполнения договора, тогда как эта другая сторона (должник) совершает встречное предоставление со значительным отрывом во времени. Эта особенность сделок соответствует признакам коммерческого кредита и дает основания для применения к отношениям норм о займе и кредите, поскольку иное не следует из специальных правил о соответствующих договорах43;
39См.: Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (заключена в Оттаве 28.05.1988; Российская Федерация присоединилась в силу Федерального закона от 08.02.1998 № 16-ФЗ; далее — Оттавская конвенция; она применяется, когда коммерческие предприятия арендодателя (лизингодателя) и арендатора (лизингополучателя) находятся в разных государствах и при этом эти государства, а также государство, в котором поставщик имеет свое коммерческое предприятие, являются сторонами Конвенции или договор поставки и договор лизинга регулируются правом одной из сторон Конвенции (ст. 3). Вместе с тем документ применялся при разрешении спора по договору внутреннего лизинга (постановление Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 № 17389/10)); Конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования (заключена в Кейптауне 16.11.2001; Российская Федерация присоединилась в силу Федерального закона от 23.12.2010 № 361-ФЗ; далее — Кейптаунская конвенция); Протокол по авиационному оборудованию к Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования (подписан в Кейптауне 16.11.2001; Российская Федерация присоединилась в силу Федерального закона от 23.12.2010 № 361-ФЗ; далее — Авиационный протокол). Перечисленные документы применяются и к внутренним сделкам (п. «n» ст. 1, ст. 50 Кейптаунской конвенции), однако случаи такого применения российскими судами к частноправовым спорам выявить не удалось.
40См.: Модельный закон УНИДРУА о лизинге (принят 13.11.2008 на совместной сессии Генеральной ассамблеи УНИДРУА и Комитета правительственных экспертов УНИДРУА); Модельный закон о лизинге (принят на XXV пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (постановление от 14.04.2005 № 25-6)).
41См.: ст. 491 ГК РФ.
42Сюжет с сохранением права собственности на товар до его оплаты за продавцом освещен в постановлении Президиума ВАС РФ от 07.03.2000 № 3486/99, но Суд ориентировался непосредственно на условия контракта, а не на содержание норм права, от ссылок на которые технично воздержался.
43См.: ст. 823 ГК РФ, п. 12 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».
63

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
2)в наличии элемента вещного (титульного) обеспечения, заключающегося в сохранении за кредитором права собственности на актив до получения от должника исполнения по денежному обязательству44. При этом нужно обратить внимание на то, что в обоих случаях имущество, право собственности на которое должно служить обеспечением, до совершения сделки не принадлежит должнику и не выбывает из его имущественной массы (в отличие от обеспечительной передачи права собственности, включая возвратный лизинг45), а, напротив, либо изначально принадлежит кредитору (продавцу), либо приобретается кредитором (лизингодателем) у третьего лица в ходе хозяйственной операции.
Ввиду сходства отношений из договоров финансового лизинга с продажей товаров в кредит с сохранением права собственности на товары за продавцом и слабой регламентации последних к ним до появления более детального регулирования представляется обоснованным применять правила о финансовом лизинге в порядке аналогии закона46.
(2) Обеспечительная передача права собственности и возвратный лизинг
Как отмечалось выше, сложности с обращением взыскания на предмет залога поощряют участников оборота к поиску инструментов, способных дать кредитору более надежное и удобное обеспечение. В результате таких поисков взоры сторон многих сделок обращаются к следующей конструкции: должник продает кредитору актив, немедленно передает кредитору право собственности на него, получает согласованную цену и сразу же заключает договор о выкупе этого актива. В описанной операции уплата цены кредитором должнику выполняет функцию предоставления первым второму финансирования, актив (приобретаемое кредитором право собственности на него) служит обеспечением, а уплата цены в ходе выкупа имущества является способом возврата финансирования.
К сожалению, наша правовая система не может похвастать уважительным отношением к основополагающим для гражданского права принципам свободы договора и pacta sunt servanda. Поэтому даже высшие судебные инстанции нередко грешат стремлением в любой непривычной конструкции увидеть тот или иной порок, свидетельствующий, по их мнению, о недействительности сделки.
Примером тому могут служить рассматриваемые операции. Широко известно дело, разрешая которое высшая судебная инстанция признала притворной сделку РЕПО, — суд усмотрел в ней попытку сторон прикрыть сделку кредита под залог акций47.
44См.: ч. 1 ст. 491 ГК РФ и п. 1 ст. 11 Закона о лизинге.
45См. ниже подраздел C (2) введения.
46См.: п. 1 ст. 6 ГК РФ, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, ч. 6 ст. 13 АПК РФ.
47См.: постановление Президиума ВАС РФ от 06.10.1998 № 6202/97.
64

Свободная трибуна
Со временем в этом сегменте рынка ситуация исправилась, появилось и законодательное регулирование48, и более адекватная судебная практика49.
Между тем за пределами сферы сделок с ценными бумагами настороженное отношение к обеспечительной передаче собственности сохраняется. За последнее время высшая судебная инстанция несколько раз обращалась к этой проблеме, и во всех случаях вопрос о допустимости таких операций был оставлен открытым, причем скорее с негативным прогнозом.
В двух случаях в делах обсуждалось мнение нижестоящих судебных инстанций о притворности сделок как прикрывающих заимствование под залог, которое оставлялось Верховным Судом без содержательных комментариев как вопросы факта, подлежащие установлению судами первой и апелляционной инстанций и не подлежащие пересмотру в кассационном порядке50.
Еще в одном деле ВС РФ указал нижестоящим инстанциям на необходимость дать содержательную оценку доводам о том, что вместо договора залога квартиры в обеспечение исполнения обязательств по договору займа подписан договор купли-продажи единственного жилого помещения, принадлежащего должнику на праве собственности, стоимость которого многократно превышает цену спорного договора51.
Спустя несколько месяцев ВС РФ сам оценил доводы определения апелляционной инстанции о притворности подобной сделки как прикрывающей заем под залог недвижимости и отменил определение с направлением дела на новое рассмотрение. Высшая судебная инстанция указала, что притворная сделка ничтожна, поскольку не отражает действительных намерений сторон.
При этом прикрываемая сделка представляет собой произвольную комбинацию условий, прав и обязанностей, не образующих известного ГК РФ состава сделки, и также может выходить за рамки гражданских сделок. Применение закона, относящегося к прикрытой сделке, состоит в оценке именно тех ее условий, которые указаны в законах, на которые ссылается истец52.
В качестве ошибок апелляционной инстанции ВС РФ указал, что она не установила, какие денежные средства и кем передавались в качестве заемных, на каких условиях заключен прикрываемый договор займа, а также не учла, что по договору залога право собственности на заложенное имущество до момента предъявления
48См.: ст. 513 Закона о рынке ценных бумаг.
49См.: постановление Президиума ВАС РФ от 14.10.2008 № 12886/07.
50См.: определения Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 25.07.2017 № 77-КГ17-17 и от 09.01.2018 № 32-КГ17-33.
51См.: определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 21.11.2017 № 5-КГ17-197.
52Изложенный в данном абзаце фрагмент определения ВС РФ является цитатой из комментария к новеллам главы 9 ГК РФ. См.: Скловский К.И. Сделка и недействительность сделки: основные положения обновленной главы Кодекса // Хозяйство и право. 2014. № 2. С. 44.
65

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
кредитором требования об обращении на него взыскания принадлежит заемщику, а не передается полностью кредитору с государственной регистрацией права собственности на него53.
Между тем с ноября 1998 г. в России законом закреплена такая форма обеспечительной передачи собственности, как возвратный лизинг.
Первоначальная редакция Закона о лизинге относила к регулируемым им основным видам лизинга возвратный лизинг и определяла его как «разновидность финансового лизинга, при котором продавец (поставщик) предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель»54. Из данных положений следовали допустимость такой конструкции и применение к ней всех правил о финансовом лизинге.
При существенном пересмотре Закона о лизинге в 2002 г. термин «возвратный лизинг» и приведенная дефиниция из документа были исключены, но в определение понятия продавца как субъекта лизинга было включено указание на то, что «продавец может одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения»55. Таким образом, возможность использования механизма возвратного лизинга (несмотря на исключение термина) и — в его обличии — обеспечительной передачи собственности сохранилась.
При этом из законодательства были исключены действовавшие ранее требования о лицензировании лизинговой деятельности56. В результате этих изменений совершение операций обеспечительной передачи собственности в форме возвратного лизинга стало доступным практически всем участникам коммерческого оборота как в качестве лизингодателя, так и в качестве лизингополучателя.
До 2011 г. получение имущества по договорам лизинга не было доступно некоторым некоммерческим организациям, а также гражданам, не имевшим статуса индивидуального предпринимателя, в силу действовавших тогда редакций ГК РФ и Закона о лизинге, предполагавших использование лизингового имущества лишь в предпринимательских целях57. В ходе совершенствования правового статуса учреждений это ограничение было исключено и лизинговые операции, включая возвратный лизинг (а в его рамках и обеспечительную передачу собственности), стали доступны всем участникам оборота58.
53См.: определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 21.08.2018 № 33-КГ18-4.
54Абзацы 1 и 3 п. 3 ст. 7 Закона о лизинге в первоначальной редакции.
55Абзац 4 п. 4 и абз. 9 п. 7 ст. 1 Федерального закона от 29.01.2002 № 10-ФЗ.
56О планах публичного регулирования лизинговой деятельности см. подраздел D введения.
57См.: ч. 1 ст. 665, ст. 666 ГК РФ, п. 1 ст. 3 Закона о лизинге.
58См.: подп. «а» п. 1, п. 2 ст. 7 и п. 2 ст. 14 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
66
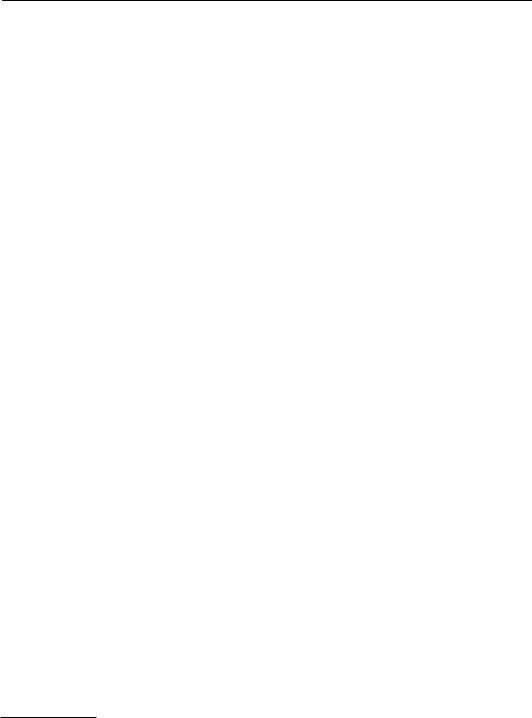
Свободная трибуна
В связи с включением граждан в число потенциальных клиентов лизинговых компаний следует особо отметить акт ВС РФ, в котором он констатировал отсутствие у операций возвратного лизинга (в том числе с участием граждан и в отношении жилых помещений) пороков, а также прямо указал, что законодатель предоставил возможность заключения договора лизинга недвижимости (в том числе жилого дома) физическим лицам59.
Разумность операций возвратного лизинга одно время пытались ставить под сомнение налоговые органы, но высшая судебная инстанция дважды эти сомнения рассеивала, говоря, что применение возвратного лизинга имеет разумные хозяйственные мотивы и цели для обеих сторон данной сделки, не влекущие необоснованной налоговой экономии60.
Как подчеркивает высшая судебная инстанция, продажа имущества с последующим одновременным принятием его в пользование по договору лизинга и необходимостью уплаты в течение определенного периода лизинговых платежей в целях обратного выкупа с экономической точки зрения является кредитованием покупателя продавцом (в том числе для погашения задолженности перед прежними кредиторами) с временным предоставлением последнему титула собственника в качестве гарантии возврата финансирования и платы за него в виде процентов. Сделка по купле-продаже в рамках всей совокупности отношений является одним из элементов реализации плана по кредитованию должника с использованием механизма возвратного лизинга. Цена договора лизинга, по сути, определяет объем обязательств продавца (лизингополучателя) по возврату финансирования и уплате процентов. В свою очередь, разница между ценами договора лизинга и договора купли-продажи обусловливается сложившимися ставками финансирования на рынке лизинговых услуг, согласованным сторонами периодом такого финансирования и иными объективными факторами. При этом особо отмечается, что такие операции соответствуют законодательству61.
Особенностью таких сделок является их сходство с залогом в том отношении, что обеспечительное право возникает у кредитора на такой актив, который до совершения этой операции находится в имущественной сфере должника.
Кроме того, в отличие от продажи в кредит и традиционного финансового лизинга, обеспечительная передача права собственности (в том числе в форме возвратного лизинга) служит не целям инвестирования (приобретения для использования в хозяйственной деятельности должника новых средств производства), а пополнению оборотных средств под обеспечение в виде права на наличные основные средства должника.
59См.: определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 05.11.2013 № 48-КГ13-5.
60См.: постановления Президиума ВАС РФ от 16.01.2007 № 9010/06 и от 11.09.2007 № 16609/06.
61См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 23.03.2017 № 307-ЭС16- 3765 (4, 5). Документ включен в п. 19 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2017), утв. Президиумом ВС РФ 12.07.2017.
67

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Поэтому применительно к таким отношениям предложения приблизить их регулирование к режиму залога представляется de lege ferenda более оправданным — как минимум в той мере, в какой такое приближение призвано оградить наименее информированных участников оборота (граждан) от утраты за бесценок наиболее ценного и социально значимого имущества (единственного жилья)62.
В ходе совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности предполагается возвратный лизинг ограничить коммерческой сферой63. Столь радикальное сужение сферы его применения не имеет обоснования ни в доктрине, ни в проблемах практики. За семь лет практика не выявила чрезмерного ущемления прав должников — некоммерческих организаций или граждан при заключении подобных договоров.
Кроме того, представляется оправданным обратить внимание на возможность дифференциации правил о залоге в зависимости от того, как соотносятся во времени приобретение актива в собственность должника, его кредитование заимодавцем и возникновение у последнего залогового права:
–если должник приобрел актив задолго до кредитно-залоговой операции, тогда действующий режим, в том числе рассчитанный на защиту интересов других кредиторов должника, представляется более оправданным;
–если же сама кредитно-залоговая операция имеет целью предоставление должнику средств на приобретение актива, который поступает в собственность должнику и в залог кредитору одновременно, а до возникновения обременения актив не находился в собственности должника и не порождал ожиданий иных кредиторов, то защита их интересов в ущерб интересам залогодержателя представляется менее обоснованной.
D. Планы введения публичного регулирования лизинговой деятельности
Во второй половине 1990-х гг. нормативные акты предусматривали лицензирование лизинговой деятельности64. Со временем в ходе либерализации института лицензирования в начале XXI в. это требование было отменено за явной ненадобностью65.
62Например, в DCFR предлагается правовой режим обеспечения, созданного посредством переноса права собственности на движимое имущество (с должника на кредитора), приравнять к обеспечению залогового типа (см. п. (3) ст. IX.-1:102).
63См.: п. 4 ст. 8331 проекта главы 431 ГК РФ.
64См.: п. 4 Временного положения о лизинге, утв. постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 633 (противоречил правилу абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК РФ об установлении перечня подлежащих лицензированию видов деятельности только федеральным законом); ст. 17 Федерального закона от 25.09.1998 № 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 1 ст. 5 Закона о лизинге (в первоначальной редакции 1998 г.).
65См.: п. 3 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; абз. 2 п. 5 ст. 1 Федерального закона от 29.01.2002 № 10-ФЗ.
68

Свободная трибуна
Таким образом, согласно ныне действующему законодательству функции лизингодателя может выполнять любой гражданин или организация66.
Если указание на осуществление лизинговой деятельности включено в устав юридического лица, то такая организация признается лизинговой компанией и формально может в этом качестве и для этой цели привлекать средства юридических и (или) физических лиц67. Подобные компании подлежат постановке на учет в ведомстве финансового мониторинга, которая осуществляется в явочном порядке и инструментом управления лизинговой деятельностью не считается68.
Все последующие годы до настоящего времени лизинг развивается в России без какого-либо публичного регулирования, в очень существенной степени — за счет потенциала здоровой конкуренции, близкой к совершенной, и благодаря этому отрасль последовательно демонстрировала достойную динамику.
В последнее время в духе общего усиления вмешательства государства в экономику и бюрократизации государственного управления готовится реформа, основным содержанием которой должно стать введение публичного регулирования лизинговой деятельности со стороны Банка России в сочетании с элементами саморегулирования. В качестве повода использована громкая история с существенными сложностями, возникшими у фирмы «ВЭБ-лизинг» в связи с банкротством компании «Трансаэро», с которой был совершен ряд лизинговых операций, ставших проблемными из-за несостоятельности авиаперевозчика69.
Как указывается в аналитическом материале Банка России, ввиду реформы отрасли обсуждаются изменения в регулировании лизинговой деятельности. Реформа предполагает создание государственного реестра лизинговых компаний и введение контроля за рынком путем саморегулирования с ограниченными полномочиями Банка России. Планируется также переход лизинговых компаний на отраслевые стандарты бухгалтерского учета (приближенные к Международным стандартам финансовой отчетности) с обязательным аудитом и единым планом счетов70.
Реализуемость этих мер в изначально запланированном масштабе ставилась под сомнение ввиду вмешательства в процесс органов Евразийского экономического союза. Они указали, что в универсальном виде проект противоречил положениям нормативных документов Союза, включая Договор о ЕАЭС и Протоколы к нему, в части правил о формировании единого рынка лизинговых услуг и о равных усло-
66См.: абз. 2 п. 1 ст. 4 Закона о лизинге.
67См.: п. 1 и 4 ст. 5 Закона о лизинге.
68См.: абз. 2 п. 9 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
69См., напр.: «Нам очень дорого обошлась «Трансаэро»: интервью газете «Коммерсантъ» заместителя министра финансов А.В. Моисеева // Коммерсантъ. Приложение «Лизинг». 2018. 17 мая. URL: https:// www.kommersant.ru/doc/3628074.
70Обзор финансовой стабильности: информационно-аналитические материалы. 2018. № 1 (12). IV квартал 2017 — I квартал 2018 г. С. 45–46. URL: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/7858/OFS_17- 03.pdf.
69

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
виях доступа компаний-резидентов всех государств — участников Союза на рынки услуг, в том числе финансовых.
Благодаря позиции органов Союза необходимость следовать новым правилам предполагалось летом — в начале осени 2018 г. распространить на ограниченный круг лизинговых компаний.
В ноябре 2018 г. в Государственную Думу внесен правительственный законопроект о публичном регулировании лизинговой деятельности, осуществляемой специальными субъектами71. Он предусматривает введение особой категории участников оборота («специальный субъект лизинговой деятельности»). К ним в силу прямого указания законопроекта отнесены банки, юридические лица, в уставном капитале которых доля участия государства или муниципального образования в совокупности превышает 50%, аффилированные с ними юридические лица, юридические лица, аффилированные с кредитными организациями, в уставном капитале которых участвует Банк России или Агентство по страхованию вкладов. Кроме того, распространить специальный статус предполагается на компании, претендующие на допуск или получившие доступ к мерам государственной поддержки лизинговой деятельности.
Цель введения категории специальных субъектов заключается в установлении условий допустимости осуществления лизинговой деятельности организациями банковской сферы и публичного сектора, установлении для таких компаний специальных правил регулирования деятельности, ограничении круга лизинговых компаний, которым может быть предоставлен доступ к следующим мерам государственной поддержки72:
–финансирование из федерального бюджета и предоставление государственных гарантий в целях реализации лизинговых проектов (бюджет развития);
–освобождение банков от уплаты налога на прибыль, получаемую ими от предоставления кредитов субъектам лизинга для реализации договора лизинга;
–предоставление налоговых и кредитных льгот лизинговым компаниям в целях создания благоприятных экономических условий для их деятельности (за исключением налоговых льгот, применяемых на условиях, действующих на дату вступления в силу Договора о ЕАЭС).
Вместе с тем в финансовом ведомстве ближе к концу года сформировалось мнение о том, что в условиях конкуренции государственных лизинговых компаний с частными регулировать первые и не регулировать вторые неправильно с точки зрения конкурентного ландшафта. Предполагается сделать так, чтобы статус специальных субъектов получили те компании, клиентам которых оказывается государственная
71См.: проект № 586986-7 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности». URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/586986-7#.
72См.: ст. 36 Закона о лизинге.
70

Свободная трибуна
поддержка в виде субсидий73 или ускоренной амортизации74. Остальные компании могут делать все что угодно, но тогда их клиенты не получат ни субсидии по процентным ставкам, ни ускоренной амортизации75.
Законопроект предусматривает необходимость включения сведений о специальных субъектах в реестр как условие получения права на осуществление лизинговой деятельности. Ведение реестра возлагается на Банк России.
Вводится обязательность создания саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка для специальных субъектов лизинговой деятельности, их членства в СРО, аудита годовой отчетности, представления в Банк России или в СРО годовой и промежуточной отчетности, а также иных документов и информации.
Вводится обязанность лизинговых компаний организовать в соответствии с базовыми стандартами СРО внутренний контроль и систему управления рисками.
Специальные субъекты включаются данным законопроектом в число некредитных финансовых организаций76. В результате у ЦБ РФ появляются в отношении таких компаний полномочия осуществлять регулирование, контроль и надзор в сфере их деятельности77; устанавливать требования к собственным средствам (капиталу) или чистым активам, обязательные (финансовые, экономические) нормативы, иные требования78; утверждать базовые стандарты СРО79, а также отраслевые стандарты бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения80; устанавливать порядок проведения проверок, в том числе определять обязанности проверяемых лиц по содействию в проведении проверок81; проводить проверки деятельности82; направлять обязательные для исполнения пред-
73См., напр.: Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018– 2020 гг., утв. постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 № 451.
74См.: подп. 1 п. 2 ст. 2593 НК РФ.
75См.: «Наша задача — составить представление о всей лизинговой отрасли»: интервью газете «Коммерсантъ» заместителя министра финансов А.В. Моисеева // Коммерсантъ. 2018. 5 дек. С. 8. URL: https:// www.kommersant.ru/doc/3820100.
76См.: ч. 1 ст. 761 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее — Закон о ЦБ РФ).
77См.: п. 91 ст. 4, ч. 2 ст. 761 Закона о ЦБ РФ.
78См.: ст. 764 Закона о ЦБ РФ.
79См.: ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
80См.: п. 14 и 141 ст. 4 Закона о ЦБ РФ, ч. 6 ст. 21 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
81См.: ч. 2 ст. 765 Закона о ЦБ РФ.
82См.: ч. 1 ст. 765 Закона о ЦБ РФ.
71

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
писания83; устанавливать требования к квалификации и (или) к деловой репутации должностных лиц, оценивать соответствие должностных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, требовать замены должностных лиц в случае их несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации84.
Устанавливаются требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) лизинговых компаний.
Банку России предоставляются полномочия вести реестр специальных субъектов лизинговой деятельности; направлять обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений; осуществлять надзор за соблюдением требований законодательства и нормативных актов Банка России; проводить проверку соответствия деятельности требованиям законодательства и нормативных актов Банка России; запрашивать информацию и документы; давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений; устанавливать требования к лизинговым компаниям, в том числе по соблюдению законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; порядок раскрытия специальным субъектами информации о своей деятельности.
Иными словами, законопроект предполагает возвращение лицензирования лизинговой деятельности с использованием эвфемизма «включение в реестр» для большей части лизинговых компаний и возложением на них существенной регуляторной нагрузки.
Ни к чему хорошему ни для самих лизинговых компаний, ни для их клиентов введение такого регулирования привести не может. Основным последствием реформы станет серьезное увеличение издержек лизинговых компаний на соблюдение новых требований, целесообразность установления которых жизнью никак не доказана, более того — сомнительна ввиду отсутствия актуальной потребности в подобной опеке.
В той мере, в какой позволит конкурентная среда, эти издержки рано или поздно будут перенесены на клиентов лизинговых компаний, а в конечном итоге на потребителей их товаров, работ и услуг.
1. Владение
Интерес должника в эксплуатации актива может быть удовлетворен при условии нахождения вещи в его фактическом обладании. Правомочие владения служит для него фундаментом реализации правомочий пользования, управления, извлечения дохода, а также является предпосылкой несения риска утраты и повреждения, бре-
83См.: ч. 1 ст. 765 Закона о ЦБ РФ.
84См.: ч. 1 и 3 ст. 769-1 Закона о ЦБ РФ.
72

Свободная трибуна
мени содержания и привлечения к ответственности за вред, причиненный в ходе эксплуатации актива, в особенности когда она связана с повышенной опасностью для окружающих.
1.1.Приобретение владения
Всилу диспозитивного правила имущество, являющееся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), передается продавцом непосредственно арендатору (лизингополучателю) в месте нахождения последнего85.
Это означает, что лизингополучатель получает владение от выбранного им продавца.
Аналогичное решение предполагается закрепить и в ходе совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности86.
В силу норм о праве арендатора (лизингополучателя) предъявлять непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, вытекающие из договора купли-продажи, в случаях исполнения договора продавцом и о наделении арендатора правами, предусмотренными гражданским законодательством для покупателя87, лизингополучатель в отношении продавца, не исполняющего обязательство передать актив, наделен правом требовать отобрания этой вещи у продавца (должника) и передачи ее лизингополучателю (кредитору) на предусмотренных обязательством условиях88.
Одновременно с передачей вещи лизингополучателю у лизингодателя возникает право собственности на имущество89.
1.2. Правомочие владения в составе права должника
Римские юристы не признавали фактическое обладание вещью владением, когда речь шла о таком фактическом господстве, которое основано на отношении с собственником. Позиция такого обладателя именовалась держанием90.
85См.: п. 1 ст. 668 ГК РФ.
86См.: п. 3 ст. 8332 проекта главы 431 ГК РФ.
87См.: п. 1 ст. 670 ГК РФ.
88См.: ч. 1 ст. 398, п. 2 ст. 463 ГК РФ.
89См.: п. 1 ст. 223 ГК РФ.
90См., напр.: Дождев Д.В. Римское частное право. 3-е изд., испр. и доп. М., 2008. С. 373–376.
73

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
С легкой руки римлян традиция противопоставлять владение и держание проникла и в современную доктрину.
Вместе с тем в законодательстве позиция арендатора и лизингополучателя именуется владением, что следует и из определения соответствующих институтов91, и из ряда специальных норм.
Так, лицо, обладающее имуществом по основанию, предусмотренному договором, признается владеющим соответствующей вещью и наделяется правами на защиту как от лишения владения, так и от иных нарушений, не связанных с лишением владения92.
Для целей возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, лицо, обладающее подобным активом на законном основании (в том числе на праве аренды), признается его владельцем и отвечает за случайный вред, т.е. вне зависимости от вины93.
Кроме того, закон диспозитивно устанавливает, что право владения предметом лизинга переходит к лизингополучателю в полном объеме94.
Наличие правомочия владения в числе правомочий участника оборота в отношении находящегося в его обладании имущества справедливо выдвигается в качестве признака вещного характера прав такого лица на соответствующий актив95.
Таким образом, за правом лизингополучателя на переданное ему лизинговое имущество следует признать вещный характер.
С момента, когда продавец передает вещь лизингополучателю (должнику), как это предусмотрено диспозитивной нормой96, лизингодатель (собственник) встает по отношению к лизингополучателю в неразличимый круг третьих лиц, обязанных воздерживаться от вмешательства в осуществление лизингополучателем его правомочий по владению и пользованию активом.
Коль скоро от такого вмешательства обязаны воздерживаться все участники оборота, права лизингополучателя на актив являются абсолютными, что также служит признаком их вещного характера.
91См.: ч. 1 ст. 606 и ч. 1 ст. 665 ГК РФ, а также п. 1 ст. 1 и абз. 3 п. 2 Закона о лизинге.
92См.: ст. 305 ГК РФ.
93См.: ст. 1079 ГК РФ.
94См.: п. 2 ст. 11 Закона о лизинге.
95«Сдача имущества внаем порождает вещное право владения нанимателя, а следовательно, вещное обременение сданной внаем вещи» (Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 371).
96См.: п. 1 ст. 668 ГК РФ.
74

Свободная трибуна
1.3. Непосредственное и опосредованное владение
Вместе с тем в ситуации, когда фактическим владельцем вещи является одно лицо (в случае лизинга — лизингополучатель), а право собственности на вещь (по определению включающее правомочие владения) принадлежит другому лицу, возникает потребность в соотнесении владельческих позиций собственника и фактического владельца.
Для этого в ряде правопорядков используется пара понятий — непосредственного (прямого) и опосредованного (косвенного) владения: первое понятие характеризует позицию фактического владельца (в случае лизинга — лизингополучателя), второе — позицию собственника (лизингодателя)97.
Практический смысл дифференциации заключается в следующем: чаще всего нормы, касающиеся владельца и владения, по их буквальному смыслу применяются к непосредственному (прямому) владельцу, т.е. к лизингополучателю. Вместе с тем в ряде случаев из существа отношений вытекает потребность в применении таких норм и к собственнику (лизингодателю), который владельцем в строгом смысле слова (непосредственным (прямым) владельцем) не является. К таким ситуациям можно отнести:
–требование о восстановлении владения — право на предъявление виндикационного требования98 следует признать не только за непосредственным (прямым) владельцем (лизингополучателем), но также и за собственником (лизингодателем), хотя он и не был владельцем на момент незаконного приобретения владения третьим лицом;
–участие в деле по иску третьего лица о восстановлении владения — если следовать буквальному смыслу правил о виндикации, то ответчиком по виндикационному
97Например, наиболее характерные формулировки: владение вещами означает наличие прямого или опосредованного физического контроля над ними. Прямой физический контроль означает физический контроль, который осуществляется лично владельцем или через агента во владении, осуществляющего такой контроль от имени владельца (прямое владение). Опосредованный физический контроль означает физический контроль, который осуществляется через иное лицо, производного владельца (опосредованное владение) (ст. VIII.-1:205 DCFR); если кто-либо владеет вещью в качестве пользовладельца, закладодержателя, арендатора, нанимателя, хранителя или на основании подобного тому отношения, в силу которого он на время вправе или обязан по отношению к другому лицу владеть известной вещью, то это другое лицо также признается владельцем (посредственное владение) (§ 868 ГГУ); лицо, владеющее вещью на основании отношений аренды, найма, хранения, залога или иных отношений подобного рода, дающих ему право на временное владение вещью другого лица, является прямым владельцем, а другое лицо — косвенным владельцем (ч. 2 § 33 Закона о вещном праве Эстонии).
Вместе с тем в российской доктрине проблема соотношения прямого (непосредственного) и косвенного (опосредованного) владения является дискуссионной.
Например, в п. 1.5 разд. IV Концепции развития гражданского законодательства РФ отмечалось, что нет необходимости закреплять в ГК РФ так называемое двойное владение — опосредованное и непосредственное, а также противопоставлять владение и держание (см.: Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. С. 44). Критику этого подхода см., напр.: Латыев А.Н. О владении по концепции развития гражданского законодательства // Вещные права: постановка проблемы и ее решение: сб. ст. / под ред. М.А. Рожковой. М., 2011. С. 66.
98 |
См.: ст. 301 ГК РФ. |
|
75

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
иску должен быть только непосредственный (прямой) владелец вещи, т.е. лизингополучатель. Между тем подобный спор, очевидно, затрагивает права и интересы собственника (лизингодателя), у которого также в данном деле должны быть все права стороны99. У каждого из них могут быть индивидуальные возражения о добросовестности и возмездности приобретения даже в отсутствие аналогичных возражений у другого. При этом наличия таких возражений хотя бы у одного из них должно быть достаточно для отказа в виндикации (кроме случаев, когда таким возражениям противопоставляется довод о выбытии вещи помимо воли истца или лица, получившего от него вещь и впоследствии утратившего ее).
Отдельно следует упомянуть, что арендодатель (лизингодатель), передавший актив арендатору (лизингополучателю), не лишается права на предъявление вещных исков к третьим лицам — нарушителям права собственности100.
1.4. Договорная позиция лизингополучателя
Ввиду передачи части правомочий, составляющих содержание права собственности, лизингополучателю последний приобретает из договора лизинга обширную совокупность прав и обязанностей. Они образуют единый комплекс мер возможного и должного поведения, характеризующий частноправовой статус лизингополучателя.
В практике ВС РФ этот комплекс получил название договорной позиции101. Введение и анализ этого понятия потребовались Суду в связи с необходимостью оценки совокупности прав и обязанностей арендатора (лизингополучателя) как целостного предмета сделки, предусматривающей замену во всех обязательствах из договоров аренды (лизинга) первоначального арендатора (лизингополучателя) его сингулярным правопреемником.
Из актов ВС РФ следует, что под договорной позицией (предметом предоставления при передаче договора) нужно понимать договор с учетом таких его характеристик, как предмет договора (включая направленность основных прав и обязанностей, а также материальный объект возникающих из договора обязательств), срок, степень исполненности102.
99См.: ст. 38–40 ГПК РФ, ст. 44, 46–49 АПК РФ.
100См.: п. 3 Обзора судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 153).
101См.: определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 24.03.2017 № 303-ЭС16- 16877, от 09.04.2018 № 306-ЭС15-7380 и от 06.12.2018 № 305-ЭС17-19232 (5).
102Понятие «договорная позиция» (contractual position) в близком к данному значении используется, например, в ст. 118 Кодекса европейского договорного права. В комментарии В.А. Белова этот термин определяется как «системное единство прав и обязанностей», «комплекс прав и обязанностей» (Белов В.А. Кодекс европейского договорного права — European Contract Code: общий и сравнительноправовой комментарий: в 2 кн. Кн. 1. М., 2015. С. 162–163). Термин не следует путать с «переговорной позицией» (bargaining position), которая характеризует потенциал стороны переговоров, т.е. ее способность добиться включения в договор выгодных ей условий.
76

Свободная трибуна
Правовой статус лизингополучателя, включающий правомочия владения и пользования активом (в том числе управления и извлечения плодов), правомочия на защиту103, а также свойство следования104, характеризуется, таким образом, существенной долей вещных элементов.
В этом качестве договорная позиция признается самостоятельным активом, одной из разновидностей имущественного права. Право аренды можно купить, приобрести в порядке наследования105, на право аренды недвижимого имущества может быть обращено взыскание в рамках исполнительного производства106, арендатор вправе передать свои права и обязанности по договору аренды третьему лицу, в том числе отдать арендные права в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив107. Все изложенное свидетельствует о том, что комплекс прав арендатора (лизингополучателя) является объектом гражданских прав108.
По мнению ВС РФ, договорная позиция обладает определенной ценностью, которая обусловлена тем, что передача прав и обязанностей осуществляется по уже исполняемому договору.
Особенность лизинговой операции (по сравнению с традиционным кредитованием под залог) заключается в том, что кредитор (лизинговая компания) по мере внесения лизингополучателем лизинговых платежей все в большей мере становится по отношению к своему дебитору также и должником — в обязательстве передать предмет лизинга в собственность. Строго говоря, данное обязательство возникает единовременно после внесения лизингополучателем всей суммы лизинговых платежей и выкупной цены. Вместе с тем по мере накопления общей суммы, внесенной лизингополучателем, в его имущественной сфере постепенно формируется «притязание на выкуп лизингового имущества».
Согласно выводам ранее сложившейся практики, имущество передается в лизинг, будучи обремененным правом лизингополучателя на последующий выкуп. Надлежащее исполнение лизингополучателем обязательств по уплате всех лизинговых платежей, предусмотренных договором, означает реализацию им права на выкуп полученного в лизинг имущества109.
103См.: ст. 305 ГК РФ.
104Подробнее см. подраздел 8.2.1 данной публикации (в следующем номере).
105См.: п. 2 ст. 617 ГК РФ.
106См.: ст. 75 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
107См.: п. 2 ст. 615 ГК РФ; ср.: п. 5 ст. 22 ЗК РФ.
108См.: определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 25.04.2017 № 60-КГ17-1.
109Выкуп осуществляется благодаря включению в договор и исполнению условия о переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю при внесении им всех лизинговых платежей, включая выкупную цену, если ее уплата предусмотрена договором, или условия о праве лизингополучателя выкупить по окончании срока действия такого договора предмет лизинга по цене настолько меньшей, чем его рыночная стоимость на момент выкупа, что она является символической (п. 1 постановления № 17).
77

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Праву лизингополучателя выкупить имущество по договору выкупного лизинга корреспондируют обязанности лизингодателя110. Эта связь характеризуется также как «правомерное ожидание лизингополучателя в отношении приобретения права собственности на предмет лизинга в будущем»111.
От констатации этого обстоятельства рукой подать до конструирования специфического права, соответствующего праву ожидания (Anwartschaftsrecht) в немецкой доктрине.
Входе совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности планируется закрепить в законе «право лизингополучателя на приобретение права собственности на предмет лизинга после исполнения своих обязательств по договору финансового лизинга»112.
Втакой формулировке это право может ассоциироваться с новым видом вещного права, включение которого в отечественную систему предполагается законопроектом о реформе ГК РФ, внесенным в апреле 2012 г.113, — «правом приобретения чужой недвижимой вещи»114.
До включения правил о данном виде вещных прав в соответствующий раздел ГК РФ и внесения связанных с ним изменений в законодательство о регистрации прав на недвижимость вводить частную норму о регистрации права лизингополучателя на приобретение права собственности на предмет лизинга представляется преждевременным.
1.5. Реестр уведомлений об обеспечительных правах
1.5.1.Потребность в публичности сведений об обеспечительных правах
Врезультате заключения и исполнения как договора купли-продажи товара с сохранением права собственности за продавцом, так и договора лизинга возникает нередкая для оборота ситуация, когда собственником вещи остается одно лицо, а ее владельцем становится другое.
110См.: постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2012 № 16533/11; определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 06.12.2018 № 305-ЭС17-19232 (5).
111Пункт 6 постановления № 17.
112Статья 8337 проекта главы 431 ГК РФ.
113См.: проект № 47538-6 Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: http://sozd.parliament.gov.ru/download/F308D50A-FF12-4373-8F8F- 7C0175D6DB6E.
114См.: глава 205 (ст. 304–3046) ГК РФ в редакции законопроекта. Подробнее также см.: Концепция развития законодательства о вещном праве // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 170–178.
78

Свободная трибуна
При таком расщеплении собственности и владения, а также при наделении владельца сильными правами на актив (в том числе ввиду признания за правами должника на актив свойства следования115) возникают риски двух видов:
1)в глазах третьих лиц владение создает видимость у владельца распорядительной власти в отношении вещи, что может послужить причиной добросовестного приобретения третьим лицом прав на нее116;
2)третье лицо, приобретая права на такой актив по договору с собственником (кредитором), может не знать о наличии прав должника (покупателя или лизингополучателя) на вещь.
Во избежание конфликтных ситуаций, связанных со столкновением прав и интересов на обеспечительные активы, в значительном количестве юрисдикций предусматривается ведение публичных реестров подобных сделок или прав. Включение записей в такие реестры не является обязательным и не имеет правоустанавливающего значения, однако признается необходимым условием для противопоставления таких прав третьим лицам в случае споров117.
Аналогичная конструкция сейчас реализована применительно к залогу движимого имущества118.
В силу конвенционного регулирования, если по применимому праву вещные права арендодателя (лизингодателя) на оборудование (предмет лизинга) действуют в отношении доверительного собственника при банкротстве арендатора (лизингополучателя)119 и его кредиторов только при соблюдении норм о публичном уведомлении, эти права будут действительными в отношении данного лица лишь при соблюдении таких норм120.
115Подробнее см.: подраздел 8.2.1 данной публикации (в следующем номере).
116См.: ст. 6, абз. 2 п. 2 ст. 223, ст. 302, абз. 2 п. 2 ст. 335 ГК РФ, абз. 4 п. 13 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
117См., напр.: Церковников М.А. О некоторых проблемах лизинговых договоров // Частное право и финансовый рынок. Вып. 2: сб. ст. / отв. ред. М.Л. Башкатов. М., 2014. С. 347.
118См.: п. 4 ст. 3391 ГК РФ, глава XX1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I (далее — Закон о нотариате).
119В данном контексте термин «доверительный собственник при банкротстве» означает лицо, на которое возложено осуществление удовлетворения имущественных требований взыскателей, администратора или любое другое лицо, назначенное для управления имуществом арендатора в интересах кредиторов (подп. «b» п. 1 ст. 7 Оттавской конвенции). Применительно к российскому законодательству о несостоятельности (банкротстве) данный термин должен означать арбитражного управляющего (ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; далее — Закон о банкротстве).
120См.: п. 2 ст. 7 Оттавской конвенции. Аналогичное по существу решение закреплено в DCFR: обеспечительное право на имущество любых видов вступает в силу в отношении третьих лиц в результате его регистрации; если оно обременяет телесное имущество, то приобретается обеспечительным кредитором путем получения этого имущества во владение (ст. IX.-3:102).
79

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Правила о противопоставимости прав лизингодателя третьим лицам при условии публичного уведомления российское законодательство не содержит.
Более того, в ходе совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности предполагается исключить возможность противопоставления прав лизингополучателя такому приобретателю предмета лизинга или залогодержателю, который не знал и не должен был знать, что имущество являлось предметом лизинга (в частности, если он получил владение предметом лизинга от лизингодателя)121. Это предложение представляется требующим дополнительной проработки, включая как закрепление механизмов публикации сведений об обременении, так и более тонкую дифференциацию ситуаций продажи и залога лизингового имущества, с целью достижения баланса между защитой интересов лизингополучателя (которые рассматриваемой нормой явно умаляются по сравнению с действующим правовым режимом) и защитой интересов добросовестных контрагентов лизингодателя.
1.5.2.Законодательное регулирование публикации сведений
В2016 г. на рассмотрение Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дважды вносились законопроекты о создании реестра уведомлений о сделках и обременениях в единой информационной системе нотариата122.
Эти законопроекты были подвергнуты жесткой критике. В отрицательных заключениях Совета подчеркивалось, что сохранение права собственности с целью обеспечить получение платежей от владельца имущества (обеспечительное удержание титула) допускается на практике и получило признание в доктрине. Поэтому саму по себе идею придать публичность таким обеспечениям вряд ли стоит отвергать, но ее воплощение в законопроектах вызвало принципиальные возражения.
Основной упрек касался введения законопроектами двойных стандартов как раскрытия информации о двойном владении123, так и добросовестности при приобретении имущества. Двойственность выражается в следующем:
1)законопроекты вводят новый и очень строгий стандарт добросовестности. Каждый приобретатель каждой движимой вещи должен будет обратиться к реестру, чтобы удостовериться, не передана ли она владельцу по договору купли-продажи с сохранением права собственности за продавцом или по договору лизинга, и, не получив
121См.: п. 4 ст. 83312 проекта главы 431 ГК РФ.
122Текст первого законопроекта см.: http://privlaw.ru/wp-content/uploads/2016/04/6.Proekt_FZ_o_ sozdaniireestra.pdf (сам законопроект разработан в целях повышения позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 г. до 50-й в 2015 г. и 20-й в 2018 г. (подп. «д» п. 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»)). Текст второго законопроекта см.: http://privlaw.ru/wp-content/ uploads/2016/12/2.%20проект%20ФЗ%20уведомл.%20о%20сделках.pdf.
123См. подробнее подраздел 1.3 данной публикации.
80

Свободная трибуна
искомую информацию, будет вынужден продолжить исследование вопроса о собственнике в обычном порядке, поскольку иные случаи законного владения вещью (аренда, доверительное управление и т.д.) в реестре не отражаются;
2)издержки внесения записей в реестр будут нести опосредованные (косвенные) владельцы только двух категорий — продавцы, реализующие товары с сохранением права собственности, и лизингодатели.
Практические вопросы, связанные с последствиями наличия или отсутствия в реестре записей об обеспечительном удержании титула, в тексте законопроектов решения не нашли.
Ввиду этих недостатков Совет по кодификации пришел к выводу о том, что принятие данных законопроектов не предоставит участникам оборота дополнительные гарантии, а приведет их к новым и весьма существенным трансакционным издержкам124.
Несмотря на позицию Совета по кодификации, в лучших традициях отечественного законотворчества последних полутора — двух десятилетий федеральный парламент принял закон, согласно которому сведения о заключении договора лизинга подлежат внесению лизингодателем в специальный информационный ресурс —
Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (18 слов (!); далее — ЕФРС)125. Порядок внесения в него информации закреплен законодательством о регистрации юридических лиц. Каких-либо правил о гражданско-правовом значении внесения подобных сведений в реестр или уклонения от такового законодательство не содержит126.
Данное правило стало полной неожиданностью для лизинговой отрасли. Характерно, что за время его действия (с октября 2016 г.) только один спор был разрешен со ссылкой на это правило: апелляционный суд указал, что нет подтверждения нахождению спорного объекта в лизинге, поскольку сведения о заключении договора лизинга подлежат внесению в реестр, а таких документов стороной в нарушение закона не представлено127. Между тем, поскольку предметом лизинга в деле являлось недвижимое имущество (нежилое помещение), проверка прав
124См.: заключения Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 25.04.2016 № 152-5/2016 (URL: http://privlaw.ru/wp-content/uploads/2016/06/5_2_ zakl_03_2016.docx); от 12.12.2016 № 160-1/2016 (URL: http://privlaw.ru/wp-content/uploads/2016/12/1_ zakl_12_2016.docx).
125См.: https://fedresurs.ru.
126См.: п. 3 ст. 10 Закона о лизинге (норма включена ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ) и ст. 71 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон о государственной регистрации). При этом подлежат указанию номер и дата договора, даты начала и окончания лизинга в соответствии с договором, наименования лизингодателя и лизингополучателя с указанием их идентификаторов, имущество, являющееся предметом лизинга, в том числе его цифровое, буквенное обозначения или комбинация таких обозначений.
127См.: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2017 № 09АП-48430/2017.
81

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
на него должна была осуществляться не по данным упомянутого реестра, а по данным ЕГРН.
Тем не менее в ходе реализации планов Банка России по включению лизинговой деятельности в сферу своего регулирования, контроля и надзора128 предполагалось создать реестр лизинговых договоров.
В то же время законопроект о совершенствовании гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности предполагает введение регистрации права лизингополучателя на приобретение права собственности на предмет лизинга после исполнения своих обязательств по договору финансового лизинга. В отношении недвижимости такие права планируется регистрировать в качестве обременения имущества129 по правилам о государственной регистрации прав130. Не вполне понятно, почему в качестве обременения будет регистрироваться только новое для российской правовой системы «право приобретения» (условное по своей природе) при одновременном умолчании о регистрации наличных прав владения и пользования. В отношении движимого имущества проект содержит правило о возможности учета прав в реестре уведомлений об обременении движимого имущества в порядке, установленном законом о нотариате131.
Кроме того, предполагается установить возможность внесения в ЕФРС информации о правах лиц, не являющихся владельцами имущества, на вещи и имущественные права, закрепленные в договорах с собственником (владельцем) вещи132. В обоснование этих норм в пояснительной записке указывается, что при выходе вещи из владения собственника для третьих лиц создается видимость перехода права собственности на вещь, вследствие чего они могут считать владельца вещи ее правомочным собственником, имеющим право на ее отчуждение, хотя в действительности такого права у приобретателя нет (так называемая обеспечительная собственность)133.
2. Эластичность права собственности и последствия отпадения стеснений прав собственника
Для понимания значимости предоставления кредитору права собственности на актив, служащий обеспечением, важно учитывать свойство эластичности.
128Подробнее см. подраздел D введения.
129См.: п. 1 ст. 8337 проекта главы 431 ГК РФ.
130См.: ст. 81 ГК РФ.
131См.: п. 2 ст. 8337 проекта главы 431 ГК РФ.
132См.: подп. «а» — «г» п. 12 ст. 71 Закона о государственной регистрации в редакции подп. «м» п. 2 ст. 1 недавно принятого нижней палатой закона (указан в след. сноске).
133См.: федеральный закон, принятый Государственной Думой (постановление от 19.12.2018 № 5545-7), но отклоненный Советом Федерации (постановление от 16.01.2019 № 3-СФ). URL: http://sozd.parliament. gov.ru/bill/307663-7.
82

Свободная трибуна
На примере обременения вещи узуфруктом суть этого свойства была сформулирована еще в кодификации Юстиниана: «Когда же узуфрукт прекращается, то право пользования и получения доходов присоединяется к праву собственности, и с этого времени хозяин голой собственности начинает иметь полное право собственности в вещи» (I.2.4.4.). В более общем виде свойство эластичности заключается в том, что как только отпадают те ограничения, которым право собственности подвергалось вследствие наличности прав других лиц на ту же вещь, собственность автоматически обращается в неограниченное право господства над вещью (ius recadentiae)134. Романисты указывают, что это правило установилось еще в квиритском праве135.
Сама эластичность как способность собственности восстанавливаться в полном объеме сразу же по прекращении конкуренции других вещных прав позиционируется в качестве одного из бесспорных признаков этого права136.
Составители проекта Гражданского уложения, определяя право собственности как «право полного и исключительного господства лица над имуществом», предполагали дополнить его оговоркой «насколько это право не ограничено законом и правами других лиц»137. По объяснению редакционной комиссии, это добавление имело целью оттенить, что «по идее своей право собственности всегда предполагается свободным и что с прекращением законных ограничений или прав других лиц свобода собственности сама собой восстанавливается, т.е. что устранение и прекращение ограничений и прав других лиц служит в пользу собственника без всякого особого акта приобретения»138.
В литературе подчеркивается, что проистекающая из прекращения ограниченного вещного права неограниченность права собственности основывается на существе этого права, но не на обратном приобретении вещного права, и зависит не от того, что это право принадлежало управомоченному лицу, а только от того, что этого права больше нет; на этом основании отвергается предложение говорить в такой ситуации о реститутивном правопреемстве139. Последнее предлагалось усматривать при возвращении, обратной передаче приобретенного до того в порядке конститутивного правопреемства субъективного гражданского права, которое должно быть возвращено в том объеме, в каком было передано140.
134См.: Зом Р. Институции: История и система римского гражданского права. Ч. 2: Система. Вып. 1: Общая часть и вещное право. Сергиев Посад, 1916. С. 251.
135См.: Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2004. С. 178.
136См.: Дождев Д.В. Указ. соч. С. 387.
137Гражданское уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии). Кн. 3: Вотчинное право / сост. А.Л. Саатчиан; под ред. И.М. Тютрюмова. М., 2008 (ст. 755 проекта).
138Там же. С. 36.
139См.: Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 2: Введение и Общая часть. М., 1950. С. 89.
140Высказано немецким правоведом К. Гельвигом (см.: Нellwig К. Wesen und subjektive Begrenzung der Rechtskraft. Leipzig, 1901). Подробнее см.: Останина Е.А. Отменительное и отлагательное условие договора дарения // Проблемы права. 2005. № 1. С. 114.
83

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Применительно к лизингу важной представляется также мысль о том, что при установлении на вещь многокомпонентного вещного права, которое охватывает вещь практически полностью, главное назначение остатка права собственности, неотдифференцированного на отдельные правомочия (ius recadentiae), состоит в том, чтобы возвратить само право собственности в первоначальное состояние, как только отпадет указанное право на чужую вещь141.
Таким образом, пока действует договор лизинга и лизингодатель (собственник) связан его условиями, лизингодатель ограничен в возможности совершения фактических и юридических действий, которые могли бы воспрепятствовать лизингополучателю в осуществлении правомочий владения и пользования активом. Как только связанность условиями договора лизинга ввиду его расторжения отпадает, права должника (лизингополучателя) на актив прекращаются142, а в имущественной сфере собственника (лизингодателя) в силу свойства эластичности восстанавливается полнота собственнических правомочий.
В практике высших судебных инстанций также можно найти свидетельства свойства эластичности права собственности лизингодателя на предмет лизинга: суды отмечают, что при расторжении договора лизинга, содержащего условие о переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю при условии выплаты им всех предусмотренных договором лизинговых платежей, прекращается обязательство лизингодателя по передаче предмета лизинга в собственность лизингополучателя143. Следовательно, расторжение договора лизинга влечет прекращение любых вещных правомочий лизингополучателя в отношении предмета лизинга. Вместе с тем в результате изъятия (и, как правило, реализации) лизингодателем актива у лизингополучателя может возникнуть обязательственное (личное) требование к лизингодателю о выплате сальдо встречных предоставлений.
3. Бессрочность права
3.1. Общие подходы
Еще одним атрибутом права собственности традиционно считается его бессрочный (вечный) характер. Несмотря на отдельные примеры иных решений, бессрочность права собственности можно считать общим правилом.
141См.: Иванов А.А. Вещное право: обсуждение Основ гражданского законодательства: круглый стол журнала «Правоведение» // Правоведение. 1992. № 1. С. 118.
142Аналогичное решение предусмотрено в DCFR: если принадлежащие лизингополучателю права на имущество либо права, связанные с имуществом, прекратились, режим обеспечительного удержания права собственности прекращается (п. (3) ст. IX.-6:101), в отношении лизингодателя перестают применяться правила об обеспечительном удержании титула (п. (5) ст. IX.-6:104).
143См.: постановления Президиума ВАС РФ от 18.05.2010 № 1729/10, от 12.07.2011 № 17389/10, от 21.01.2014 № 6878/13.
84

Свободная трибуна
Вместе с тем перечень оснований прекращения права собственности весьма обширен144. Поэтому на самом деле бессрочность права собственности сводится к тому, что программа его существования в большинстве случаев не включает такой этап, как прекращение или переход к иному лицу в связи с истечением срока или наступлением обстоятельства, не связанного непосредственно с действиями собственника.
Позитивное регулирование перехода права собственности от лизингодателя к лизингополучателю включает следующие правила:
содной стороны, договором лизинга может быть предусмотрено, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или до его истечения на условиях, закрепленных соглашением сторон145 (в частности, при внесении всей обусловленной договором выкупной цены146). Если договором предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю, в общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга147;
сдругой стороны, по окончании срока действия договора лизинга лизингополучатель обязан возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора купли-продажи148.
В первом случае речь по существу идет о том, что переход права собственности на предмет лизинга от лизингодателя к лизингополучателю поставлен под отлагательное условие (или комплекс отлагательных условий)149. Такая конструкция имеет много общего с продажей на условиях сохранения права собственности за продавцом до оплаты товара150. При использовании этого варианта право собственности переходит от лизингодателя к лизингополучателю ipso iure — в силу самого факта наступления комплекса согласованных в договоре лизинга условий (в первую очередь внесения лизингополучателем (должником) лизингодателю (кредитору) всей оговоренной денежной суммы). При этом отсутствует необходимость в совершении каких-либо иных юридически значимых действий для признания перехода права собственности состоявшимся151.
144См.: ст. 235–243 ГК РФ.
145См.: п. 1 ст. 19 Закона о лизинге.
146См.: п. 1 ст. 624 ГК РФ.
147См.: п. 1 ст. 28 Закона о лизинге.
148См.: абз. 4 п. 5 ст. 15 Закона о лизинге.
149См.: п. 1 ст. 157 и 3271 ГК РФ.
150См.: ст. 491 ГК РФ.
151Как отмечает Е.А. Крашенинников, для наступления правового последствия не требуется нового выражения воли, так как стороны уже с заключением сделки связали себя своими волеизъявлениями и сделали все, чтобы сделка при наступлении условия вступила в силу (см.: Крашенинников Е.А. Разрешение условия // Очерки по торговому праву. Вып. 11: сб. науч. тр. / под ред. Е.А. Крашенинникова. Ярославль, 2004. С. 32).
85

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Во втором случае стороны в документ, содержащий текст договора лизинга, включают еще один договор — или предварительный договор о заключении в будущем договора купли-продажи предмета лизинга152, или соглашение о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи предмета лизинга153. Само заключение основных договоров купли-продажи — как путем совершения двусторонней сделки во исполнение предварительного договора, так и путем акцепта оферты, содержащейся в опционе, как правило, обусловливается теми же обстоятельствами (в первую очередь внесением лизингополучателем всей согласованной денежной суммы), что и в первом случае. Вместе с тем в цепочку между исполнением лизингополучателем комплекса денежных обязательств и переходом права собственности на лизинговое имущество включаются такие дополнительные юридические факты, как заключение и исполнение договора купли-продажи.
В силу закона оба варианта могут использоваться в обороте в равной мере. Несмотря на либеральный подход законодателя, высшие судебные инстанции демонстрируют более строгое понимание. В актах как казуального, так и абстрактного толкования констатируется, что приобретение лизингодателем права собственности на предмет лизинга служит для него средством достижения цели последующего возврата с прибылью денежных средств и гарантией возврата вложенного, поэтому упомянутое право (обеспечение) носит временный характер и по смыслу общих правил об обеспечении исполнения обязательств154 прекращается при внесении лизингополучателем всех договорных платежей (ибо выплата лизингополучателем цены договора лизинга в согласованные сторонами сделки сроки полностью удовлетворяет материальный интерес лизингодателя в размещении денежных средств155), в том числе в случаях, когда лизингодатель находится в процессе банкротства либо уклоняется от оформления необходимых документов (передаточного акта, договора купли-продажи и проч.)156.
По существу, высшие судебные инстанции пытаются ограничить выбор конструкций перехода права собственности только первым из приведенных выше вариантов. Такое решение имеет ряд существенных недостатков.
В обоснование изложенной правовой позиции приводится весьма размытая ссылка на общие правила об обеспечении исполнения обязательств157, которую, по всей видимости, следует воспринимать как указание на акцессорность права собственности лизингодателя по отношению к праву на получение лизинговых платежей. Между тем и временный, и акцессорный характер права собственности лизингодателя вовсе не очевидны.
152См.: ст. 429 ГК РФ.
153См.: ст. 4292 ГК РФ.
154См.: ст. 329 ГК РФ.
155См.: постановление Президиума ВАС РФ от 25.07.2011 № 3318/11.
156См.: абз. 2 п. 2 постановления № 17 и постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2012 № 16533/11.
157См.: ст. 329 ГК РФ.
86

Свободная трибуна
3.2. Временной аспект существования права собственности
Лизингодатель приобретает право собственности на актив не на определенный срок158, а при самом благоприятном для лизингополучателя подходе лишь под отменительным условием159, которое тождественно отлагательному условию, по наступлении которого лизингополучатель может приобрести это право160.
Статистически в подавляющем большинстве случаев лизинговые операции завершаются надлежащим исполнением обязательств лизингополучателем и приобретением им права собственности на лизинговое имущество. Тем не менее лизингодателю право собственности на актив требуется именно в качестве обеспечения на случай неисправности должника, вероятность которой вовсе нельзя исключать. Поэтому такой этап в правовом режиме лизингового имущества, как переход права собственности на него от лизингодателя к лизингополучателю, нельзя считать ни внутренне присущим данному инструменту, ни тем более служащим обоснованию его временного характера. Следовательно, в данном аспекте право собственности лизингодателя ничем существенно не отличается от прав иных собственников.
Наличие вероятности исполнения лизингополучателем обязательств и — благодаря этому — резолютивно-обусловленный характер права собственности лизингодателя лишь позволяют подходить к оценке его поведения в отношении лизингового имущества с тех же доктринальных позиций, с которых рассматривается поведение сторон любых условных обязательств.
Содной стороны, в период подвешенности должнику в условном обязательстве следует считаться с необходимостью его исполнения в случае наступления условия и воздерживаться от совершения действий, делающих исполнение невозможным. Применительно к лизингу такую ситуацию практически нереально смоделировать. В большинстве проблемных ситуаций позитивное право на случай отступления лизингодателя от подобных стандартов и последующего наступления условия для перехода к лизингополучателю права собственности (т.е. исполнения лизингополучателем обязательств перед лизингодателем) защищает интерес лизингополучателя не путем наделения его личным притязанием к лизингодателю (хотя и это, как правило, эффективно ввиду его состоятельности), а посредством предоставления лизингополучателю вещных (абсолютных) прав на лизинговое имущество, защищаемых против любых контрагентов лизингодателя.
Сдругой стороны, если должник отходит от этого требования, негативные последствия для него могут наступить только после позитивного разрешения условия. При отпадении данного условия кредитор в условном обязательстве не может предъявить должнику требования, связанные с его поведением, не соответствующим выработанным доктриной стандартам. Применительно к лизингу отпадение
158См.: ст. 190 ГК РФ.
159См.: п. 2 ст. 157 ГК РФ. Сами отменительные условия нередко также именуются резолютивными, поэтому права, существующие под отменительным условием, и сделки, совершенные под таким условием, принято называть резолютивно-обусловленными.
160См.: п. 1 ст. 157 ГК РФ.
87

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
условия может состоять в правомерном расторжении договора лизинга, а также в признании лизингополучателя несостоятельным (банкротом). В этом случае становится очевидным, что наступление такого условия перехода права собственности на актив к лизингополучателю, как исполнение им обязательств по договору, оказалось невозможным.
Следовательно, при подобных обстоятельствах право собственности лизингодателя на предмет лизинга не только в принципе не является временным, но и перестает быть резолютивно-обусловленным и становится во всех отношениях обычным правом собственности.
3.3. Акцессорность
Согласно результатам представленного в литературе исследования акцессорности, этот феномен проявляет себя минимум в пяти аспектах — на этапах возникновения, изменения, правопреемства, прекращения и принудительной реализации161.
Чтобы проверить, насколько акцессорность свойственна праву собственности лизингодателя на предмет лизинга, нужно оценить каждый из перечисленных аспектов в отдельности.
3.3.1. Возникновение
Право собственности на актив возникает у лизингодателя в результате системы юридических фактов, не зависящих от заключенности и действительности договора лизинга.
Если договор лизинга оказывается незаключенным или недействительным, лизингодатель приобретает полноценное (а не обеспечительное) право собственности на имущество в результате заключения и исполнения договора купли-про- дажи актива. Это означает, что лизингодатель может распорядиться имуществом, приобретенным в ходе такой операции, по собственному усмотрению и никак не связан при реализации актива какими-либо обязательствами перед лизингополучателем.
И напротив, если лизингодатель не приобретает право собственности на актив (в случае неисполнения продавцом обязательства передать имущество), лизингодатель все равно имеет право на возмещение лизингополучателем предоставленного ему финансирования в виде затрат на приобретение актива, если по условиям лизинговой операции лизингополучатель несет риск неисправности продавца162.
161См.: Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств: европейская правовая традиция и российская практика // Вестник гражданского права. 2012. № 5. С. 9.
162См.: п. 2 ст. 22 Закона о лизинге; постановления Президиума ВАС РФ от 14.10.2008 № 6487/08, от 14.07.2009 № 5014/09, от 15.07.2014 № 4664/13.
88

Свободная трибуна
Таким образом, на этапе возникновения право не имеет признаков акцессорности.
3.3.2. Изменение
В ходе исполнения договора лизинга обязательства лизингополучателя перед лизингодателем могут существенно изменяться в части размера и в части сроков исполнения как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке, в основном по инициативе лизингодателя. Такие изменения могут вызываться различными факторами, в первую очередь ростом затрат лизингодателя на исполнение обязательств по предоставлению финансирования, приобретению, доставке, монтажу, страхованию имущества. Кроме того, в результате различных обстоятельств наряду с регулятивными обязательствами у лизингополучателя перед лизингодателем могут возникать и охранительные — вследствие допускаемых должником нарушений договора.
Сколь угодно чувствительное изменение обязательств никак не влияет на право собственности лизингодателя — он продолжает оставаться собственником с неизменным комплексом правомочий.
Право собственности на лизинговое имущество обеспечивает все требования лизингодателя к лизингополучателю, связанные с исполнением договора лизинга,
визменившемся виде и без особой о том договоренности.
3.3.3.Принудительная реализация
Этот этап в отношениях сторон договора лизинга наступает в случае возникновения обстоятельств, служащих в силу закона или договора основанием для расторжения последнего163 и изъятия актива у лизингополучателя164, а также по истечении срока лизинга (если лизингополучатель не исполнил обязательства по внесению лизингодателю всей согласованной суммы платежей) и при наступлении отменительных условий165, под которыми может быть заключен договор лизинга.
В силу разнообразия оснований прекращения договора лизинга, в том числе необязательно связанных с нарушением лизингополучателем возникших из него обязательств (включая использование оговорки о кросс-дефолте)166, но ведущих
кпринудительной реализации актива, взаимно однозначное соответствие между нарушением договора лизинга и возможностью присуждения лизингополучателя
кисполнению обязательств из него с одной стороны и правом лизингодателя на изъятие актива с целью принудительной реализации — с другой отсутствует.
163См.: п. 1–2 ст. 450, п. 1–2 ст. 4501 ГК РФ.
164См.: п. 3 ст. 11, п. 6 ст. 15, п. 3 ст. 20 Закона о лизинге.
165См. п. 2 ст. 157, ст. 3271 ГК РФ.
166См. подробнее подраздел 8.4 данной публикации (в следующем номере).
89

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Вполне мыслима и ситуация, когда требование о взыскании конкретного лизингового платежа задавнено, а у лизингодателя по основаниям, предусмотренным договором, есть право и на отказ от договора, и на изъятие актива, и на расчет сальдо встречных предоставлений с учетом лишь внесенных платежей. При этом невнесенные платежи вполне могут относиться к периодам, взыскание задолженности по которым может быть заблокировано ссылкой на истечение исковой давности.
Таким образом, в данном аспекте право собственности лизингодателя также нельзя признать акцессорным.
Остаются наиболее сложные аспекты — прекращение и правопреемство.
3.3.4. Прекращение
Как видно из трех предыдущих аспектов, логика регулирования лизинга вовсе не подталкивает к жесткой увязке прекращения права собственности лизингодателя (и последующего перехода права собственности к лизингополучателю) с исполнением договора лизинга.
Коль скоро стороны в качестве обеспечительной конструкции выбирают наделение кредитора правом собственности, вопрос его перехода к должнику следует подчинить общему правилу о приобретении права собственности на имущество, которое уже имеет собственника, — такое право может приобретаться на основании сделки об отчуждении имущества167. Логичным продолжением этой нормы служит правило о том, что право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам168.
Следовательно, то, на каких условиях имущество перейдет в собственность лизингополучателю, должно быть исключительным предметом свободного усмотрения сторон сделки об отчуждении. Не случайно закон именно это и предусматривает: предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон169. И не случайно при продаже товара с сохранением права собственности за продавцом закон также устанавливает, что оно может сохраняться не только до оплаты, но и до наступления иных обстоятельств170.
Правопорядок может ограничить свободу договора в этом случае только в целях пропорциональной защиты конституционно значимых ценностей171.
167См.: абз. 1 п. 2 ст. 218 ГК РФ.
168См.: п. 1 ст. 235 ГК РФ.
169См.: п. 1 ст. 19 Закона о лизинге.
170См.: ст. 491 ГК РФ.
171См.: ч. 3 ст. 55 Конституции РФ; абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ.
90

Свободная трибуна
Таким образом, прекращение права собственности лизингодателя на предмет лизинга и возникновение права собственности лизингополучателя на него могут быть по соглашению сторон поставлены в зависимость как от исполнения лизингополучателем обязательств по соответствующему договору лизинга, так и от других обстоятельств. Это означает, что разъяснение о прекращении права собственности лизингодателя при внесении лизингополучателем всех договорных платежей, в том числе в случаях, когда лизингодатель уклоняется от оформления передаточного акта, договора купли-продажи и прочих документов172, во всяком случае нельзя воспринимать как императивную норму, ограничивающую свободу договора.
Либеральное понимание значения разъяснений ВАС РФ в отношении выкупного лизинга как не направленных на ограничение права сторон определить условия договора лизинга по своему усмотрению, своим соглашением установить условие, отличное от предусмотренного в данных разъяснениях, демонстрирует и высшая судебная инстанция173.
Кроме того, обращает на себя внимание то обстоятельство, что при рассмотрении дел, связанных с защитой интереса внесшего все лизинговые платежи лизингополучателя в получении лизингового имущества в собственность, высшая судебная инстанция с уважением относилась к механизму перехода права собственности, согласованному в договоре, и не выходила за пределы требований лизингополучателя, сформулированных с учетом зафиксированного в договоре порядка передачи титула. Так, если договором предусматривалась передача актива по акту и в силу закона требуется регистрация перехода права собственности, суд поддерживал требования лизингополучателя, основанные на таком механизме174. В другом деле по условиям договора лизинга для перехода права собственности на лизинговое имущество требовалось заключение и исполнение договора купли-продажи, от заключения которого уклонился лизингодатель. Поэтому лизингополучатель потребовал принудить его к заключению такого договора, и именно это требование рассматривалось судами175.
Несмотря на явное желание в обоих сюжетах защитить законный интерес лизингополучателя в получении фактически оплаченных активов в собственность, высшая судебная инстанция не поддалась соблазну переквалифицировать его требование в требование о признании права собственности.
С получением исполнения по всем требованиям, которые согласно договору между лизингодателем и лизингополучателем обусловливают переход права собственности на лизинговое имущество, — как по требованиям, вытекающим непосредственно из данного договора, так и по требованиям из иных оснований (другие договоры, внедоговорные отношения), на которые соглашением сторон распро-
172См.: абз. 2 п. 2 постановления № 17.
173См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 04.08.2015 № 310-ЭС15- 4563.
174См.: постановления Президиума ВАС РФ от 16.09.2008 № 4904/08 и № 8215/08.
175См.: постановление Президиума ВАС РФ от 25.07.2011 № 3318/11.
91

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
странен обеспечительный потенциал актива, — интерес лизингодателя, заключающийся в лизинговой операции, можно считать полностью удовлетворенным. Ввиду исчерпания интереса отпадает необходимость в его обеспечении предоставлением лизингодателю каких-либо субъективных прав, включая право собственности на предмет лизинга176. В такой ситуации произвольное (не основанное на условиях договора) уклонение лизингодателя от оформления передаточных документов уже не должно поддерживаться правопорядком, и логично констатировать переход права собственности на лизинговое имущество от лизингодателя к лизингополучателю.
С учетом изложенного и в данном аспекте нет причин усматривать действие начала акцессорности.
В ходе изменения гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности предполагается императивно признать ничтожными условия договора лизинга, ограничивающие приобретение права собственности на предмет лизинга лизингополучателем по основаниям, которые не связаны с исполнением им своих обязательств по данному договору или с необходимостью утилизации (сноса) предмета лизинга177.
Норма предполагает существенное ограничение свободы договора в отсутствие факторов, оправдывающих подобный произвол законодателя (необходимость защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства178).
Предлагаемое правило не учитывает широко применяемый в сфере обеспеченного финансирования портфельный подход к предоставлению кредитных ресурсов реципиентам инвестиций. В рамках этого подхода все средства, предоставленные кредитором отдельному должнику (или даже группе взаимосвязанных должников) по всем совершенным с ним сделкам, считаются суммарной задолженностью, обязательства по возврату которой рассматриваются как обеспеченные всей совокупностью активов, используемых сторонами в качестве обеспечения. Это позволяет оценивать риски и обеспеченность не изолированно по каждой сделке, а в целом по портфелю сделок с определенным должником, что, в свою очередь, дает возможность кредитору предоставлять должнику финансирование на приобретение низколиквидных активов на более выгодных для должника условиях в расчете на обеспечительный потенциал учитываемых в составе портфеля активов с большей ликвидностью.
176На необходимость взаимосвязи между наличием интереса и субъективным правом как инструментом его реализации указывается в актах высших судебных инстанций, см.: постановление КС РФ от 13.02.2018 № 8-П (абз. 6 п. 5 мотивировочной части); определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26.08.2016 № 305-ЭС16-3884 (правовые позиции из этого документа включены также в Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2016), утв. Президиумом ВС РФ 19.10.2016).
177См.: п. 4 ст. 8339 проекта главы 431 ГК РФ.
178См.: ч. 3 ст. 55 Конституции РФ; абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ.
92

Свободная трибуна
При нарушении должником обязательств по одной из сделок кредитор может полагаться на обеспечительный потенциал всей массы активов, выступающих в качестве обеспечения, что укрепляет его уверенность в возвратности инвестиций и стимулирует должника к надлежащему исполнению обязательств по всем сделкам вне зависимости от его сиюминутной заинтересованности в том или ином конкретном активе.
Установление взаимно однозначного соответствия между сделкой и обеспечительным активом приведет к отказу от портфельного подхода, увеличению уровня риска кредитора в каждой отдельной сделке с низколиквидным активом и к необходимости обусловить предоставление должнику финансирования получением от него дополнительного обеспечения. Это ограничит доступность лизингового финансирования для реципиентов инвестиций.
Подобное решение нарушает логику регулирования обеспечительных отношений в коммерческой сфере, воплощенную в нормах о возможности распространения обеспечительного потенциала актива на обязательства, прямо не связанные с этим активом179. Такая логика нашла свое отражение и в правиле о допустимости обеспечения залогом любых обязательств должника180, и в правиле о допустимости удержания вещи в обеспечение любых обязательств должника в отношении ретентора181.
Неясно, в силу каких веских соображений в регулировании такой обеспечительной конструкции, как лизинг, подход должен быть кардинально иным. Данное решение не только нарушает принцип свободы договора и воплощенную в законодательстве логику регламентации вещного обеспечения, но также поощряет избирательность должника в исполнении обязательств перед кредитором и стимулирует недобросовестное поведение, выражающееся во внесении платы по договору, по которому передано более нужное или более ликвидное имущество, с одновременным безнаказанным уклонением от внесения платы по договору, по которому передано менее нужное или менее ликвидное имущество.
3.3.5. Сингулярное правопреемство
Казус из практики Верховного Суда РФ
Актуальность вопросов правопреемства (как возможного проявления акцессорности) применительно к лизингу можно проиллюстрировать следующим примером из практики (что примечательно — судов общей юрисдикции).
179В DCFR используется категория «универсальное обеспечение», означающая, в частности, обеспечительное обязательство, принимаемое с целью обеспечить исполнение всех обязательств должника перед кредитором (п. (f) ст. IV.G.-1:101). Применительно к вещному обеспечению документ предусматривает, что универсальное обеспечение распространяется только на права, возникшие из договоров между должником и кредитором (т.е. о нем нельзя говорить при внедоговорных требованиях и оно не может обременять имущество третьего лица, а не должника).
180См.: абз. 1 п. 2 ст. 339 ГК РФ.
181См.: абз. 2 п. 1 ст. 359 ГК РФ.
93

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
В течение длительного времени лизинговые платежи за лизингополучателя вносило лизингодателю третье лицо, которое в общей сложности выплатило таким образом более половины договорной цены. Третье лицо совершало выплаты в расчете на передачу ему лизингополучателем договорной позиции, от совершения которой лизингополучатель уклонился. Столкнувшись с таким вероломством, третье лицо обратилось в суд с иском к лизингополучателю о взыскании неосновательного обогащения в размере внесенных за него платежей, а впоследствии, изменив предмет иска, потребовало признать право собственности на лизинговое имущество и передать относящиеся к нему документы и принадлежности.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковые требования со ссылкой на правило о том, что к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в порядке суброгации182.
Высшая судебная инстанция отменила апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, указав следующее.
Признавая истца (фактического плательщика) собственником имущества, суды не установили обстоятельств, свидетельствующих о возникновении у истца права собственности на спорный актив и передаче истцу этого имущества183. Ответчик (лизингополучатель) оспаривает факт заключения какого-либо договора с истцом, предполагающего переход прав и обязанностей лизингополучателя к истцу. В материалах дела доказательства согласия лизингодателя на уступку истцу прав лизингополучателя отсутствуют. Суды не исследовали обстоятельства исполнения обязательств по внесению лизинговых платежей и выкупной цены актива для реализации перехода права собственности на предмет лизинга. Вместо этого суды ограничились установлением факта превышения расходов истца по уплате платежей в пользу лизингодателя над рыночной стоимостью предмета лизинга, что само по себе не влечет таких последствий, как переход права собственности на спорный автомобиль.
Положения о суброгации применены ошибочно, так как уплата истцом части лизинговых платежей в пользу лизингодателя не могла привести к возникновению у истца прав на предмет лизинга. В соответствии с названной нормой к исполнившему обязательство должника третьему лицу переходят права кредитора в размере исполненного (в данном случае права лизингодателя на получение лизинговых платежей), но не права должника, обязательство которого исполнено третьим лицом (в данном случае право лизингополучателя на приобретение в собственность предмета лизинга)184.
Рассматривая это дело, Верховный Суд верно указал, во-первых, на необходимость установления всего комплекса обстоятельств, служащих основанием для прекращения права собственности лизингодателя (внесение лизингодателю всех платежей, предусмотренных договором лизинга), и во-вторых, на то, что исполне-
182См.: п. 5 ст. 313, подп. 5 п. 1 ст. 387 ГК РФ.
183См.: п. 2 ст. 218, п. 1 ст. 223 ГК РФ.
184См.: определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 19.06.2018 № 18-КГ18-90.
94

185
186
187
188
189
190
Свободная трибуна
ние обязательств должника третьим лицом не влечет перехода к нему договорной позиции должника.
Необходимость учета обеспечительного характера конструкции
К огромному сожалению, в актах первой и кассационной инстанций упущена обеспечительная функция права собственности лизингодателя на предмет лизинга.
Истец, внося платежи лизингодателю за лизингополучателя, действовал — с точки зрения правил об исполнении обязательств третьим лицом — именно как третье лицо (в материально-правовом смысле)185.
По правилам о суброгации к такому третьему лицу в силу исполнения им обязательств лизингополучателя (должника) должны были перейти права лизингодателя (кредитора) по договору лизинга на получение с лизингополучателя (должника) лизинговых платежей186. На суброгацию распространяется правило о том, что к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права187.
В свете признания приобретения лизингодателем права собственности на предмет лизинга обеспечением обязательств лизингополучателя по уплате установленных договором платежей, а также гарантией возврата вложенного188 тут вполне можно увидеть, что право собственности лизингодателя на предмет лизинга как минимум очень похоже на «права, обеспечивающие исполнение обязательства». Последние переходят к новому кредитору в силу правила о переходе права первоначального кредитора к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права189.
Решение данного весьма специфического казуса должно зависеть от ответа на более общий вопрос о возможности (тут все более или менее очевидно) и последствиях (а вот тут масса вопросов) перехода обязательственных прав (требований) лизингодателя из договора лизинга к другому лицу.
Уступка прав лизингодателя
В соответствии с конвенционной нормой арендодатель (лизингодатель) вправе передать все принадлежащие ему права на оборудование либо права, которыми он наделен по договору лизинга, или часть этих прав, или иным образом распорядиться всеми принадлежащими ему правами на оборудование либо правами, которыми он наделен по договору лизинга, или частью этих прав190.
См.: ст. 313 ГК РФ.
См.: п. 5 ст. 313, подп. 5 п. 1 ст. 387 ГК РФ.
См.: предл. 2 п. 1 ст. 384 ГК РФ.
См.: п. 2 постановления № 17.
См.: п. 1 ст. 384 ГК РФ.
См.: п. 1 ст. 14 Оттавской конвенции.
95

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Из этой нормы следует, что права из договора лизинга (обязательственные требования в отношении лизингополучателя) и права на оборудование (вещные права на актив) — это объекты, которыми лизингодатель может распоряжаться, не считая их подчиненными принципу единства судьбы.
Вместе с тем, с одной стороны, отчуждение имущества влечет переход прав и обязанностей лизингодателя к приобретателю актива191. С другой стороны, лизингодатель вправе уступить третьему лицу полностью или частично свои права по договору лизинга192. Данная норма, по существу, воспроизводит общее правило о том, что право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования)193.
С прагматических позиций у лизингодателя должна быть возможность уступить право требования как просроченной задолженности, так и платежей, сроки внесения которых наступают в будущем, — причем без одновременной передачи цессионарию права собственности на лизинговое имущество, если такое решение устроит как лизингодателя (цедента), так и цессионария. Более того, по воззрениям оборота именно такое решение является само собой разумеющимся. Никому не приходит в голову даже ставить вопрос о том, чтобы при уступке требования просроченной дебиторской задолженности по лизинговым платежам к цессионарию переходило право собственности на предмет лизинга.
Между тем с догматических позиций все куда интереснее.
Варианты догматического решения
Вариант 1. От лизингодателя к сингулярному правопреемнику переходит часть денежных требований из договора лизинга, а другая часть остается у лизингодателя.
(а)В соответствии с общим диспозитивным правилом о переходе прав, обеспечивающих исполнение обязательства, к новому кредитору194 к нему должно переходить и право собственности на лизинговое имущество.
Если оттолкнуться от нормы о переходе к поручителю, исполнившему обязательство, прав кредитора по этому обязательству и прав, принадлежавших кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора195, то по аналогии к сингулярному правопреемнику лизингодателя должна перейти доля в праве собственности на предмет лизинга. При этом необходимо принимать во внимание разъяснение о том, что кредитор и поручитель становятся созалогодержателями, имеющими равные права на удовлетворение своих
191См. подробнее подраздел 8.2 данной публикации (в следующем номере).
192См.: п. 1 ст. 18 Закона о лизинге.
193См.: п. 1 ст. 382 ГК РФ.
194См.: п. 1 ст. 384 ГК РФ.
195См.: п. 1 ст. 365 ГК РФ.
96

Свободная трибуна
требований из стоимости заложенного имущества196, однако поручитель не может осуществить перешедшее к нему право во вред кредитору, получившему лишь частичное исполнение (например, препятствовать обращению взыскания на предмет залога и т.п.), а кредитор, напротив, может самостоятельно осуществлять свои права в отношении остальной части своего требования преимущественно перед поручителем197.
Применительно к лизингу это гипотетически могло бы означать, что лизингодатель и его частичный сингулярный правопреемник в требовании внесения лизинговых платежей становятся участниками долевой собственности на предмет лизинга (этакое «солизингодательство»). Однако новый кредитор не может осуществлять свои правомочия во вред лизингодателю (например, препятствовать изъятию или реализации лизингового имущества), а лизингодатель, напротив, может самостоятельно реализовать свои правомочия в целях удовлетворения остальной части своего требования преимущественно перед правопреемником.
Такое решение (если его воспринимать как гипотетическое общее правило) представляется неприемлемым ввиду следующих соображений:
во-первых, для образования общей собственности нужно или ясное волеизъявление собственника, или ясное указание закона. В рассматриваемой ситуации нет ни того, ни другого, есть только попытка через ряд сомнительных силлогизмов и аналогий подогнать решение под ответ;
во-вторых, распространение в отношении актива режима общей собственности приведет к существенному ослаблению его обеспечительного потенциала ввиду резкого повышения уровня трансакционных издержек, с которыми станет сопряжена реализация имущества, вследствие требования общего согласия на распоряжение имуществом, находящимся в общей собственности198, а также предоставления участникам общей собственности преимущественного права покупки доли в праве собственности199;
в-третьих, назначение института общей собственности в значительной степени состоит в регулировании относительных отношений участников долевой собственности по владению и пользованию вещью, ее содержанию, распределению продукции, плодов и доходов от ее использования, разделу и выделу доли200, тогда как режим предмета лизинга, находящегося во владении и пользовании лизингополучателя, исключает потребность в таком регулировании и его применимость.
196См. также: ст. 3351 ГК РФ.
197См.: п. 30 постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством».
198См.: п. 1 ст. 246 ГК РФ.
199См.: ст. 250 ГК РФ.
200См.: ст. 247–249, 252 ГК РФ.
97

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Иными словами, наделение частичного сингулярного правопреемника лизингодателя в денежных требованиях долей в праве собственности на предмет лизинга приведет к усложнению отношений участников лизинговой операции без какоголибо позитивного эффекта.
(б)В соответствии с разъяснением высшей судебной инстанции уступка права (требования) влечет за собой замену кредитора в конкретном обязательстве, в состав которого входит уступаемое право (требование), а не замену стороны в договоре201.
Иными словами, переход права требования части платежей по договору от стороны договора к другому лицу не влечет перехода к такому лицу договорной позиции стороны. Следовательно, переход права требования части лизинговых платежей от лизингодателя к сингулярному правопреемнику не должен приводить даже к частичной передаче договорной позиции лизингодателя такому правопреемнику. Между тем как раз такая передача договорной позиции произойдет в случае наделения сингулярного правопреемника долей в праве собственности на предмет лизинга, ибо, как уже указывалось выше, именно право собственности служит символом и центром притяжения совокупности прав и обязанностей лизингодателя из договора лизинга.
В русле такой логики нет догматических оснований для наделения сингулярного правопреемника лизингодателя долей в праве собственности на предмет лизинга.
К такому же решению пришли составители законопроекта о совершенствовании гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности, предусмотрев (диспозитивно), что при уступке части требования о выплате лизинговых платежей к цессионарию не переходит доля в праве собственности на предмет лизинга пропорционально размеру требования202.
Вариант 2. Когда в результате перехода прав требования внесения лизинговых платежей от лизингодателя к сингулярному правопреемнику у самого лизингодателя не остается неисполненных требований к лизингополучателю (в том числе таких, которые возникли из иных оснований, но по условиям договора лизинга обеспечиваются правом собственности на предмет лизинга, переданный по данному договору), ситуация существенно меняется по сравнению с рассмотренным выше сюжетом.
Здесь положение лизингодателя ничем принципиально не отличается от того, когда он получает полное удовлетворение непосредственно от лизингополучателя203. Интерес лизингодателя, обеспечением реализации которого ранее служило право собственности на лизинговое имущество, оказывается удовлетворенным полно-
201См.: п. 6 Обзора практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120).
202См.: п. 5 ст. 83312 проекта главы 431 ГК РФ.
203Подробнее см. подраздел 3.3.4 данной публикации.
98

204
205
206
Свободная трибуна
стью. Поэтому необходимость в наделении лизингодателя субъективным правом собственности на актив и в сохранении за ним этого права отпадает.
Возникает вопрос: что в данной ситуации должно произойти с правом собственности на предмет лизинга? Напрашиваются два варианта ответа:
во-первых, можно передать право собственности на лизинговое имущество лизингополучателю. Это можно обосновать тем соображением, что при удовлетворении интереса лизингодателя актив должен переходить в собственность лизингополучателя. Вместе с тем такое решение не учитывает, что интерес лизингодателя удовлетворен не за счет лизингополучателя, а за счет поручителя, цессионария или третьего лица (интервента). Эти участники оборота, заместив своими средствами коммерческий кредит, предоставленный лизингодателем, окажутся в незавидном положении, если благодаря их платежам лизингодателю лизингополучатель получит актив в собственность, а сами плательщики получат в отношении лизингополучателя только необеспеченные денежные требования;
во-вторых, можно передать право собственности на лизинговое имущество новому кредитору, к которому от лизингодателя перешли права требования внесения лизинговых платежей, но — в силу норм об эффекте перехода права собственности на предмет лизинга204 — передать его обремененным правами лизингополучателя по договору лизинга, в том числе правом на последующий выкуп205.
Аналогичное решение предполагается закрепить в законе в ходе совершенствования частноправового регулирования лизинга206.
Достоинством второго варианта служит его соответствие общей логике последствий суброгации обеспеченного требования, состоящих в предоставлении новому кредитору обеспечительных прав. Недостатком этого решения является риск злоупотреблений, если последнюю копейку вместо лизингополучателя внесет лизингодателю некое третье лицо.
Здесь как раз можно дифференцировать последствия в зависимости от того, в каком качестве третье лицо внесет платежи лизингодателю. Если их внесет поручитель, участие которого в лизинговой операции изначально служило дополнительным обеспечением исполнения обязательств по договору лизинга, то такое развитие событий не будет сюрпризом для лизингополучателя и он самостоятельно уладит свои взаимоотношения с поручителем, скорее всего, так или иначе аффилированным с лизингополучателем. Если же поручитель появится из ниоткуда, то такой риск нивелируется разъяснениями о последствиях злонамеренных согласованных действий кредитора и поручителя, направленных на заключение договора поручительства вопреки желанию должника и способных причинить неблагоприятные для него последствия: в таких случаях ввиду запрета
См.: п. 2 ст. 23 Закона о лизинге.
См.: постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2012 № 16533/11.
См.: п. 2 ст. 83312 проекта главы 431 ГК РФ.
99

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
злоупотребления правом207 суд может не признать состоявшимся переход права к поручителю в порядке суброгации208.
То же касается и интервента. С одной стороны, условия исполнения им обязательств перед лизингодателем за лизингополучателя ограничены законом: если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, то кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, если должник просрочил исполнение денежного обязательства, а также если третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество должника вследствие обращения взыскания на это имущество209. С другой стороны, за последние годы высшая судебная инстанция неоднократно формулировала правовые позиции, призванные исключить недобросовестные действия со стороны интервента: при выявлении признаков злоупотребления правом в его действиях (намерения причинить вред кредитору или должнику по обязательству) суд может признать суброгацию несостоявшейся210.
Аналогично должен решаться вопрос и с уступкой лизингодателем права требования к лизингополучателю. В обычной ситуации, когда лизингополучатель исправно вносит лизинговые платежи, у лизингодателя нет мотивов уступать право требования кому-то в отрыве от права собственности на актив. Обычно уступка совершается в отношении не просто просроченной задолженности, а такой задолженности, шансы на самостоятельное погашение которой самим лизингополучателем крайне низки. В этом случае оправданны и суброгация, и переход к цессионарию права собственности на лизинговое имущество.
Если же на фоне надлежащего исполнения лизингополучателем всех обязательств лизингодатель без каких-либо разумных причин пустится во все тяжкие и, например, уступит право требования последнего платежа, воспользовавшись случайной просрочкой его внесения на один день, а цессионарий, став новым собственником, тут же расторгнет договор лизинга и потребует изъятия актива у лизингополучателя, который к тому же быстро погасит долг, то в такой ситуации в требовании об изъятии имущества надлежит отказать и, напротив, признать за лизингополучателем право приобретения предмета лизинга в собственность211.
В свете изложенного казус, приведенный в начале данного подраздела, следовало бы решать следующим образом. Нужно признать право третьего лица, внесшего лизингодателю более половины платежей, требовать передачи лизингового имущества в собственность, но с тремя существенными оговорками: во-первых, та-
207См.: п. 1–2 ст. 10 ГК РФ.
208См.: абз. 4 п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством».
209См.: п. 2 ст. 313 ГК РФ.
210См.: абз. 3 п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»; определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 16.06.2016 № 302-ЭС16-2049, от 15.08.2016 № 308-ЭС16-4658 и др.
211См.: постановление Президиума ВАС РФ от 25.07.2011 № 3318/11.
100

Свободная трибуна
кое право признается ввиду получения лизингодателем полного удовлетворения имущественного интереса, связанного с этим активом; во-вторых, интерес третьего лица защищается, поскольку в его действиях отсутствуют признаки злоупотребления правом; в-третьих, с передачей права собственности на актив к такому третьему лицу одновременно переходит договорная позиция лизингодателя, а за лизингополучателем сохраняется весь комплекс прав и обязанностей, возникших из договора лизинга.
Вместе с тем предложенные решения сильно отклоняются от принципа акцессорности. Поэтому по итогам рассмотрения ситуаций, в которых она могла бы себя проявить, можно прийти к общему выводу, что для такой обеспечительной конструкции, как лизинг, акцессорность нехарактерна.
3.4. Проблема сохранения права при включении актива в состав неделимой вещи
Устанавливаемый законом режим ставит под сомнение целесообразность лизинга имущества, которое в результате монтажа окажется присоединенным к зданию или сооружению и, таким образом, к земельному участку, принадлежащему не лизингодателю, а лизингополучателю или третьему лицу.
Оттавская конвенция на этот случай предусматривает, что ее положения (т.е. правила о правах и обязанностях лизингодателя и лизингополучателя) не перестанут применяться только из-за того, что оборудование (предмет лизинга) стало принадлежностью земельного участка или было присоединено к земельному участку212.
Вместе с тем нельзя забывать известные казусы о последствиях прикрепления движимых вещей, права на которые принадлежат одному лицу, к недвижимым вещам, которые принадлежат другому лицу. Например, когда подрядчик установил дверные блоки в строящемся здании, эти блоки перестали быть отдельными самостоятельными объектами собственности, не существуют в качестве отдельного предмета, а стали частью объекта незавершенного строительства, принадлежащего заказчику213. В ситуации, когда оборудование установлено в здании или сооружении таким образом, что прочно с ним соединено, оборудование и строение используются по единому назначению, извлечение оборудования без причинения вреда как ему, так и строению невозможно, строение и оборудование могут быть признаны неделимой вещью (раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных прав даже в том случае, если она имеет составные части214),
212См.: п. 1 ст. 4 Оттавской конвенции.
213См.: постановление Президиума ВАС РФ от 26.10.1999 № 3655/99.
214См.: ст. 133 ГК РФ.
101

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
а отношения собственников строения и оборудования могут быть квалифицированы как отношения сособственников неделимой вещи215.
Входе работы над проектом совершенствования общих положений гражданского законодательства предполагалось учесть практику лизинга, когда и после соединения нескольких вещей в одну составную вещь некоторые права, вытекающие из лизинга, сохраняются216, и допустить определенные исключения из правила о неделимости составной вещи для случаев, прямо указанных в законе217. К сожалению, именно применительно к лизингу это не нашло воплощения в законе, в отличие от выделения из вещи ее составной части в целях обращения взыскания на основании указания закона или судебного акта218.
Всвете приведенных прецедентов лизинговые операции в отношении имущества, которое в результате монтажа окажется частью вещи, принадлежащей не лизингодателю, а другому лицу, представляются в существенной степени лишенными обеспечительного потенциала, служащего стержнем всей конструкции.
4.Возможность перехода прав в порядке универсального правопреемства
Передаваемость прав на имущество по наследству (в качестве логического продолжения свойства бессрочности219), в том числе в результате совершения и исполнения завещания, относится к чертам, свойственным полноценному праву собственности.
De lege lata в лизинговых операциях в роли как лизингодателя220, так и лизингополучателя могут выступать граждане221. На практике выполнение функций лизингодателя гражданином является экзотикой — за исключением случаев, когда лизинговая компания передает гражданину право собственности на лизинговое
215См.: постановление Президиума ВАС РФ от 24.12.2013 № 12505/13.
216Аналогичное решение содержится в DCFR: обеспечительное право на вещи сохраняется, даже если обремененное имущество впоследствии становится присоединенным к движимому или недвижимому имуществу (п. (2) ст. IX.-2:306). Присоединенным именуется телесное имущество, которое тесно связано или станет тесно связанным с движимым или недвижимым имуществом или его частью, притом что физически возможно и экономически целесообразно без особого ущерба отделить это присоединенное имущество от указанной движимости или недвижимости (п. (2) ст. IX.-1:201).
217См.: п. 1.12 разд. III проекта Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации (Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 27).
218См.: п. 3 ст. 133 ГК РФ.
219Подробнее см. подразделы 3.1 и 3.2 данной публикации.
220В ходе реформы лизинговой отрасли предполагается разрешить лизинговую деятельность только юридическим лицам (подробнее о реформе см. подраздел D введения).
221См.: абз. 2 и 3 п. 1 ст. 4 Закона о лизинге.
102

Свободная трибуна
имущество222. Такое имущество (со всеми правами и обязанностями по договору лизинга) в случае смерти этого гражданина, без сомнения, войдет в его наследственную массу и может быть унаследовано как по закону, так и по завещанию. В этом плане право собственности на лизинговое имущество является полноценным и переходит в порядке универсального правопреемства.
Очевидно также, что в случае реорганизации юридических лиц — как лизингодателя, так и лизингополучателя — соответствующие права на актив в совокупности с комплексом прав и обязанностей из договора лизинга переходят к их универсальным правопреемникам.
Единственным неоднозначным, по крайней мере с точки зрения практики, вопросом универсального правопреемства представляется тема последствий смерти лизингополучателя-гражданина в ситуации, когда предметом лизинга является движимая вещь.
Обратной стороной этого вопроса является квалификация права собственности лизингодателя после смерти лизингополучателя: продолжает ли это право существовать как обеспечительное в том режиме, который описывается в данной публикации, с сохранением всех стесняющих его обременений, или со смертью лизингополучателя все обременения ipso iure отпадают, а право собственности в силу свойства эластичности223 восстанавливается во всей полноте?
Проблема коренится в правиле о том, что в случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по договору аренды переходят к наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное. Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок его действия, за исключением случая, когда заключение договора было обусловлено личными качествами арендатора224.
На фоне этого правила доктрина и практика делают разноречивые выводы о судьбе прав и обязанностей лизингополучателя в отношении движимого имущества. Так, одни авторы полагают, что если объектом аренды выступает имущество, не относящееся к недвижимости, то после смерти арендатора следует применять нормы о прекращении обязательства смертью должника225. По мнению других авторов, обязательство по общему правилу не прекращается со смертью гражданина. В норме о переходе к наследникам арендатора прав и обязанностей по договору основной акцент делается на том, что, во-первых, стороны при заключении договора могут оговорить условие, по которому договор прекращается в связи со смертью гражданина-арендатора, а во-вторых, арендодатель наделен правом отказать на-
222Подробнее см. подраздел 8.2 данной публикации (в следующем номере).
223Подробнее см. раздел 2 данной публикации.
224См.: п. 2 ст. 617 ГК РФ.
225См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: в 3 т. Т. 1 / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2011. С. 386 (автор комментария к ст. 418 — Е.В. Вавилин); Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М., 2001. С. 204.
103
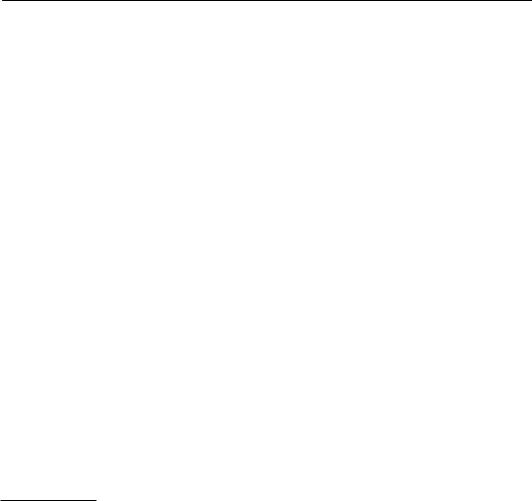
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
следнику во вступлении в обязательство, если арендные отношения были обусловлены всего лишь личными качествами арендатора226.
Правильной представляется вторая из приведенных точек зрения. Диспозитивное правило о переходе к наследнику арендатора прав и обязанностей по договору аренды недвижимости и норму о недопустимости отказа наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок его действия (за исключением случая, когда заключение договора было обусловлено личными качествами арендатора227) следует одновременно рассматривать в двух ракурсах.
С одной стороны, оно является специальным законом по отношению к общему закону о сохранении обязательств и их переходе к наследникам в случае смерти стороны обязательства228, кроме случаев, когда обязательство неразрывно связано с личностью умершего должника или кредитора, в частности когда исполнение не может быть произведено без личного участия должника или предназначено лично для кредитора229. К числу таких исключений практика относит право на алименты и алиментные обязательства, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (особо следует обратить внимание на то, что в данном перечне нет ни договора аренды, ни договора лизинга), поручения, комиссии, агентского договора230, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего231, право на компенсацию морального вреда в денежном выражении232.
За этими исключениями не связанные с личностью наследодателя имущественные права и обязанности входят в состав наследства (наследственного имущества)233.
В подавляющем большинстве случаев право пользования имуществом и обязанность уплаты денежных сумм не могут считаться высокоперсонифицирован-
226См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический): к частям первой, второй, третьей и четвертой / под ред. С. А. Степанова. 4-е изд. М.; Екатеринбург, 2015. С. 636 (автор комментария к ст. 617 — Д.В. Мурзин).
227См.: п. 2 ст. 617 ГК РФ.
228См.: ч. 1 ст. 1112, ст. 1175 ГК РФ.
229См.: ст. 418 ГК РФ.
230См.: п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».
231См.: п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина».
232См.: абз. 2 п. 24 постановления Пленума ВС РФ от 29.11.2011 № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве».
233См.: определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 24.09.2013 № 81-КГ13-14, включенное также в п. 3 Обзора судебной практики ВС РФ за III квартал 2013 г., утв. Президиумом ВС РФ 05.02.2014.
104

Свободная трибуна
ными. Поэтому к последствиям смерти арендатора должно применяться общее правило, состоящее в том, что права и обязанности арендатора переходят к его наследникам.
Специальное регулирование заключается в том, что оно допускает включение в договор условия, не совпадающего с правилом о переходе прав и обязанностей к наследнику арендатора, а также придает правовое значение личным мотивам (отношение к арендатору), которыми руководствовался арендодатель при заключении договора. Кроме того, данное специальное правило предполагает такое действие наследника, как вступление в договор, что наводит на мысль о его в определенной мере автономном характере по отношению к принятию наследником наследства и о праве наследника принять наследство, но воздержаться от вступления в договор, т.е. по существу отказаться от его исполнения. Возможно, содержание специального правила в этой части состоит в указании на приобретение наследником не комплекса прав и обязанностей по договору аренды недвижимости (в отличие от договора аренды движимого имущества), а секундарного права на вступление в такой договор.
С другой стороны, рассматриваемое правило стало новым законом по отношению
ктем правилам, которые действовали в освещаемой сфере до введения в начале 1996 г. в действие части второй ГК РФ, а именно:
–к правилу о том, что в случае смерти арендатора его права по договору аренды (таких активов, как земля и другие природные ресурсы, предприятия (объединения), организации, структурные единицы объединений, производства, цеха, иные подразделения предприятий, организаций как единые имущественные комплексы производственных фондов и других ценностей; отдельные здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, инструмент, другие материальные ценности) переходят к одному из проживавших и работавших вместе с ним членов семьи, если он соглашается стать арендатором, а арендодатель не вправе отказать такому лицу во вступлении в договор на срок, оставшийся по действующему договору, за исключением случаев, когда заключение договора было обусловлено личными качествами арендатора234;
–к правилу о том, что договор аренды земли у собственника может быть расторгнут в случае смерти арендатора и отсутствия наследника, желающего воспользоваться преимущественным правом аренды235.
Именно эти экстравагантные нормы оказались заменены ныне действующими положениями.
Интерпретация правила о последствиях смерти арендатора недвижимости с использованием систематического и исторического методов толкования приводит
квыводу о том, что права и обязанности по договорам аренды и лизинга дви-
234См.: ч. 2 ст. 3 и п. 5 ст. 13 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде от 23.11.1989 № 810-I.
235См.: п. 3 ч. 1 ст. 41 ЗК РСФСР 1991 г.
105

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
жимого имущества переходят к наследникам арендатора в общем порядке, а по договорам аренды и лизинга недвижимости — с учетом рассмотренных выше специальных норм.
Между тем немногочисленная нотариальная и судебная практика не дают оснований для однозначных выводов. С одной стороны, нотариусы, как можно судить из судебных актов, включают права и обязанности по договору лизинга в состав наследства при выдаче свидетельств. Наследники даже заключают между собой соглашения об определении долей, подлежащих выплате в счет оплаты выкупной стоимости лизингового имущества236. С другой стороны, суды, скорее, придерживаются той весьма сомнительной точки зрения, что права и обязанности лизингополучателя являются высокоперсонифицированными и прекращаются смертью лизингополучателя237.
Эта позиция судов очевидно противоречит приведенным выше нормам, нарушает права наследников лизингополучателя, лишает комплекс прав лизингополучателя на актив необходимой прочности и надежности и тем самым дестабилизирует оборот, порождая со временем споры, связанные с прекращением договора лизинга. Если согласиться с подходом судов, не вполне понятно, в чьей имущественной сфере (наследодателя-лизингополучателя или его наследников) и в силу каких юридических фактов в случае признания договора лизинга прекратившимся смертью лизингополучателя возникает право требовать определения завершающей обязанности и расчета сальдо встречных предоставлений по лизинговой операции. При жизни лизингополучателя договор действовал и оснований для определения завершающей обязанности не было. В имущественной сфере лизингополучателя этот элемент не образовался и в наследственную массу включаться не может. В то же время наследники лизингополучателя участниками договора лизинга не стали, следовательно, прекращение договора, стороной которого они не были и не стали, не порождает у наследников лизингополучателя права требовать определения завершающей обязанности. Этот пример подчеркивает ошибочность позиции судов.
Вместе с тем признание отношений из договора лизинга сохранившимися, несмотря на смерть лизингополучателя, требует решения ряда вопросов, касающихся порядка реализации лизингодателем права на односторонний отказ на случай уклонения всех наследников от исполнения обязательств по договору — как до, так и после принятия кем-либо из них наследства.
236См.: апелляционные определения Московского городского суда от 26.02.2018 по делу № 33-5308/2018, от 18.05.2015 по делу № 33-13859, от 28.05.2012 по делу № 11-7821.
237См.: решение АС г. Москвы от 13.09.2010 по делу № А40-46210/10-157-391; апелляционные определения Московского городского суда от 26.02.2018 по делу № 33-5308/2018, от 14.08.2017 по делу № 3331828/2017, от 18.05.2015 по делу № 33-13859, от 28.05.2012 по делу № 11-7821.
Единственное противоположное решение — определение Московского областного суда от 02.02.2012 по делу № 33-2748/2012, в котором отражены заключение наследником с лизинговой компанией соглашения об исполнении обязательств лизингополучателя и последующий переход предмета лизинга в собственность наследников.
106

Свободная трибуна
5. Правомочие пользования
Правомочие пользования (в узком смысле) традиционно определяется через возможность извлечения полезных свойств вещи. Как известно, еще Аристотель отметил, что «сущность богатства заключается более в пользовании, чем в обладании: ведь операции над предметами владения и пользование ими и составляют богатство»238.
Не случайно в гражданском законодательстве определение предпринимательской деятельности содержит указание на «систематическое получение прибыли от пользования имуществом»239.
Важность правомочия пользования для лизингополучателя подчеркивается и судебной практикой, в которой отмечается (применительно к лизингополучате- лю-коммерсанту), что его деятельность является предпринимательской, направленной на получение прибыли, поэтому использование предмета лизинга в предпринимательской деятельности обусловлено разумным ожиданием получения дохода и покрытия соответствующих затрат, включая расходы в виде лизинговых платежей240.
Конструкция титульного обеспечения представляет для должника интерес лишь в той мере, в какой он, не будучи собственником имущества (ввиду принадлежности титула кредитору), будет вправе пользоваться активом. Поэтому правомочие пользования (в узком смысле) должно быть не у собственника, а у должника (в случае с лизингом — у лизингополучателя), что и закрепляется в законе: право пользования (как и владения) переходит к лизингополучателю в полном объеме241.
Полноту в данном контексте следует трактовать не как принадлежность лизингополучателю исчерпывающего набора пользовательских правомочий, а как монопольное право лизингополучателя на эксплуатацию актива в установленных пределах, как указание на то, что, помимо лизингополучателя, ни у кого (включая лизингодателя) не может быть одновременно правомочий, состоящих в том или ином использовании данного имущества.
Вместе с тем, поскольку лизингополучатель не является собственником переданного ему актива, возможность пользования и распоряжения имуществом, предоставленным по договору лизинга, ограниченна242.
Это очень важное замечание. Лизингополучатель использует актив не как свое имущество, не как полноправный собственник, но лишь в силу правомочия, осно-
238Аристотель. Риторика. I 5 1361 a 20. Пер. Н.Н. Платоновой.
239Абзац 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ.
240См.: постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 16573/12.
241См.: ч. 1 ст. 665 ГК РФ; п. 2 ст. 11 Закона о лизинге.
242См.: постановление Президиума ВАС РФ от 05.06.2012 № 13049/11.
107

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
ванного на договоре с настоящим собственником. Пользованию лизингополучателя не могут быть свойственны в полной мере такие характеристики, относящиеся лишь к собственнику, как возможность совершения в отношении имущества «любых действий» и «по своему усмотрению»243.
Применительно к лизингу подобное ограничение использования вытекает из обязанности лизингополучателя пользоваться активом не как угодно, а лишь в соответствии с назначением имущества244. Раскрывая существо этого ограничения в реализации арендатором правомочия пользования (в сфере аренды земельных участков), ВАС РФ отметил, что арендатор получает право использования имущества по указанному в договоре назначению. В связи с наличием договорных отношений с собственником изменение использования предполагает изменение соответствующего договора и без этого невозможно. Арендатор не вправе изменять договор в одностороннем порядке и не может обязать арендодателя изменить вид разрешенного использования арендованного имущества по выбору арендатора. Воля арендатора как обладателя обязательственного права245, направленная на использование имущества иным образом, нежели установленный в договоре, не является абсолютной и не может ущемлять права собственника. Иной подход противоречил бы фундаментальным положениям гражданского законодательства о правах собственника и необоснованно ограничивал бы их246.
Вместе с тем требование собственника об устранении контрагентом нарушений условий пользования переданным по договору имуществом квалифицируется в судебной практике не как вещное (негаторное247), а как обязательственное (договорное) и удовлетворяется в этом качестве (по правилам о соответствующем договоре248)249.
Одним из основных направлений ограничения использования служит то же правило, которое со времен римского права сопровождает использование узуфруктуарием вещи, переданной ему в пользовладение: «право пользоваться чужими вещами и извлекать из них плоды» является не безграничным, а обусловлено «сохранением в целости субстанции вещей»250.
243Ср.: п. 2 ст. 209 ГК РФ.
244См.: п. 1 ст. 615 ГК РФ.
245Суждение об обязательственном характере прав арендатора в свете ряда норм, наделяющих такие права вещными чертами, представляется крайне дискуссионным.
246См.: постановление Президиума ВАС РФ от 25.06.2013 № 1838/13.
247См.: ст. 304 ГК РФ.
248См.: ст. 615 ГК РФ.
249См.: п. 2 Обзора судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 153).
250См.: D.7.1.1.
108

Свободная трибуна
В силу закона лизингополучатель обязан обеспечить сохранность вещи251, а при прекращении договора вернуть лизингодателю предмет лизинга в состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа252. Из этих норм также вытекает, что эксплуатация лизингополучателем актива ограничена стандартом нормального износа.
К числу ограничений правомочия пользования можно отнести также право лизингодателя применить в отношении лизингополучателя меру оперативного воздействия — приостановить эксплуатацию актива ввиду нарушений договора лизинга, допускаемых лизингополучателем. Смысл такой меры оперативного воздействия заключается в стимулировании договорной дисциплины неисправного должника менее радикальным способом, чем расторжение договора, влекущее прекращение возникших из него обязательств и безвозвратное изъятие актива. Практика показывает, что краткосрочное пребывание лизингового имущества во владении лизингодателя без расторжения договора способствует внезапному улучшению финансово-хозяйственного положения лизингополучателя, о чем свидетельствует его в ускоренном темпе созревающая готовность погасить просроченную задолженность.
С точки зрения действующего регулирования такое право лизингодателя вытекает из правил о встречном исполнении обязательств: в случае непредоставления обязанной стороной (лизингополучателем) предусмотренного договором исполнения обязательства (по внесению лизинговых платежей) сторона, на которой лежит встречное исполнение (лизингодатель), вправе приостановить исполнение своего обязательства (по претерпеванию пользования имуществом со стороны лизингополучателя)253.
Входе совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности предполагается предусмотреть включение в договор права лизингодателя при существенном нарушении обязательств лизингополучателем-коммер- сантом ограничить последнего в использовании предмета лизинга до устранения нарушения, послужившего основанием для такого ограничения, в порядке, предусмотренном договором, в том числе с использованием технических средств остановки его эксплуатации или на основании заявления лизингодателя в уполномоченные органы254.
Вшироком смысле правомочие пользования включает не только возможность извлечения полезных свойств путем воздействия на вещь собственными усилиями, но также управление и извлечение дохода. Так, рассматривая одно из дел, ВС РФ установил, что правомочие пользования, являющееся правомочием собственника, предполагает извлечение полезных свойств вещи, которое может достигаться и за счет получения платы за пользование вещью другими лицами255.
251См.: п. 3 ст. 17 Закона о лизинге.
252См.: п. 4 ст. 17 Закона о лизинге.
253См.: п. 2 ст. 328 ГК РФ.
254См.: ст. 83314 проекта главы 431 ГК РФ.
255См.: определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 05.12.2017 № 47-КГ17-24.
109

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Между тем получение платы за пользование вещью другими лицами сильно связано с правомочием распоряжения, поэтому управление и извлечение дохода следует рассмотреть отдельно.
6. Управление
Правомочие управления включает возможность определять, как и кем будет использоваться вещь, и возможность совершать в отношении эксплуатации вещи разнообразные сделки256. Исходя из этого определения, данное правомочие включает возможности как минимум двух типов:
1)принимать решения в отношении того, кем используется вещь. В той мере, в какой управление (в этом аспекте) не приводит к выбытию вещи из сферы контроля должника, он может осуществлять это правомочие самостоятельно, без необходимости согласовывать такие решения с собственником (кредитором), за рядом исключений. В договоры часто включаются условия:
а) |
о необходимости согласования с кредитором (собственником) перемещения ак- |
|
тива (например, с одного предприятия, принадлежащего должнику, на другое). |
|
Данные правила обусловлены заинтересованностью кредитора в том, чтобы кон- |
|
тролировать актив, служащий обеспечением; |
б) |
об обязанности должника допускать к эксплуатации актива только лиц, имеющих |
|
необходимую квалификацию. Мотивом включения этого условия служит забота о |
|
сохранности имущества и поддержании его в надлежащем состоянии; |
2)совершать сделки, связанные с обеспечением должных условий эксплуатации вещи (техническое обслуживание, ремонт). Нередко и это правомочие должника ограничивается условиями договора с кредитором (собственником). Такие ограничения касаются выбора подрядчика (исполнителя), привлекаемого к выполнению работ (оказанию услуг) в отношении актива. Речь может идти о необходимости привлекать только организации, авторизованные производителем имущества, или как минимум согласовывать выбор с кредитором (собственником). Включение таких ограничений обусловлено необходимостью:
а) |
соблюдения требований сохранения гарантии качества имущества, предоставлен- |
|
ной продавцом257; |
б) |
следования правилам страхования имущества, особенно при замене страховой |
|
выплаты (страхового возмещения) организацией и (или) оплатой страховщиком |
|
в счет страхового возмещения ремонта поврежденного имущества258; |
256См.: Honoré A.M. Op. cit. P. 372.
257См.: п. 2 ст. 470 ГК РФ.
258См.: п. 4 ст. 10 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
110

|
Свободная трибуна |
в) |
поддержания уверенности кредитора (собственника) в том, что техническое об- |
|
служивание и ремонт актива, служащего обеспечением, выполняются лицами |
|
с должной квалификацией и репутацией. |
|
Возможность осуществления такой функции управления, как контроль, сохраня- |
|
ется в известной мере и за собственником. Последний имеет право осуществлять |
|
контроль за соблюдением лизингополучателем условий договора лизинга и других |
|
сопутствующих договоров, а лизингополучатель обязан обеспечить лизингодате- |
|
лю беспрепятственный доступ к финансовым документам и предмету лизинга259. |
|
Схожее правило (аналогичное регулированию залога260) предполагается закрепить |
|
и в ходе совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой де- |
|
ятельности — путем предоставления лизингодателю права проверять по докумен- |
|
там и фактически наличие, состояние и условия эксплуатации лизингового иму- |
|
щества, не создавая при этом неоправданных помех лизингополучателю261. |
|
Таким образом, часть «прутьев», относящихся к управлению имуществом, переда- |
|
ется должнику, тогда как другая их часть может использоваться только должником |
|
и кредитором (собственником) по соглашению между собой. |
|
Кроме того, управление включает допуск к эксплуатации актива третьих лиц (пе- |
|
редачу им актива в пользование), что сопряжено, с одной стороны, с распоряже- |
|
нием, а с другой — с извлечением дохода. |
7. Извлечение дохода
По общему правилу плоды, продукция, доходы, полученные в результате использования вещи, независимо от того, кто ее использует, принадлежат собственнику вещи. Иное может быть предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором или вытекать из существа отношений262.
Наиболее характерным примером, когда закон предусматривает иное, является правило об аренде: плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью263. В силу нынешней системы гражданского законодательства данная норма распространяется и на лизинг264.
259См.: ст. 37 Закона о лизинге.
260См.: п. 2 ст. 343 ГК РФ.
261См.: п. 2 ст. 8333 проекта главы 431 ГК РФ.
262См.: ст. 136 ГК РФ.
263См.: ч. 2 ст. 606 ГК РФ.
264См.: ст. 625 ГК РФ.
111

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Аналогичное решение предполагается закрепить и в ходе совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности265.
Исходя из экономического смысла конструкции титульного обеспечения, права на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использования должником вещи, принадлежащей кредитору, должны принадлежать должнику.
Вместе с тем право на «гражданские плоды», т.е. на доход от сдачи актива в пользование третьему лицу, производно от правомерности предоставления имущества в такое пользование. Передача вещи третьему лицу — это уже акт распоряжения ею, пусть и в ограниченном объеме.
Продолжение читайте в следующем номере
265 |
См.: п. 5 ст. 8333 проекта главы 431 ГК РФ. |
112

Реклама
Сборник включает в себя избранные труды академика Ю.К. Толстого по праву собственности и теории правоотношения. Среди них работы, уже давно ставшие классикой, по которым училось не одно поколение юристов, — «Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР» (1955 г.)
и «К теории правоотношения» (1959 г.). Работы в сборнике охватывают период с 1955 по 1998 год и подобраны так, чтобы можно было проследить за развитием взглядов Ю.К. Толстого, а через них и за ходом дискуссии
по проблемам права собственности и правоотношения в советской
и российской юридической литературе. Работы Ю.К. Толстого, безусловно, интересны и сейчас, так как посвящены проблемам гражданского права, которые будут актуальны всегда, независимо о изменения законодательства.
Две статьи профессора СПбГУ А.А. Иванова, открывающие сборник, содержат обзор и анализ теорий Ю.К. Толстого.
Цена 1200 рублей
Подробную информацию о книге читайте на сайте
www.igzakon.ru
По вопросам приобретения обращайтесь
по тел.: (495) 927-01-62, e-mail: post@igzakon.ru

ПО Д П И С К А
на I п о л у г о д и е 2 0 1 9 г о д а
Журнал распространяется по подписке и в розницу.
Подписку на журнал можно оформить
в любом отделении Почты России:
•подписной индекс 70040
вОбъединенном каталоге «Пресса России»,
вкаталоге Агентства «Роспечать»;
•подписной индекс П4314 в каталоге российской прессы «Почта России»
через редакцию:
стоимость одного номера — 900 руб.;
стоимость подписки
на I полугодие 2019 г. — 4800 руб.
Более подробную информацию об условиях подписки можно получить в редакции
по тел.: (495) 927-01-62
Главный редактор: А.Г. Карапетов
(karapetov@igzakon.ru)
Распространение: Ринат Якупов (rinat@igzakon.ru)
post@igzakon.ru
www.igzakon.ru
Наш адрес:
121165, г. Москва, а/я 38
Тел.: (495) 927-01-62
Реклама
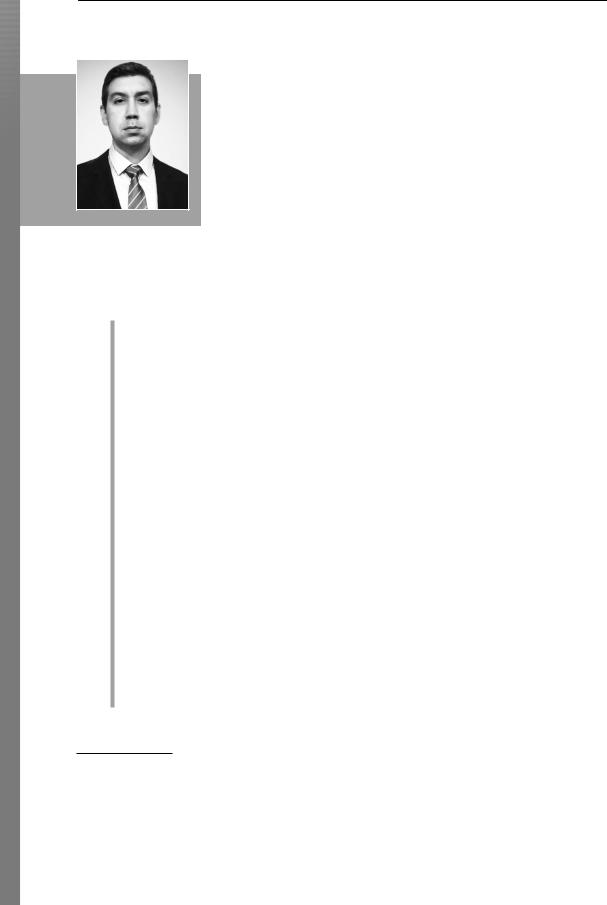
Свободная трибуна
Радик Рашитович Лугманов
юрист, аспирант юридического факультета СПбГУ
Деликтное право как средство взыскания чисто экономических убытков1
Автор статьи акцентирует внимание на так называемых чисто экономических убытках (purely ecomonomic losses), т.е. убытках, которые возникают в результате поведения другого лица, но не как следствие причинения физического вреда вещам или здоровью потерпевшего. Выдвигается и обосновывается очень важный тезис, что человеческая деятельность принципиально является вредоносной, однако из этого не следует, что любое поведение, причиняющее вред, заслуживает порицания. Автор ставит вопрос о пределах деликтной ответственности и обращает внимание на ситуацию, когда убытки служат не свидетельством нарушения какого-либо права (абсолютного или относительного), а признаком умаления известного интереса, не всегда облекаемого в форму субъективного права.
Компаративный обзор французского, германского и английского правопорядков показал значительное различие в подходах к допустимости взыскания чисто экономических убытков.
Автор обосновывает, что, несмотря на формулировку ст. 1064 ГК РФ, возможность взыскания чисто экономических убытков находится под вопросом из-за критически важных проблем общепризнанного понимания и применения таких элементов деликтной ответственности, как вред, имущество, противоправность и вина. В статье указывается, что понимание принципа генерального деликта в российском правопорядке не совпадает с эталонным пониманием данного принципа во французском правопорядке и плохо совместимо с возможностью взыскания чисто экономических убытков.
Наконец, автор статьи предлагает сместить акценты в решении вопроса возмещения потерь с нарушения субъективного права на охраняемый законом интерес, а также выдвигает ряд политико-правовых критериев, которые необходимо учитывать при обосновании взыскания указанных потерь.
Ключевые слова: чисто экономические убытки, деликтное право, генеральный деликт
1Выражаю благодарность доктору юридических наук, профессору кафедры гражданского права СПбГУ А.Д. Рудоквасу и доктору юридических наук, директору Юридического института «М-Логос», профессору Высшей школы экономики А.Г. Карапетову за ценные советы, замечания и предоставленную литературу.
115

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Radik Lugmanov
Lawyer, PhD Student at the Saint Petersburg State University
Tort Law as a Means of Recovering Purely Economic Losses
The author of the article focuses on so-called «purely economic losses». These are losses that arise from the behavior of another person, but not as a result of causing physical harm to the victim’s health or to things. It is argued and substantiated that human activities are fundamentally harmful. However, it does not follow from this that any conduct that causes damage deserves censure. The author raises the question of the limits of tort liability and focuses on the situation when losses are not evidence of a violation of a right (absolute or relative), but a sign of impairment of a certain interest that is not always expressed in the form of a subjective right.
A comparative review of French, German, and English law showed a significant difference in the approaches to acceptable indicators for recovering purely economic losses.
The author demonstrates that despite the wording of Art. 1064 of the Civil Code of the Russian Federation, the possibility of recovering purely economic losses is questionable due to the critical problems of the generally accepted understanding and application of such elements of tort liability as harm, property, wrongfulness, and guilt. The article states that the understanding of the principle of general tort in Russian law does not coincide with the reference understanding of this principle in French legal order. The domestic understanding of this principle is not very compatible with the possibility of recovering purely economic losses.
Finally, the author of the article proposes shifting the focus in deciding the issue of compensation for losses from a violation of the subjective right to an interest protected by law, and also puts forward a number of political and legal criteria that must be considered when justifying the recovery of these losses.
Keywords: рurely economic losses, tort law, general tort
Свобода состоит в том, чтобы иметь возможность делать всё, что не причиняет вреда другим…
Статья 4 французской Декларации прав человека и гражданина от 26.08.1789
Недавние события, произошедшие в практике арбитражных судов, являются настолько же привлекательными в своей новизне, насколько и опасными в непредсказуемости своего дальнейшего развития. Возможно, так называемые дела «Бомарше»2, «Магадан-тест»3 и новое «кабельное» дело4 до сих пор остались незамеченными большинством юристов, которые не следят за современными цивилистическими дискуссиями на соответствующих информационных площадках. Однако возникает ощущение, что в судебной практике происходит своеобразное тестирование самой возможности решения подобных дел.
Первые два дела при всем различии в своих конкретных обстоятельствах имеют вполне очевидные общие признаки, а именно: в каждом случае потерпевший (ис-
2См.: определение ВС РФ от 22.05.2017 № 303-ЭС16-19319.
3См.: определение ВС РФ от 11.05.2018 № 306-ЭС17-18368.
4См.: определение ВС РФ от 17.07.2018 № 4-КГ18-44.
116

Свободная трибуна
тец по делу) не смог взыскать убытки со своего договорного контрагента и обратился с прямым иском к третьему лицу, в результате поведения которого в первом случае потерпевший не смог получить актив в собственность, а во втором не смог использовать актив по назначению. В третьем деле истец был отключен от объектов электросети третьим лицом, в то время как у истца имелись договор о присоединении к электрическим сетям и договор энергоснабжения. В каждом из трех названных дел между истцом и ответчиком отсутствовала договорная связь, потери истца носили чисто экономический характер, не связанный с физическим повреждением имущества. При этом возможность привлечения к ответственности третьего лица за такого рода экономические потери традиционно вызывает жаркие споры в отечественном деликтном праве, которое в целом весьма отрицательно относится к подобной категории дел.
Конечно, на основании трех резонансных дел говорить о некоем тренде пока слишком рано, для этого нет никаких предпосылок. Практически отсутствует отечественная доктрина в соответствующей области деликтного права. В результате это приводит к появлению случайных и весьма противоречивых кейсов5. Учитывая данное обстоятельство, вызывает неподдельное удивление сам факт появления судебных решений, похожих на указанные выше. Но практика не может развиваться предсказуемо, если в ее основании нет достаточных теоретических исследований, объясняющих нарождающиеся изменения. Роль доктринальных исследований в этом смысле заключается в том, чтобы создать теоретическую базу для последующей правоприменительной практики, внося правовую определенность в решение однотипных казусов и мешая попыткам изменения практики под влиянием ситуативных тенденций.
Настоящая статья носит обзорный характер и направлена на то, чтобы показать исключительную сложность решения той проблемы, которая объединяет перечисленные выше кейсы. Мы считаем, что абсолютно неконструктивно пытаться решать такие и похожие споры ad hoc, не обращая внимания на общность проблемного поля, лежащего в их основании. Более того, совершенно бессмысленно решать их каким-то особенным сугубо национальным способом, прежде не изучив доктрину и практику иностранных правопорядков. Нельзя восторженно приветствовать приобщение к европейским цивилистическим традициям, не изучив их и не поняв, что сами европейцы порой очень настороженно относятся к соответствующей категории дел. Таким образом, прежде чем решать подобные кейсы, доктрина должна ответить на главный вопрос: каковы убедительные политико-правовые причины для того, чтобы допустить в нашем правопорядке защиту соответствующих интересов?6 Это потребует широкой научной дискуссии и глубоких исследований. Мы же поставим себе более скромную цель: кратко осветить некоторые подходы, которые имеются в основных европейских правопорядках в отношении
5См.: определение ВС РФ от 05.06.2018 № 59-КГ18-5.
6Выражаясь более точным языком, речь идет о так называемых чисто экономических потерях (purely economic losses), под которыми понимается финансовый ущерб, не являющийся следствием физического увечья (повреждения) лица или его имущества. Подробнее см.: Koziol Н. Recovery for economic loss in the European Union // Arizona Law Review. 2006. Vol. 48 № 4. P. 872; Faure M. Tort law and Economics. Cheltenham, 2009. P. 201. О некоторой условности этого термина и своего рода противоречии социаль- но-экономической действительности см. также: Bussani M., Palmer V., eds. Pure Economic Loss in Europe. Cambridge, 2003. P. 5–6.
117

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
защиты инструментами деликтного права экономических интересов, не связанных с нарушением абсолютных прав, а также критически посмотреть на возможность использования отечественного деликтного права при решении подобных кейсов.
Пределы деликтной ответственности
Для начала сделаем довольно смелое заявление, которое поможет нам лучше представить глубину изучаемой проблемы: человеческая деятельность потенциально предрасположена к тому, чтобы быть вредоносной7.
Данный тезис кому-то покажется слишком наивным и не соответствующим действительности, а кому-то, наоборот, вполне очевидным. Однако в обоих случаях масштабы проблемы будут недооценены, если мы не обладаем хотя бы базовыми навыками экономического мышления.
Экономистам должно быть известно, что люди, как правило, совершают те действия, которые, по их мнению, принесут им наибольшую чистую выгоду (net advantage)8. Это обычно означает, что каждый человек, во-первых, интересуется исключительно собственными интересами, а во-вторых, скорее совершит то или иное действие, если положительная разница между ожидаемыми выгодами и ожидаемыми издержками будет максимальна. Причем это абсолютно справедливо для любой человеческой деятельности, а не только сугубо экономической.
Что же дают нам эти базовые экономические наблюдения? Они раскрывают предпосылки человеческой деятельности, позволяют осознать, что в погоне за удовлетворением собственных интересов человек всегда потенциально способен причинить вред окружающим лицам, имеющим с ним конкурирующие интересы либо не имеющим таковые, но волей случая попавшим в сферу влияния такой потенциально вредоносной деятельности. Если человек и может учитывать возможность причинения вреда окружающим, то, как правило, этот вопрос не является для него первостепенно важным, оказывающим ключевое влияние на принятие того или иного решения. Если такой вопрос и рассматривается, то лишь с позиции ожидаемых издержек, связанных, например, с вероятным значением возмещаемых убытков пострадавшему. Пока ожидаемая выгода от того или иного вида поведения человека выше, чем ожидаемые издержки, вероятность соответствующего поведения весьма высока.
Однако нужно сразу оговориться, что данные негативные имущественные последствия не следует считать однозначно аномальными и заслуживающими общественного порицания. Негативные последствия в имущественной сфере одних лиц из-за экономической деятельности других лиц являются обратной стороной или, иначе говоря, побочным продуктом функционирования рыночной экономики,
7Здесь и далее нас интересуют только имущественные последствия экономической деятельности человека.
8См.: Хейне П. Экономический образ мышления / пер. с англ. М., 1997. С. 23.
118

9
10
Свободная трибуна
построенной на механизме саморегуляции посредством стремления к удовлетворению собственных интересов и приспособления к открывающимся возможностям. В такой системе всегда кто-то выигрывает, а кто-то несет потери. В этом смысле было бы неверно и даже вредно для функционирования рыночной экономики говорить, что любые имущественные потери потерпевшего, вызванные поведением третьего лица, должны быть принципиально возмещаемыми. В Англии данный аргумент был озвучен следующим образом: «Философия рынка предполагает, что законно получаемая прибыль вызывает у других экономические потери. Сложилось понимание того, что экономические потери в руках других — это то, что мы должны принять без юридического возмещения, если только это не вызвано каким-то определенно запрещенным поведением, таким как мошенничество или принуждение»9.
Соответственно, как это ни парадоксально может показаться на первый взгляд, возникает вопрос о пределах упречности того или иного вредоносного поведения, поскольку поспешное заявление о том, что любой вред в любой ситуации подлежит возмещению, не является ни очевидным, ни необходимым. Каждый из нас в каждую единицу времени находится в большом количестве относительных и в немыслимо огромном количестве абсолютных связей по поводу бесчисленного множества различных благ. Удовлетворение тех или иных интересов конкретного лица производит эффект брошенного в воду камня, круги волн от которого расходятся в стороны, затрагивая прямо или косвенно интересы других лиц, о существовании которых порой сложно даже догадываться. Соответственно, можно смоделировать безграничное множество ситуаций, в которых у потерпевшего возникнут различные негативные последствия, однако степень упречности поведения причинителя вреда будет разниться от случая к случаю.
Тогда, когда такого рода вредоносная экономическая деятельность нарушает то или иное легальное правило, сомнения в допустимости возмещения вреда даже не возникают. Например, компенсация экономических потерь, вызванных нарушением договора, не вызывает в нашем случае значительного интереса. Важнейший принцип гражданского права pacta sunt servanda лежит в основе нормативного требования надлежащего исполнения обязательств, позитивно влияющего на снижение трансакционных издержек и повышение всеобщего благосостояния. Соответственно, вполне логично, что в большинстве европейских правовых систем допускается практически неограниченная ответственность нарушителя договора за экономические потери, понесенные другой стороной10. К тому же в этом случае очевидно, что нет рисков, связанных с проблемой «прорыва плотины», так как нет опасности, что ответственность может быть возложена на ответчика со стороны огромного и заранее неизвестного количества потерпевших. Данному обстоятельству способствует и сама догматическая конструкция обязательства, нарушить которое, строго говоря, может лишь заранее известное лицо — контрагент по договору. Плюс ко всему экономический интерес каждой стороны договора обычно потенциально предсказуем. Однако в договорных отношениях видна сильная зависимость кредитора от поведения должника, уязвимость и простота нарушения
Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 21.
См.: Koziol Н. Recovery for economic loss in the European Union. P. 878.
119

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
интереса кредитора. Без достаточно мощных способов защиты его экономических интересов договорные обязательства стали бы невероятно рискованными.
Становится понятно, почему признается обоснованным, например, существование подразумеваемых обязанностей duties of care, которые, вопреки иногда встречающимся поспешным суждениям, не сдерживают свободу конкуренции и торговли, но лишь обозначают пределы свободы преследования собственных экономических интересов одной стороной контракта, запрещая ставить под угрозу деловые интересы другой стороны11. Более того, как правило, не вызывает сомнения, что стороны будущего договора должны проявлять особую заботу об интересах друг друга и до его заключения. Нарушение таких подразумеваемых обязанностей влечет ответственность на основе culpa in contrahendo12.
Однако ситуация с возмещением экономических потерь заметно усложняется, если между причинителем вреда и потерпевшим отсутствует какая-либо явно выраженная связь. Как понять, что лицо причинило вред другому лицу и что этот вред должен возмещаться?
Применительно к отечественному правопорядку данная проблема вроде бы может быть решена путем применения нормы ст. 1064 ГК РФ, которая гласит, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Но что мы понимаем, например, под имуществом? Когда речь идет о причинении физического вреда вещам пострадавшего или его здоровью, вопросов не возникает. Нормативное регулирование Кодекса и наши глубинные представления о коррективной справедливости подскажут, что данный вред должен быть возмещен. А как быть, если поведение того или иного лица не причинило подобный вред, но спровоцировало иным образом чисто финансовые потери (заставило потратить средства, которые пострадавший бы не потратил в иных условиях, лишило выгоды, на которую он рассчитывал)? Это ситуации, когда убытки возникают в результате поведения другого лица, но не как следствие причинения физического вреда вещам или здоровью потерпевшего. Здесь принято говорить о чистых экономических убытках. При этом важно отметить, что слово «чистый» играет центральную роль, поскольку если возникают экономические потери, связанные с малейшим ущербом для здоровья или вещей лица либо для иных абсолютных прав (при условии соблюдения всех других условий ответственности), то они называются косвенными экономическими потерями, которые могут быть возмещены без каких-либо вопросов13.
11См. функциональные аналоги в континентальном праве, например: п. 3 ст. 307 ГК РФ, § 241 (2) ГГУ.
12В случае английского права и в условиях действия принципа caveat emptor не стоит говорить о ка- кой-либо преддоговорной заботе, но можно вести речь о нарушении заверений об обстоятельствах (representations), если таковые были даны и причинили экономический вред потерпевшему. Подробнее см.: Рудоквас А.Д. Некоторые проблемы применения ст. 431.2 ГК РФ в связи с принципом добросовестности // Вестник гражданского права. 2017. № 2. 2017 С. 31–47; Он же. Нарушение обязанностей информирования: преддоговорная ответственность, заверения и гарантии возмещения потерь // Вестник экономического правосудия РФ. 2016. № 11 С. 62–83.
13См.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 55.
120

Свободная трибуна
Многообразие человеческих интересов, далеко выходящих за рамки привычных представлений об объектах абсолютных прав, дает повод говорить, что такого рода интересы заслуживают учета и при определенных обстоятельствах — защиты от негативного влияния третьих лиц. А если прибавить к этому проблему потенциальной вредоносности любой экономической деятельности любого рационально устроенного человека, то возникает вопрос о пределах ответственности причинителя вреда за посягательство на те или иные интересы потерпевшего.
Посмотрим на некоторые типичные ситуации причинения имущественного вреда, связанного с чисто экономическими потерями потерпевшего, и попробуем представить, насколько многообразными могут быть ситуации, в которых нужно решать вопросы о допустимости возмещения вреда и его пределах.
1. Финансовые потери в результате конкурентной борьбы
Например, гражданин владеет небольшой хозяйственной лавкой-мастерской, которая является для его семьи единственным источником дохода. Рядом открывается гипермаркет известной сети, в результате чего гражданин теряет покупателей, терпит убытки и в конечном итоге разоряется. Или в небольшой региональный город заходит крупный ритейлер. Политика компании предусматривает агрессивный захват новых рынков, вследствие чего сеть демпингует цены на основные продуктовые позиции, в течение года работая практически с нулевой рентабельностью. Местные магазины не выдерживают агрессивной конкуренции, терпят убытки и закрываются.
2. Тщетные преддоговорные расходы
Два лица вступили в переговоры по поводу купли-продажи земельного участка. На определенном этапе покупатель выдвинул условие, что заключит договор только в том случае, если земельный участок будет очищен от всех построек и сооружений. Продавец выполнил требование покупателя, однако тот в последний момент отказывается как от заключения договора, так и от ведения дальнейших переговоров. Продавец терпит убытки. Либо та же ситуация, только покупатель после выхода из переговоров с продавцом, который выполнил его условие, заключил договор о покупке соседнего участка с другим продавцом, который, зная о том, что покупатель ведет переговоры с конкурентом, предложил лучшую цену.
3. Вмешательство в чужие договорные отношения
На стадии исполнения договора третье лицо угрозами, уговорами или иным образом спровоцировало нарушение договора. Например, некто узнал о продаже ценного для него актива третьему лицу. Договор еще не был исполнен, а потому этот человек вступил в переговоры с продавцом и убедил продать ему тот же самый объект по более высокой цене. Продавец согласился нарушить уже имеющийся договор, заключил новый, тут же исполнил его, передав актив новому покупателю,
121

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
а затем впал в банкротство. Потери первого покупателя носят чисто экономический характер.
4. Действия контрактного должника в интересах третьего лица
Например, заказчик вступил в договор с подрядчиком по поводу ремонта объекта. Подрядчик привлек субподрядчика, который выполнил работу плохо. Подрядчик впал в банкротство, заказчик вынужден был понести дополнительные расходы на устранение недостатков в работе посредством усилий сторонних лиц. Никаких договорных отношений между заказчиком и субподрядчиком нет, заказчик терпит чисто экономические убытки. Или, например, лицо А пожелало, чтобы лицо Б унаследовало по завещанию бóльшую часть его имущества. Однако нотариус составил завещание с неустранимыми ошибками, что привело к его недействительности. Наследник по завещанию не получил имущество, на которое он мог рассчитывать в случае, если бы нотариус исполнил свои обязанности надлежащим образом. Его потери носят чисто экономический характер.
5. Закрытие объектов инфраструктуры
Например, в автомобильном туннеле произошла крупная авария, которая привела к полному закрытию движения на данном участке. Многие машины оказались запертыми внутри на несколько часов. Ряд машин выполнял коммерческие рейсы, задержка совершения которых привела к убыткам. Поскольку имуществу самих владельцев запертых машин не был причинен вред, убытки от задержки доставки грузов носят чисто экономический характер.
6.Предоставление недостоверной информации посредством публикации данных аудиторской проверки, оценки и советов экспертов, а также неверных рекомендаций различного рода профессионалов
Кпримеру, некто полагается на информацию, полученную от лица, чей профессиональный статус внушает доверие, но с которым он не состоит в договорных отношениях. При этом полученная информация не соответствует действительности и лицо, положившееся на такую информацию, совершает действия, которые приводят к чисто экономическим убыткам.
7.Действия делинквента, вызывающие перенесенный убыток
Подобные ситуации возникают, например, в случае причинения вреда имуществу одного лица, риск гибели или повреждения которого несет другое лицо. Несмотря на то, что вред причиняется чужому имуществу, указанное лицо несет чисто экономические убытки, которые как бы перенесены на его сторону.
Допустим, причиняется вред имуществу, переданному в аренду. Очевидно, что страдает право собственности арендодателя. Однако по условиям договора аренды
122

Свободная трибуна
риск случайной гибели или повреждения арендованного имущества был перенесен на сторону арендатора. Как следствие, убытки арендатора носят чисто экономический характер.
8. Действия делинквента, вызывающие рикошетные убытки
Жизни или здоровью потерпевшего или его имуществу причиняется вред, риск возникновения которого остается на самом потерпевшем. Но в силу многообразия общественных связей третье лицо терпит чисто экономические убытки, вызванные причинением вреда личности или имуществу другого лица. Например, лидер хоккейной команды пострадал в результате ДТП, что лишило его возможности выступать в чемпионате. Владелец команды пострадавшего игрока терпит чисто экономические убытки. Также можно вспомнить знаменитые «кабельные» дела, в которых вред причиняется линейным объектам ресурсоснабжающих организаций, в результате чего в той или иной степени останавливается работа конечного потребителя, который в данном случае терпит чисто экономические убытки.
Отнесение тех или иных примеров к соответствующим группам типичных ситуаций носит порой весьма условный характер, и указанные случаи, конечно же, не охватывают все возможные типы ситуаций возникновения чисто экономических убытков, но наглядно показывают, что в основании возникновения таких убытков лежит необычайно тесная связь интересов причинителя вреда и потерпевшего, которые при этом могут не состоять друг с другом в каких-либо отношениях, а нарушенные интересы могут быть не связанными с тем или иным охраняемым абсолютным правом.
Конкретные настройки института возмещения вреда призваны очертить границу защиты частного интереса, за пределами которой те или иные потери потерпевшего остаются исключительно в его частной сфере. Как мы увидим в следующей части нашей работы, данная граница не представляет собой нечто незыблемое, раз и на всегда предопределенное даже в рамках одного и того же правопорядка. Пределы, основания и условия возмещения чисто экономических потерь разнятся, что будет наглядно показано на примере трех основных европейских правопорядков: французского, немецкого и английского.
Компаративный обзор
Франция
Французская модель возмещения вреда является признанным эталоном действия принципа генерального деликта. Общая формула «не причинять никому вреда» лежит в основе французской деликтной ответственности. Статья 1240 (1382 в старой редакции) Французского гражданского кодекса (ФГК) гласит, что любое виновное действие человека, причиняющее другому вред, обязывает лицо, виновное в его причинении, этот вред возместить. Статья 1241 (1383 в старой редакции) устанавливает, что каждый несет ответственность за ущерб, причиненный им не только
123

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
в результате его действий, но и в результате небрежности или неосторожности14. Стоит заметить, что российскому читателю может показаться странным само существование ст. 1241 (1383) ФГК, поскольку в предыдущей статье речь идет о виновности, формой которой является в том числе и неосторожность. Как следствие, возникает ощущение, что эта статья лишняя.
Если обратиться к специальной литературе, то можно увидеть, что, например, известный французский ученый Потье (Pothier) делил упречные действия на деликтные (délits) и квазиделиктные (quasi-délits). Воззрения Потье оказали сильное влияние на ФГК, в котором были помещены в одном разделе («Деликты и квазиделикты») все нормы деликтного права15. Соответственно, во время составления ФГК под деликтами понимались обязательства, основанные на умысле, а под квазиделиктами — обязательства, основанные на неосторожности. Но, как отмечается в современной литературе, теперь нет никакого смысла поддерживать различие между двумя формами вины, если такое деление уже не имеет практического значения16. Иногда отмечается, что ст. 1240 (1382) и 1241 (1383) не имеют исключительной области применения, первая статья поглотила вторую17. В этом смысле возникает вопрос: почему при реформировании ФГК в 2016 г. не была исключена одна из указанных норм, а изменения в Кодексе носили в большей степени косметический характер? Помимо того факта, что существуют несколько конкурирующих проектов изменения ФГК (Catala, Terre, Grerca и др.), следует отметить и своего рода консервативный, бережный подход французских юристов к тексту Кодекса. Нормы принято не менять, а толковать иначе, вкладывая новый смысл в прежние слова сообразно требованиям времени.
Говоря о понятии fault в ст. 1382 ФГК, следует отметить, что его традиционно переводят как «вина». Правда, в этом случае мы сталкиваемся с отечественным обыденным пониманием вины, уходящим корнями в уголовно-правовую традицию. При таком подходе подобный перевод будет давать некорректный результат. Понятие fault любопытно уже тем, что включает в себя и понятие «противоправность», которое со временем менялось и может включать, например, как нарушение какого-то закона, так и нарушение некой неписаной обязанности (не путать с duty of care). Таким образом, следует признать, что ст. 1382 ФГК не совсем про вину в отечественном понимании. Если же мы и находим причину говорить о вине, то, безусловно, не в уголовно-правовом смысле (умысел или неосторожность), а в смысле нарушения требований заботливости и осмотрительности (абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ). Что же касается ст. 1383 ФГК (особенно на фоне ст. 1382), то на современном этапе развития лучше вести речь не о делении вины на умысел и не-
14См.: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/JUSC1522466R/jo/texte.
15См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. Т. 2. М., 1998. С. 388; Пляниоль М. Курс французского гражданского права. Ч. 1: Теория об обязательствах / пер. с фр. Петроков, 1911. С. 271, 274.
16Традиционно намерение имеет значение в уголовном праве. Что касается права гражданского, то форма вины важна только в страховом деле, так как наличие умысла исключает выплату застрахованному лицу. См. также: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 344–345 (Case 11: a maestro’s mistake).
17См.: Dam C., van. European Tort Law. 2nd ed. Oxford, 2013. P. 56–57.
124

Свободная трибуна
осторожность, а лишь о том, что вред может быть причинен не только действиями делинквента, но и его бездействием.
Принцип neminem laedere в ФГК означает, что защищаются любые интересы потерпевшего, и вред нужно возмещать в любом случае его виновного причинения18. Таким образом, запрет на причинение вреда — это общее правило, а случаи, в которых можно нанести вред, являются редкими исключениями19. Ключевой особенностью французского деликтного права выступает отсутствие четко выраженных ограничений на объем или характер охраняемых прав и интересов, что сильно отличает данный правопорядок, например, от немецкого деликтного права. Французским юристам попросту нет необходимости выдумывать сложные квазидоговорные конструкции возмещения вреда, поскольку вопрос чисто экономических потерь в принципе решается путем внедоговорной ответственности20. Все сказанное приводит к тому, что даже использование термина «чисто экономические убытки» (purely economic lose) применительно к французскому деликтному праву будет не совсем корректным, поскольку данная категория деликтов специально не выделяется21.
Можно предположить, что такой подход потенциально должен создавать угрозу нормальному экономическому обороту, однако, как отмечается в специальных источниках, этого не происходит не только из-за довольно развитого страхового дела22. Не будет ошибкой указать также на то обстоятельство, что французские суды имеют и свои специфические способы ограничения взыскания чисто экономических убытков. Например, считается, что подлежит возмещению только такой ущерб, который был причинен юридически защищенному интересу (intérêt juridiquement protégé), достоверно установлен (certain) и к тому же был прямым следствием действий ответчика (une suite immédiate et directe)23. Последнее условие является действенным средством ограничения необоснованных или чрезмер-
18См.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 127.
19Ibid. Р. 128.
20Ibid. P. 172 (Case 1: cable I — the blackout); р. 192 (Case 2: cable II — the factory shutdown); р. 208–209 (Case 3: cable III — the day-to-day workers); р. 241–242 (Case 5: requiem for an Italian all star); р. 255–256 (Case 6: the infected cow); р. 271–272 (Case 7: the careless architect); р. 291–292 (Case 8: the cancelled cruise);
р.328 (Case 10: the dutiful wife); р. 362–363 (Case 12: double sale); р. 385–386 (Case 13: subcontractor’s liability); р. 403 (Case 14: poor legal services); р. 418–420 (Case 15: a closed motorway — the value of time);
р.435–436 (Case 16: truck blocking entrance to business premises); р. 453–456 (Case 17: auditor’s liability);
р.473–474 (Case 18: wrongful job reference); р. 488–489 (Case 19: breach of promise); р. 507 (Case 20: an anonymous telephone call).
21См.: Pure Economic Loss / еd. by W.H. van Boom, H. Koziol, Ch.A. Witting. Wien — New York, 2004. P. 3; Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 390; Туктаров Ю.Е. Чисто экономические убытки. С. 1 (приводится по СПС «КонсультантПлюс»).
22Выделяются и другие меры, которые носят компенсационный характер и конкурируют с деликтным способом защиты. Например, помимо развитого страхового дела можно упомянуть различные компенсационные фонды и разнообразные меры социальной помощи. Подробнее см.: Егорова М.А., Крылов В.Г., Романов А.К. Деликтные обязательства и деликтная ответственность в английском, немецком и французском праве: учеб. пособие. М., 2017. С. 189.
23См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 403–404.
125

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
ных требований в руках французского суда24. Как следствие, у суда открываются широкие возможности отказывать в удовлетворении деликтных исков по своему усмотрению в необходимых случаях, а что касается так называемой проблемы «прорыва плотины» (Floodgates), то она даже не обсуждается во французской литературе25.
Формально необходимыми элементами деликтной ответственности являются вина (faute)26, вред (dommage) и причинно-следственная связь (lien de causalité) между виновным поведением делинквента и вредом потерпевшего27. Все перечисленные элементы доказываются истцом28. Причем, как увидим позже применительно к английскому деликтному праву, во Франции истец не должен доказывать, что на стороне ответчика была специальная обязанность проявления заботливости (duty of care). В этом смысле пределы упречного поведения ответчика можно толковать достаточно широко, используя различные стандарты поведения, например главы хорошего семейства (le bon père de famille), справедливого и осторожного человека (l’homme droit et avisé) или хорошего профессионала (le bon professionnel)29.
Таким образом, во Франции применяется самый либеральный подход к возмещению чисто экономических убытков, контроль за случаями и объемом взыскания которых полностью отдан на откуп судебной системе.
Германия
Если мы посмотрим на Германию, то обнаружим, что возможность защиты чисто экономических интересов, не связанных с физическим ущербом, имеет существенные особенности. Изначально на рубеже XIX–XX вв. разработчики Германского гражданского уложения (ГГУ) рассматривали вариант имплементации французского принципа генерального деликта. Однако в итоге был принят смешанный вариант модели деликтной ответственности, причем не только по причине опасений в безграничности потенциальной ответственности делинквента30, но по иным не менее важным причинам31. В этом смысле как нельзя вовремя вспоминаются
24См.: Koziol Н. Basic Questions of Tort Law from a Comparative Perspective. Wien, 2015. P. 75.
25Ibid. P. 76
26Во Франции нет четкого различия между понятиями «вина» и «противоправность», см.: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 392.
27См.: Dam C., van. Op. cit. P. 105.
28Из этого правила есть исключения, например, применительно к возмещению вреда, причиненного недостатками товаров (ст. 1245-8 ФГК).
29См.: Dam C., van. Op. cit. P. 57.
30Ibid. P. 78.
31Более высокая юридическая техника, объединение Германии и создание истинно немецкого единого гражданского права, нежелание увеличивать нагрузку на судебную систему и другие причины. См.: Markesinis B., Unberath H. The German law of torts. A comparative treatise. Oxford, 2002. P. 25; Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 363.
126

Свободная трибуна
слова Р. Иеринга о тех рисках, которые возникли бы, если бы все отвечали, например, за небрежное высказывание или ложные советы или рекомендации: «Одно неосторожное замечание, подхваченный слух, ложное сообщение, дурной совет, необдуманное решение, рекомендация недостойной служанки ее бывшими хозяевами, ответ на вопрос прохожего об адресе или времени и т.д. — словом, все это при наличии грубой неосторожности повлечет за собой обязанность возместить причиненный ущерб, даже если действия причинившего носили добросовестный характер»32.
Начнем с двух ключевых для нас параграфов ГГУ: § 823 (I), (II) и § 826.
§ 823 ГГУ гласит:
«(I) Лицо, которое умышленно или по неосторожности противоправно причинит вред жизни или здоровью, посягнет на свободу, собственность или иное право другого лица, обязано возместить потерпевшему причиненный вред.
(II) Эта обязанность возникает также у лица, которое нарушит закон, направленный на защиту другого лица. Если в соответствии с содержанием такого закона его нарушение возможно и при отсутствии вины, то обязанность возмещения вреда возникает только при наличии вины».
Сравним его с § 826, согласно которому лицо, которое умышленно причинит другому лицу вред способом, противоречащим добрым нравам, обязано возместить причиненный вред.
По сравнению с § 826, § 823 (I) ГГУ является одновременно и шире, и уже. В объективном смысле он является более узким, поскольку возмещению подлежит не всякий вред. Защита предоставляется только тем правам, которые указаны в законе: право на жизнь и здоровье, свободу, собственность или другое абсолютное право33. В этом плане § 826 не имеет таких ограничений. Вместе с тем § 823 (I) в субъективном смысле шире, чем § 826, потому что виновное поведение делинквента включает в себя не только умысел, но и неосторожность, в то время как § 826 ограничен только преднамеренными действиями, которые к тому же должны быть contra bonos mores (против добрых нравов)34.
На основе легальных формулировок Уложения можно определить условия привлечения к деликтной ответственности: 1) противоправность (Rechtswidrigkeit); 2) вина (Verschulden); 3) причинно-следственная связь между вредом и противоправным поведением делинквента (Kausalität); 4) ущерб (Schaden).
Нарушение указанных прав означает, что поведение лица незаконно. Однако противоправность поведения может быть опровергнута, если для этого имеются
32Цит. по: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 362.
33См.: Markesinis B., Unberath H. The German law of torts. P. 25; Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 43; Pure Economic Loss. P. 7. См. также: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 466–468 (Case 17: auditor’s liability).
34См.: Dam C., van. Op. cit. P. 211.
127

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
необходимые основания — например, самооборона (§ 227 ГГУ), крайняя необходимость (§ 228 ГГУ) и т.п.35
Среди абсолютных прав, которые защищаются § 823 (I) ГГУ, можно обнаружить право собственности, а также «иное право». При этом нарушение права собственности в Германии понимается достаточно широко.
Во-первых, несмотря на то, что законодатель, формулируя § 823 (I), стремился сузить сферу его действия и не допустить его применение для целей взыскания чисто экономического ущерба, § 903 ГГУ позволяет собственнику вещи устранить любое воздействие на нее со стороны других лиц. Причем такое воздействие может быть не только физическим, но и весьма опосредованным (например, некое лицо создает ситуацию невозможности пользования вещью по назначению, что, помимо прочего, снижает ее стоимость). Часто встречающийся классический кейс описывает ситуацию запертого в порту судна, которое в результате наличия физических препятствий на воде, созданных третьим лицом, не может выйти наружу в течение определенного времени (Fleet Case)36. В этом и других подобных кейсах всегда возникает вопрос о том, в каких случаях и при каких условиях негативное влияние на возможность пользования вещью без ее физического повреждения является нарушением права собственности по смыслу § 823 (I) ГГУ37. Единого ответа в судебной практике мы не найдем. В такого рода делах проблема «прорыва плотины» может возникнуть, а может и нет. Тем не менее суд всякий раз будет исследовать степень снижения возможности использования имущества по назначению и время ограничения данного пользования в целях квалификации того или иного негативного влияния в качестве нарушения права собственности. И только если лишение пользования вещью было полным38 и достаточно долгим39, требование потерпевшего о компенсации чисто экономических убытков может быть удовлетворено.
Во-вторых, есть и другая возможность смягчить строгие формулировки Уложения. Если кто-то нарушает какое-либо из защищаемых абсолютных прав, то нарушитель обязан возместить весь последующий экономический вред от этого нарушения, при условии, что существует достаточная причинно-следственная связь между нарушением и вредом40. В контексте изложенного вызывает интерес проблема взыскания убытков в так называемых кабельных делах. Повреждение кабеля, из-за которого компания не могла работать некоторое время, само по себе не дает права
35См.: Ranieri F. Europäisches Obligationenrecht Ein Handbuch mit Texten und Materialien. Wien — New York, 2009. P. 1428.
36См.: BGH. 21.12.1970 — II ZR 133/68. См. также: BGHZ 137, 90 = BGH NJW 1998, 377; BGH. 21.06.2016 — VI ZR 403/14. Обратную ситуацию см.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 427–429 (Case 15: a closed motorway — the value of time); р. 447–448 (Case 16: truck blocking entrance to business premises).
37См.: BGH. 21.06.1977 — VI ZR 58/76.
38См.: BGH. 21.12.1970 — II ZR 133/68.
39См.: BGH. 11.01.2005 — VI ZR 34/04.
40См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 365. См. также: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 321–322 (Case 9: fire in the projection booth).
128

Свободная трибуна
на возмещение экономических убытков, если, например, кабель не принадлежит истцу либо не был причинен физический ущерб товарам истца41. Лишь в указанных случаях, защищая право собственности в широком смысле данного понятия, германское деликтное право позволяет взыскать сопутствующие экономические убытки в виде неполученной прибыли за время лишения возможности пользоваться своим имуществом и извлекать доход42.
Дела подобного рода ясно показывают всю сложность четкого разграничения между тем, что представляет собой вмешательство в право собственности, и тем, что вызывает чисто экономические потери43.
Что касается категории «иное право», то, по замыслу законодателя, здесь следует иметь в виду различного рода прежде не указанные в § 823 (I) ГГУ абсолютные права, например права на интеллектуальную собственность (патенты, товарные знаки, авторские права и т.п.), имя, изображение и некоторые другие44. Нужно строго понимать, что законодатель, используя категорию «иное право» (sonstiges Recht), вовсе не предполагал защиту, например, обязательственных прав. Однако под давлением потребностей практики Верховный суд смог интерпретировать «иное право» как «право на бизнес» (das Recht am Gewerbebetrieb or das Recht am Unternehmen), в некоторых случаях позволявшее защитить действующее предприятие от незаконного вмешательства45. Правда, чтобы получить защиту от нарушения «права на бизнес», необходимо, чтобы вредоносное действие делинквента было направлено против бизнеса как такового, что может быть при недобросовестной конкуренции, но никак не при задержке водителя грузовика, который застрял в пробке46.
Возникновение обязанности возместить вред в соответствии с § 823 (II) ГГУ связано с нарушением специального защитного закона (Schutzgesetz), который, в свою очередь, как правило, направлен на защиту ценностей, названных в § 823 (I) ГГУ. Защита по данному абзацу связана не с виновным причинением вреда соответствующим благам, а с виновным нарушением определенных предписаний закона, защищающего эти блага. Соответственно, экономический ущерб если и может быть возмещен, то лишь в том случае, если нарушается закон, целью которого является защита данного экономического интереса другого лица47.
41См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 366, 400–401; Pure Economic Loss. P. 35.
42См.: Dam C., van. Op. cit. P. 82; Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 185 (Case 1: cable I — the blackout). Ситуацию,если не было никакого повреждения имущества владельца фабрики, см.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 200–202 (Case 2: cable II — the factory shutdown); р. 218 (Case 3: cable III — the day-to-day workers).
43См.: Markesinis B., Unberath H. The German law of torts. P. 57.
44См.: Koziol Н. Recovery for economic loss in the European Union. P. 874.
45См.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 149; Dam C., van. Op. cit. P. 88; Pure Economic Loss. P. 8. См. также: BGH. 11.03.2008 — VI ZR 7/07.
46См.: BGH. 09.12.1958, BGHZ 29, 65; см. также: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 301 (Case 8: the cancelled cruise).
47См.: Erman W. Handkommentar zum BGB. 12. Auflage. Köln, 2008 (§ 826); Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 39, 149.
129

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
В противовес § 823, § 826 ГГУ потенциально применим для взыскания умышленно причиненных экономических убытков, не связанных с физическим вредом, если при этом были нарушены добрые нравы48. При этом интересно заметить, что суды постепенно отошли от буквального толкования вины в § 826 и стали понимать умысел в более широком смысле. Для привлечения к ответственности стало достаточно, чтобы причинитель вреда знал о самой возможности причинения ущерба, даже если он и не желал, чтобы ущерб возник49. Более того, если говорить о намерении, то оно должно присутствовать только в связи с первичным нарушением интересов жертвы. Не обязательно, чтобы умыслом делинквента охватывался весь, в том числе последующий, ущерб как результат его деликта, и не нужно, чтобы он знал самого потерпевшего. Например, если кто-то намеренно вызвал нарушение контакта способом, противоречащим добрым нравам, то он с большой долей вероятности будет нести ответственность и за банкротство потерпевшего контрагента50. Наконец, суды иногда также допускают ответственность и за вину в форме легкомыслия (Leichtfertigkeit), например в случае получения информации от эксперта, если будет установлено, что его поведение было безрассудным. В этом случае суды склонны считать, что этого достаточно для усмотрения здесь как бы намеренного поведения и привлечения к ответственности по § 826 ГГУ51.
К действиям contra bonos mores относятся такие, которые противоречат моральным чувствам всех хороших и праведных членов общества. В этом смысле нужно понимать, что для применения § 826 ГГУ всегда нужно найти в действиях причинителя вреда конкретное нарушение добрых нравов. Это особенно наглядно видно применительно к конкуренции, которая сама по себе не рассматривается как противоречащая добрым нравам, даже если некто умышленно причиняет чисто экономический ущерб конкурентам, действуя, однако, в собственных экономических интересах и добросовестно52.
Использование критерия добрых нравов для оценки противоправности поведения открывает возможность адаптации деликтного права к меняющимся практическим нуждам, преодолевая формальную строгость консервативного закона. Правда, следует признать, что такой критерий объективно трудно определить, поскольку в обществе нет и, наверное, не может быть раз и навсегда закрепленных моральных принципов. К тому же при разрешении спора по § 826 ГГУ всегда имеют особое значение обстоятельства конкретного случая. В этом смысле есть разумное ограничение для любых сколько-нибудь значительных попыток так или иначе объективировать стандарты поведения, относящиеся к § 826 ГГУ, что не может не влиять негативным образом на состояние правовой определенности и предсказуемости решений.
48См.: Fisher H.D. The German Legal System and Legal Language. London, 2002. P. 272; Koziol H. Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective. Wien, 2015. P. 705.
49См.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 149.
50См.: Dam C., van. Op. cit. P. 83.
51См.: Erman W. Handkommentar zum BGB (§ 826).
52См.: Pure Economic Loss. P. 9.
130

Свободная трибуна
Что же касается круга конкретных нарушений § 826 ГГУ, то среди наиболее очевидных можно выделить мошенничество (arglistige Täuschung / Irreführung), нарушение доверия доверительным управляющим (Vertrauensbruch eines Treuhänders), побуждение к нарушению контракта (Verleiten zum Vertragsbruch), злоупотребление служебным положением (Ausnutzung einer Stellung)53.
Отдельно стоит указать § 824 (I) ГГУ, предусматривающий возмещение экономического вреда, причиненного недостоверными сведениями, которые виновно были распространены делинквентом. Однако исключение § 824 (II) уравновешивает положения § 824 (I) тем, что освобождает от ответственности причинителя вреда, если у него или адресата сообщения имелся правомерный интерес и при этом причинитель вреда был в неведении о ложности соответствующей информации54.
Всвязи с жесткими рамками случаев возмещения вреда практика пытается найти обходные пути для возмещения экономических потерь, например посредством применения доктрин Verträge mit Schutzwirkung zugunsten für Dritter (protective effect of a contract for the benefit of a third party) и Drittschadensliquidation.
Впервой из них весьма искусственно используется подразумеваемая договорная обязанность в пользу третьего лица (договор с охранительным эффектом в пользу третьего лица)55. В указанной конструкции третье лицо в некоторых случаях и при определенных условиях получает право требовать от должника в чужом договоре (например, аудитора) возмещения причиненных убытков. Третье лицо не является стороной такого договора и не может требовать от должника исполнения его обязательства. Однако финансовое состояние третьего лица становится защищенным, если оно попадает в круг лиц, на которых распространяется защитный эффект чужого договора. Условиями применения такой конструкции являются: 1) достаточно тесная связь с договорным обязательством кредитора, которая выражается в том, что нарушение договора должником повлечет для третьего лица риск возникновения убытков; 2) наличие у кредитора интереса в защите третьего лица; 3) известность обоих перечисленных условий должнику в момент заключения договора; 4) отсутствие у третьего лица альтернативного способа защиты56.
Что касается доктрины Drittschadensliquidation, то c ее помощью достигается справедливое возмещение вреда в том случае, когда нарушение договорной обязанности должником причиняет ущерб не кредитору, а третьему лицу. В данном слу-
53См.: Fisher H.D. Op. cit. P. 272; Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 369. См. также: Bussani M., Palmer V.
Op. cit. P. 377–378 (Case 12: double sale).
54См.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 515–516 (Case 20: an anonymous telephone call); р. 483–484 (Case 18: wrongful job reference).
55См.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 150; Pure Economic Loss. P. 9; Markesinis B., Unberath H. The German law of contract. A comparative treatise. London, 2006. P. 204; Idem. The German law of torts. P. 59–64; Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и современные тенденции. М., 2006. С. 76–80.
56Dam C., van. Op. cit. P. 212; Markesinis B., Unberath H. The German law of torts. P. 204; Bussani M., Palmer V.
Op. cit. P. 396–398 (Case 13: subcontractor’s liability); р. 413 (Case 14: poor legal services).
131

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
чае убыток как бы переносится на лицо, не состоящее с должником в договорных отношениях. Складывается любопытная ситуация, когда лицо, которое имело бы право на иск, не получило ущерб, а то лицо, которое получило ущерб, не имеет права на иск57.
Согласно данной доктрине именно кредитор в обязательстве получает право требовать компенсации ущерба, который был понесен третьим лицом вместо кредитора. В этом смысле доктрина Drittschadensliquidation является исключением из концепции интересов кредитора, согласно которой истец может компенсировать только собственные потери. Однако явным рациональным зерном здесь представляется то, что в результате нарушения договора должник не получает выгоду от переноса потери с кредитора на третье лицо. Если бы исключение из концепции интересов кредитора не было принято, то неисправная сторона не понесла бы ответственности как перед своим кредитором ввиду отсутствия у последнего убытков, так и перед третьим лицом ввиду отсутствия между ними договорной связи.
Таким образом, доктрина Drittschadensliquidation призвана гарантировать, чтобы сторона, не выполняющая обязательство (лицо, причинившее вред), не получила преимущества от факта переноса потерь с кредитора на третье лицо. Эта доктрина находится под жестким судебным контролем, благодаря которому не допускается расширение ответственности должника в договоре перед заранее неопределенным кругом лиц. Можно уверенно говорить, что она применяется в очень узком сегменте дел, а именно: 1) в открытом агентировании; 2) доверительном управлении; 3) перевозке грузов58.
Основное различие между доктринами Verträge mit Schutzwirkung zugunsten für Dritter и Drittschadensliquidation заключается в риске ответственности. При Drittschadensliquidation риск ответственности, по сути, не меняется, поскольку причиненный неисполнением договора ущерб передается от одного лица другому. Эта передача ущерба происходит совершенно случайно, т.е. нет никакого подразумеваемого договора с защитным эффектом в пользу данного третьего лица. К тому же в этом случае нет прямого вмешательства в чужие отношения, поскольку у третьего лица нет непосредственного иска к договорному должнику. В этом смысле ответственность должника остается неизменной. Что же касается Verträge mit Schutzwirkung zugunsten für Dritter, то риск ответственности должника увеличивается, поскольку нарушение договора может принести убыток как договорному кредитору, так и третьему лицу59.
И наконец, последний институт немецкого права, который следует упомянуть в контексте нашей темы, это culpa in contrahendo. Строго говоря, преддоговорная ответственность не предназначена для возмещения чисто экономических убыт-
57См.: Pure Economic Loss. P. 38–40.
58См.: Markesinis B., Unberath H. The German law of torts. P. 64.
59Доктрина Drittschadensliquidation может быть доступна, только если весь ущерб, причиненный должником, понесен третьей стороной, а не лицом, имеющим право на подачу иска в суд. См.: Markesinis B., Unberath H. The German law of contract. P. 219.
132

Свободная трибуна
ков и не является деликтной ответственностью. Но будет лукавством не признать, что этот институт в некоторых случаях функционально пригоден для достижения нужного результата: защиты потерпевшей стороны от экономического ущерба, возникшего на преддоговорной стадии и не связанного с нарушением абсолютных прав. Согласно § 241 (II) и § 311 ГГУ вступление в такие квазидоговорные отношения является основанием для возникновения обязательства учитывать права, правовые блага и интересы другой стороны60.
Таким образом, мы видим, что немецкое право имеет свои специфические способы компенсации экономических потерь, которые, несмотря на изрядную сообразительность судов в деле обхода строгих формулировок ГГУ, все равно еще далеки от практически безграничных возможностей французского правопорядка.
Англия
Английское право находится на определенном удалении от правовых систем континентальной правовой семьи, обладая рядом специфических особенностей, повлиявших в том числе на развитие деликтного права. Английское право не признает принцип генерального деликта, используя множество специальных деликтов, скрупулезно отшлифованных в недрах судебной системы посредством прецедентов. Никакого общего законодательно выраженного запрета причинения вреда не существует, как не существует и общей обязанности проявлять заботу о других участниках оборота для их защиты от чисто экономических убытков61. Сказанное полностью справедливо и для преддоговорной стадии. В деле Walford v. Miles62 HL [1992] было сказано, что сама идея вести переговоры добросовестно не реализуема на практике, потому что противоречит состязательности позиций стороны в переговорах. Каждая сторона переговоров вправе, преследуя собственный интерес, как просто выйти из переговоров по любой причине, так и выйти с надеждой, что противоположная сторона попытается возобновить переговоры, предложив лучшие условия63.
«Чтобы нести ответственность, обвиняемый должен нарушать такое право, как право собственности, которое истец имеет против всего мира, а не только против третьей стороны»64. Серьезное опасение касательно возможности взыскания чисто экономических убытков основано на страхе перед потенциально широкой ответственностью, налагаемой на причинителя вреда. Все так же используется
60См.: Koziol Н. Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective. P. 705. См. также: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 354–356 (Case 11: a maestro’s mistake); р. 502–503 (Case 19: breach of promise).
61Человек может как угодно проявлять небрежность по отношению ко всем на свете, если у него нет перед ними обязательств, см.: Lord Escher in Le Lievre v. Gould [1893]. См. также: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 296–297 (Case 8: the cancelled cruise); р. 368–370 (Case 12: double sale); р. 423–424 (Case 15: a closed motorway — the value of time).
62См.: Walford v. Miles HL [1992].
63Cм. также: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 496–497 (Case 19: breach of promise).
64Ibid. P. 51; р. 439–440 (Case 16: truck blocking entrance to business premises).
133

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
метафора «прорыва плотины» (Floodgates), с той лишь разницей, что английские судьи в принципе готовы увидеть обязанность проявлять заботу (duty of care), но не вообще, а лишь в каждом конкретном разбираемом случае, в котором изучаются негативные экономические и социальные последствия расширения ответственности.
Однако английское право постепенно развивалось и формировало свой набор соответствующих инструментов, функционально пригодных для защиты различного вида чисто экономических интересов потерпевших. Речь идет об иске о возмещении вреда, причиненного по неосторожности (tort of negligence)65. Он дает возможность получить возмещение за вред, причиненный довольно широкому кругу благ, в том числе связанный с чисто экономическими интересами66. Судебное притязание может оказаться успешным, если истец докажет наличие трех обстоятельств: 1) обязанность ответчика проявлять заботу и осмотрительность по отношению к истцу (duty of care); 2) нарушение ответчиком этой обязанности (breach of duty); 3) вред на стороне истца, возникший в результате ее нарушения (damage)67. Из этого следует, что если нет, например, обязанности проявлять заботу по отношению к истцу, то нет и никаких последствий за небрежность68.
Доказать наличие обязанности (duty of care) представляется довольно непростым делом в условиях отсутствия между участниками потенциального спора договорных отношений69. Но в ряде случаев установление такой обязанности не представляет сложностей для суда (например, для участников дорожного движения, врачей по отношению к пациентам, работодателей по отношению к работникам
ит.д.). Прецедентная практика судов постепенно формирует перечень таких лиц
иситуаций, который постоянно обновляется70. На современном этапе развития английского деликтного права наличие обязанности ответчика (duty of care) в каждом случае подлежит установлению посредством применения трехступенчатого теста71. Он был предложен в деле Caparo Industries PLC v. Dickman [1990], в процессе рассмотрения которого были предложены три вопроса для обсуждения: 1) мог ли ответчик предвидеть, что его поведение повлечет соответствующие негативные последствия с учетом разумных требований к его осмотрительности; 2) имеются ли между истцом и ответчиком достаточно тесные отношения; 3) бу-
65См.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 139; Pure Economic Loss. P. 11.
66См.: Егорова М.А., Крылов В.Г., Романов А.К. Указ. соч. С. 108.
67См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 377; Егорова М.А., Крылов В.Г., Романов А.К. Указ. соч. С. 208.
68См.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 179–180 (Case 1: cable I — the blackout); р. 196 (Case 2: cable II — the factory shutdown); р. 214–215 (Case 3: cable III — the day-to-day workers); р. 231 (Case 4: convalescing employee); р. 247–248 (Case 5: requiem for an Italian all star); р. 316–317 (Case 9: fire in the projection booth); р. 333 (Case 10: the dutiful wife); р. 511–512 (Case 20: an anonymous telephone call).
69См.: Егорова М.А., Крылов В.Г., Романов А.К. Указ. соч. С. 123.
70См.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 141.
71В действительности их было больше, но самым актуальным и сложным является последний трехступенчатый.
134

Свободная трибуна
дет ли отвечать критерию справедливости возложение обязанности (duty of care) на ответчика при имеющихся обстоятельствах72.
После выяснения наличия обязанности внимательного и осторожного отношения следует с учетом всех обстоятельств рассматриваемого дела определить, была ли она нарушена. Для этого нужно узнать, предпринял ли ответчик достаточные меры предосторожности, которые зависят от оценки того, что сделал бы на месте ответчика любой разумный человек (reasonable man). Разумность поведения ответчика оценивается с учетом различных обстоятельств, которые связаны как с индивидуальными характеристиками самого ответчика, так и с особенностями истца. Также оцениваются степень риска, соотношение между затратами на меры по предупреждению вреда и риском его наступления и др. Наконец, для возмещения вреда, причиненного по неосторожности, необходимо, чтобы он был результатом неисполнения ответчиком лежащей на нем обязанности и чтобы он не был достаточно отдаленным последствием73.
Отдаленность вреда (Remoteness of damage) является необходимым критерием определения возможности привлечения к ответственности по неосторожности. В рамках дела о возмещении вреда ответчику крайне важно доказать, что вред, о котором заявил истец, является слишком отдаленным следствием неисполнения лежащей на ответчике обязанности. Какой вред признается отдаленным (too remote)? Тот, который не смогло бы предвидеть любое разумное лицо при сравнимых обстоятельствах74.
В свете изложенного следует указать на еще одно правило (Hedley Byrne rule), которое имеет большое значение в том числе для взыскания чисто экономических убытков. Это правило, именуемое еще правилом принятия на себя ответственности, сформировалось на основе ряда прецедентных дел, начиная с дела Hedley Byrne & Co., Ltd v. Heller & Partners Ltd [1964]75. Судебная практика определила особые требования для принятия на себя ответственности: 1) необходимо, чтобы ответчик прямо или косвенно позиционировал себя как лицо, которое имеет какое-то преимущество перед заявителем, например имеет специальные знания; 2) заявитель должен полагаться на это предположение и эта зависимость должна быть разумной; 3) принятие на себя ответственности не обязательно может быть добровольным; 4) как правило, имеется прямой контакт между истцом и ответчиком, но это не всегда так76.
Следует заметить, что в литературе встречается довольно оригинальное объяснение соотношения правила о принятии ответственности и указанного выше трех-
72См.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 461 (Case 17: auditor’s liability).
73См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 378.
74См.: Overseas Tankship (UK) Ltd v. Morts Dock and Engineering Co., Ltd [1961]; Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 260–262 (Case 6: the infected cow).
75См.: Dam C., van. Op. cit. P. 106; Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 52.
76См.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 277–278 (Case 7: the careless architect); р. 349–350 (Case 11: a maestro’s mistake); р. 407 (Case 14: poor legal services); р. 478–479 (Case 18: wrongful job reference).
135

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
ступенчатого теста для определения наличия duty of care77. Говорится, что они не должны конкурировать, что их использование служит единой цели и, по сути, должно приводить к одному и тому же результату.
Следует указать, что английское право знает еще один способ возмещения вреда, причиненного умышленным вмешательством в экономические интересы потерпевшего, помимо возмещения вреда, причиненного по неосторожности (tort of negligence). Речь идет о четырех видах деликтов: 1) склонение к нарушению контракта и вмешательство в контракт (inducing breach of contract); 2) вмешательство в торговлю или бизнес незаконными средствами (restraint of trade); 3) экономическое принуждение (intimidation); 4) сговор с целью нанесения ущерба (conspiracy)78.
Для привлечения лица к ответственности за первый деликт необходимо соблюдение следующих условий: 1) должник должен нарушить заключенный с истцом договор; 2) ответчик должен так или иначе побудить должника нарушить действующий договор с истцом (намеренно уговорить, заставить, ввести в заблуждение); 3) ответчик должен знать, что его поведение приведет к нарушению договора. Причем не просто допускать такую возможность, а доподлинно знать, что именно его действия приведут к нарушению должником его контракта с истцом79.
Что касается второго деликта, то условиями привлечения к ответственности являются: 1) незаконные средства вмешательства; 2) выход действий ответчика за рамки контрактного права; 3) намерение ответчика причинить вред истцу (случайные потерпевшие не смогут претендовать на возмещение ущерба); 4) наличие реального ущерба от действий ответчика80.
Третий деликт связан с причинением экономического ущерба лицу, на которого было оказано незаконное давление с целью получения его согласия на выгодное ответчику поведение81. Однако среди подобного экономического давления выделяется такое, которое вполне допустимо, например правомерное поведение более сильной стороны переговоров будущей коммерческой сделки82.
77См.: Dam C., van. Op. cit. P. 108.
78Ibid. Р. 205.
79См.: Grieg v. Insole [1978].
80Очень важный деликт, особенно в контексте вопроса конкуренции. Очевидно, что любая деятельность на конкурентном рынке объективно вредоносна для проигравшего конкурента. Однако английские юристы понимают, что нельзя привлекать лицо к ответственности лишь за то, что оно действует исключительно в собственных экономических интересах, имея равное право на то, чтобы конкурировать с себе подобными. Другое дело, если лицо мошенничает или угрожает нарушить контракт, получая таким образом конкурентные преимущества. См.: Rookes v. Barnard [1964].
81См.: Universe Tankships Inc. of Monrovia v. International Transport Workers’ Federation [1983] 1AC 366.
82Конкуренция предполагает, что трейдеры имеют право нанести ущерб интересам своих конкурентов, продвигая собственные. См.: Markesinis B., Unberath H. The German law of contract. P. 53.
136

Свободная трибуна
Для такого деликта, как сговор с целью нанесения ущерба, достаточно установить, что делинквент просто намеревался использовать незаконные средства, т.е. не требуется даже доказывать, что они были использованы. Средством ограничения ответственности здесь является обязанность истца доказать, что ответчик не просто действовал в своих экономических интересах, а именно без таковой цели83.
Компаративные выводы
Рассмотрев три указанных правопорядка, мы увидели в общих чертах три основных тренда решения вопроса возмещения чисто экономических потерь. Французский правопорядок предоставляет довольно широкие возможности для их компенсации, при этом в качестве своеобразного предохранителя выступает сама судебная система, весьма гибким образом использующая причинно-следственную связь для регулирования величины открытого «шлюза». В Германии имеется ограниченный список охраняемых интересов, в основном защищаются блага, опосредованные абсолютными правами, а что касается защиты чисто экономических интересов, то возникшие убытки либо остаются в имущественной сфере потерпевшего, либо если и компенсируются, то прежде весьма искусственно превращаются в косвенные убытки посредством расширения понимания собственности или применения квазидоговорных конструкций.
Любопытно, что, несмотря на формальное содержание кодексов Франции и Германии (по сути, они представляют собой противоположные отправные точки деликтного права), судебная практика каждой из этих стран находится где-то в промежуточном положении и оно с течением времени меняется.
Наконец, в Англии каждый случай причинения чисто экономических потерь поставлен под судебный контроль посредством анализа обязанностей проявления заботы (duty of care)84.
Найти какое-то общее ядро в решении проблемы защиты от чисто экономических потерь, наверное, не получится. Можно лишь заметить, что практически везде возмещаются чисто экономические потери, причиненные неправомерно и намеренно85. Данное обстоятельство само по себе весьма любопытно, поскольку принижает прежде значимые аргументы о том, что интересы должны защищаться
83Целенаправленное причинение вреда — это самое простое, что может встретиться в подобных делах. Но такие аномалии будут редкими и чаще всего будут встречаться ситуации, в которых ответчик преследует свои цели, на пути достижения которых стоит причинение вреда истцу. В этом смысле можно вспомнить довольно легкий на первый взгляд тест: если в деле прослеживаются две или более цели, то ответственность должна зависеть от определения преобладающей из них. Если основная цель состоит в том, чтобы нанести ущерб другому лицу, то это деликт в виде сговора. Если же доминирующей целью является законная защита интересов лиц, участвующих в той или иной комбинации, то это не сговор, даже если он наносит ущерб другому лицу. См.: Crofter Hand Woven Harris Tweed Co. v. Veitch [1942].
84См.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 531.
85Ibid. P. 23, 534.
137

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
в соответствии с их рангом (осязаемые материальные блага важнее, чем чисто экономические), что у закона существует предел способности защищать интересы, что предоставление полной защиты всем экономическим благам превысит этот предел, что есть угроза так называемого «прорыва плотины», что нельзя бесконечно расширять пределы ответственности без угрозы для человеческой инициативы и т.п. Но почему в случае умышленного и явно злостного попрания чисто экономических интересов последние, как правило, защищаются? Ответ на этот вопрос лежит где-то в области политики права и касается различного рода глубинных аспектов, являющихся маркерами, критериями развития права: пределов личной свободы, справедливости, степени защиты частной инициативы и т.п. Каждый правопорядок решает данный вопрос, видимо, по-своему, а мы лишь можем наблюдать схожий внешний эффект таких решений.
Защита чисто экономических интересов в контексте российского деликтного права
В российском деликтном праве возможность защиты чисто экономических интересов находится под вопросом. В силу неразвитости деликтного права буквальное толкование соответствующих норм главы 59 ГК РФ дает не совсем приемлемый результат, поскольку возникают вопросы, которые прежде были неактуальны на протяжении долгого периода использования традиционного для советского и российского подхода к пониманию сферы применения деликтного права.
Для начала отметим, что как в германской, так и в нашей доктрине и практике общепризнано представление о четырех основаниях (условиях) деликтной ответственности: 1) противоправное действие; 2) вред; 3) причинная связь между противоправным поведением и вредом; 4) вина. Если посмотреть на легальную формулировку п. 1 ст. 1064 ГК РФ, то мы увидим достаточно простое, но емкое правило, позволяющее защититься от причинения вреда личности или имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица. Однако прежде, чем мы обратимся к толкованию одного из ключевых для нашей темы понятия имущества, следует выяснить, какой смысл вкладывается в понятие вреда.
Начнем с того, что понятие «вред», скорее всего, не должно пониматься в узком деликтном смысле. Вред не является исключительно категорией деликтного права. Вред как родовая категория может возникнуть в самых разных ситуациях86. Например, лицо имело в собственности автомобиль и заключило договор аренды с другим лицом, которое планировало заняться перевозкой грузов. Арендатор задерживал арендные платежи. Арендодатель терпит договорные убытки, нарушается относительное правоотношение. Прибавим к этому то обстоятельство, что по окончании срока аренды автомобиль не был возвращен. Снова нарушается договорное правоотношение? Да. Обязательство платить аренду и обязательство вернуть предмет аренды являются договорными. Но не будет секретом тот факт, что в случае удержания предмета аренды нарушается и право собственности арендодателя путем умаления правомочий владения и пользования. Точно так же на-
86 |
См.: Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т. 2. М., 2015. С. 330, 344. |
|
138

Свободная трибуна
рушается только право собственности (но не относительное договорное право)
втот момент, когда третье лицо попадает в ДТП, в результате которого немного повреждается сданный в аренду автомобиль. Нарушением относительного права арендодателя будет ситуация, если в договоре аренды было условие о ремонте предмета аренды силами арендатора, что не было им сделано. А как быть, если
вдоговоре аренды было условие о том, что предмет аренды будет использоваться исключительно для перевозки грузов строго определенным маршрутом (некая платная автодорога, мост), и в случае перекрытия данного маршрута по независящим от арендатора причинам арендные платежи уменьшаются пропорционально времени существования препятствия, мешающего использованию автомобиля по договорному назначению? Можно ли сказать, что в таком случае нарушается ка- кое-либо абсолютное или относительное право арендодателя?
Несмотря на то, что в деликтном праве Германии иногда можно было увидеть в подобных казусах состояние нарушения права собственности (невозможность пользования вещью), в нашем правопорядке подобное размывание границ этого права выглядит несколько сомнительным. Можно ли сказать, что арендодатель в данном случае терпит убытки? Да, хотя никакое абсолютное или относительное право не нарушено. В этом смысле понимание вреда исключительно в качестве нарушения некоего права будет выглядеть несколько отдаленным от действительного положения дел. Поэтому представляется, что понимание вреда в качестве негативного последствия поведения делинквента более удачно, поскольку позволяет выделить ситуацию, когда нарушение права не привело к появлению вреда, а также позволяет поставить вопрос о возмещении вреда в ситуации, когда он был причинен без нарушения какого-либо субъективного права87. Таким образом, вред — это финансовые потери, убытки, которые могут возникать как в результате физического воздействия на вещи пострадавшего, так и в иных ситуациях.
Вернемся к ст. 1064 ГК РФ и попробуем понять, чему именно может быть причинен вред. Данная статья говорит о причинении вреда имуществу, но что есть «имущество»? Этот вопрос осложняется тем обстоятельством, что формально-юриди- чески можно придерживаться любой точки зрения и быть одинаково правым.
С одной стороны, под имуществом в контексте ст. 1064 ГК РФ можно понимать то, по поводу чего может возникнуть абсолютное право. Это классический подход к толкованию понятия «имущество», который прежде часто встречался в контексте деликтного права в различных суждениях примерно подобного содержания: «Вред является результатом нарушения абсолютного права другого субъекта»88. Строго говоря, в этом нет ничего удивительного, если принять
87В целях нашей статьи абстрагируемся от формы нематериального вреда (переживаний, страданий). Что касается понятий «материальный вред», «ущерб» и «убытки», то они связаны тем, что материальный вред и ущерб мы считаем синонимами, а понятие «убытки» используем как денежное выражение ущерба. См.: Российское гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. Т. 2. М., 2011. С. 1083. Есть и другие варианты понимания вреда, ущерба, убытков и их соотношения. См., напр.: Кривцов А.С. Общее учение об убытках. Юрьев, 1902. C. 7–8; Флейшиц Е.А. Указ. соч. С. 345–346.
88См.: Агарков М.М. Общее учение об обязательствах и его отдельных видах // Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т. 2. М., 2012. С. 200–201; Иоффе О.С. Обязательство по возмещению вреда. Л., 1951. С. 7; Флейшиц Е.А. Указ. соч. С. 337, 344; Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском гражданском праве: учеб. пособие. М., 2013. С. 2; Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3 / под ред. А.П. Сергеева. М., 2012. С. 9.
139

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
во внимание специфику деления обязательств (по советскому гражданскому праву) по признаку направленности обязательства: 1) обязательства, непосредственно направленные на выполнение плана и удовлетворение материальных и культурных потребностей граждан; 2) обязательства, направленные на защиту социалистической и личной собственности; 3) обязательства, направленные на социалистическое распределение89. Среди обязательств, направленных на защиту социалистической и личной собственности, особое место занимают обязательства из причинения вреда имуществу, которое составляет социалистическую (ст. 5, 6, 7 Конституции СССР 1936 г.) и личную (ст. 7, 10 Конституции СССР
1936 г.) собственность. Учитывая данное понимание имущества по советскому гражданскому праву, будет любопытно заметить, что ст. 403 ГК РСФСР 1922 г. рассматривалась в качестве нормы, закрепившей принцип генерального деликта90: «Именно благодаря этому приему осуществляется наиболее полная защита социалистической и личной собственности»91. Это особенно примечательно, если вспомнить, что М.М. Агарков отрицал возможность нарушения обязательственного права иным лицом, кроме как должником.
С другой стороны, в советское время раздавались (и продолжают звучать сейчас) голоса в пользу расширительного понимания категории имущества в контексте деликтного права РСФСР и РФ92. Например, В.К. Райхер указывал, что в ст. 403 ГК РСФСР 1922 г. установлена ответственность за вред в том числе имуществу, которое охватывает не только собственно вещи, но и, например, долговые требования (ст. 87 ГК РСФСР 1922 г.)93. Правда, чуть ранее автор ссылался на § 823 (I) ГГУ, приводя в качестве примера, что понятие «иное право» включает в себя и право обязательственное, а это, конечно же, не соответствует действительности. О.В. Гутников пишет: «Из текста ст. 1064 ГК РФ вообще не следует, что основанием деликтной ответственности является нарушение каких-либо субъективных прав (абсолютных или относительных). Основанием деликтной ответственности является сам факт причинения вреда имуществу потерпевшего, в чем бы этот вред ни выражался… Вред может быть причинен любому имуществу, которым могут быть как вещи, так и имущественные права (ст. 128 ГК РФ)»94.
Действительно, строго говоря, по ГК имущество включает в себя и имущественные права, а среди них выделяются права обязательственные (ст. 128 ГК РФ).
89См.: Агарков М.М. Общее учение об обязательствах и его отдельных видах. С. 242–243.
90Формулировка ст. 444 ГК РСФСР 1964 г. принципиально не изменилась.
91Цит. по: Агарков М.М. Общее учение об обязательствах и его отдельных видах. С. 215–216.
92См.: Флейшиц Е.А. Указ. соч. С. 359–363, Аскназий С.И. Основные вопросы теории социалистического права. М., 2008. С. 699–700; Гутников О.В. Деликтная ответственность за нарушение относительных прав: перспективы развития в российском праве // Закон. 2017. № 1. С. 22–37; Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016. С. 371–375.
93См.: Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяйственных прав). В особенности применительно к советскому праву // Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 144– 204.
94Гутников О.В. Указ. соч.
140

95
96
Свободная трибуна
При буквальном прочтении ГК РФ деликтным иском можно защищаться от причинения убытков в результате тех или иных посягательств на обязательственные права.
Однако такое понимание имущества для целей деликтного права посредством ссылки на ст. 128 ГК РФ представляется механическим, грубым и не учитывающим природу той правовой среды, в контексте которой используется это понятие. Да, было бы крайне желательно, чтобы тот или иной термин в рамках одной отрасли права или хотя бы в рамках одного нормативно-правового акта использовался в одном единственном значении. Но не будет секретом, что наш законодатель не особенно беспокоится о чистоте словоупотребления. В этом смысле всякий раз следует выяснять, какое именно значение того или иного термина корректно использовать в определенном случае. По смыслу, например, п. 1 ст. 2, ст. 128, 132, 209, 1064 ГК РФ одно и то же понятие «имущество» наполняется далеко не идентичным содержанием.
Таким образом, ни с точки зрения исторического анализа развития отечественной деликтной ответственности, ни с точки зрения обычной догматики содержательное наполнение понятия «имущество» в контексте деликтного права не является сколько-нибудь очевидным. Между тем данный вопрос не имеет к правовой догматике никакого отношения. Более того, ни своеобразное жонглирование терминами, ни поиски исторического обоснования того или иного понимания имущества не имеют никакого самостоятельного значения. Вопрос круга объектов гражданских прав, защищаемых нормами деликтного права, — это не что иное, как вопрос политики права. Юристы не должны самостоятельно пытаться решить такой сложный вопрос, который может иметь весьма значительные социальные и экономические последствия в масштабах всего общества. Юристы должны лишь прислушиваться к социальным запросам и предлагать для их реализации соответствующие удобные для данного случая догматические конструкции. Лозунг «Право для жизни», а не наоборот должен быть главным мерилом любых правовых революций и эволюций.
Возвращаясь к нашей теме, следует заметить, что «границы ущерба, подлежащего возмещению, постоянно расширялись. Ученые-правоведы настаивают на следующей последовательности этапов этого процесса: 1) защита абсолютных прав; 2) защита относительных прав; 3) защита других ожиданий»95. В этом смысле стоит надеяться, что отечественное деликтное право если и пройдет указанный путь, то не своим сугубо национальным способом, а используя накопленный опыт иностранных правопорядков.
Но если говорить не о пожеланиях отдельных «юристов-революционеров», а о современном состоянии российского деликтного права, то следует признать, что оно пока что нацелено только на защиту абсолютных прав96. В этом смысле мы очень похожи на немцев с принятым у них сингулярным деликтом. Генеральный деликт французского права не имеет ничего общего с тем деликтом, который у нас ошибочно по инерции называют генеральным.
Туктаров Ю.Е. Указ. соч. С. 10.
См.: Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3 / под ред. А.П. Сергеева. С. 9.
141

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Напомним, что согласно французской доктрине и практике защищаются любые интересы потерпевшего и вред нужно возмещать в любом случае его виновного причинения. Формально юридически не требуется нарушение права в объективном или субъективном смысле. Однако в нашем случае говорить о действии некоего весьма отдаленного подобия принципа генерального деликта можно, только если мы и дальше будем (1) искусственно не признавать объективно существующие чисто экономические интересы, заслуживающие как минимум обсуждения на предмет уважения и защиты, и (2) слепо придерживаться презумпции противоправности, что, как мы увидим ниже, весьма удобно в случае защиты от посягательств на объекты абсолютных прав, но крайне сомнительно для защиты интересов, опосредуемых относительными правами, а также правовыми ожиданиями. «Выделение противоправности как самостоятельного условия ответственности характерно для тех моделей, которые не придерживаются принципа генерального деликта и направлены на бóльшую роль законодателя в определении случаев компенсации вреда. Тем самым возникает некоторое противоречие между моделью компенсации вреда, которой хочется соответствовать, и содержанием имеющихся условий ответственности»97.
Понимая данное противоречие, российская доктрина и практика пошли путем закрепления презумпции противоправности. Это означает, что потерпевший не должен доказывать противоправность поведения причинителя вреда, так как она предполагается98. Формально-юридически презумпцию противоправности иногда выводят путем толкования п. 3 ст. 1064 ГК РФ99. В таком толковании можно попытаться найти рациональное зерно: если провести тест и допустить обратную презумпцию (презумпцию правомерности любого причинения вреда), то, поскольку такой вред может быть возмещен только в случаях, предусмотренных законом (а таких всего несколько), ст. 1064 ГК РФ будет практически неработающей.
Таким образом, на основании изложенного можно заключить, что использование в нашей доктрине принципа генерального деликта является не своего рода фокусом, искусственно ограничивающим общепризнанное содержание понятия гене-
97Евстигнеев Э.А. Принцип генерального деликта: современное состояние и перспективы применения // Вестник гражданского права. 2017. № 5. С. 55–84.
98См.: Флейшиц Е.А. Указ. соч. С. 355; Агарков М.М. Общее учение об обязательствах и его отдельных видах. С. 209; Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве: учеб. пособие. Л., 1983. С. 19, 29, 65; Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Указ. соч. С. 18; Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3 / под ред. А.П. Сергеева. С. 21. См. также позицию ВАС РФ о том, что всякое причинение вреда презюмируется противоправным (постановление Президиума ВАС РФ от 27.07.2010 № 4515/10). Согласно неоднократно высказанной позиции ВС РФ потерпевший должен доказать возникновение вреда и его размер, а также то, что ответчик является причинителем вреда или лицом, обязанным его возместить. При этом противоправность как условие привлечения к деликтной ответственности даже не упоминается, из чего можно сделать косвенный вывод, что противоправность причиненного вреда презюмируется (см.: п.11 постановления Пленума ВС РФ от 26.01.2010 № 1; определения ВС РФ от 01.04.2014 № 5-КГ14-11, от 12.09.2014 № 22-КГ14-15).
99См.: Российское гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. Т. 2. С. 1082; Козлова Н.Е. Условия наступления гражданско-правовой ответственности лечебного учреждения за причинение вреда пациенту // Услуги: проблемы правового регулирования и судебной практики: сб. науч.-практ. ст. / отв. ред. С.Н. Мальтов. М., 2007. С. 19.
142

Свободная трибуна
рального деликта, но вполне осознанным приемом, позволяющим примириться с известными условиями деликтной ответственности. Этот прием заключается в том понимании, что иного вреда, кроме того, который выражается в нарушении какого-либо субъективного права (абсолютного в случае деликта), не существует. Отсюда естественным образом вытекает и презумпция противоправности такого «всякого» вреда. Следовательно, в указанной правовой картине мира концепция генерального деликта не противоречит общепризнанной конструкции условий деликтной ответственности.
Кому-то может показаться, что принципиально нет разницы, установим ли мы ответственность за всякий вред (в широком смысле слова), но ограничим его возмещение ситуациями, когда ответчик имел право поступать определенным образом, или установим ответственность лишь за противоправный вред, но введем презумпцию противоправности всякого вреда (не только в результате нарушения абсолютного права). Однако проблема есть, и связана она с изначальной целевой направленностью отечественной деликтной защиты.
Если посмотреть на известные правовые связи гражданского права, то можно заметить, что они, как правило, опосредуются субъективными гражданскими правами, которые принято делить на абсолютные и относительные. Абсолютное субъективное право закрепляет принадлежность наличного блага определенному лицу, которое удовлетворяет свой интерес собственным поведением, направленным на данное благо. Ключевым элементом в составе абсолютного субъективного права является правомочие на собственные действия. Поскольку интерес в пользовании, допустим, вещью не зависит от пассивной воли третьих лиц, то первостепенное значение приобретает сохранение состояния независимости от возможной активной воли третьих лиц. Собственник вещи не нуждается в помощи со стороны кого бы то ни было, например, в том, чтобы пользоваться собственной вещью, и тем более он заинтересован, чтобы ему не мешали это делать.
Почему такая заинтересованность вообще возникает? Ответ покажется достаточно простым, если заглянуть в литературу по экономической теории, в которой подробно объясняется понятие «редкости» благ при безграничности человеческих потребностей100. Как следствие, мы придем к выводу, что субъект абсолютного субъективного права нуждается в защите от всех третьих лиц, которые могут так или иначе повлиять на спокойное удовлетворение его интереса с помощью собственных действий, направленных на принадлежащее ему благо. Поскольку мало просто указать на существование демаркационной линии «свое/чужое» посредством абсолютного субъективного права, крайне важно обеспечить данное право возложением соответствующих обязанностей на прочих лиц. Следовательно, на этих лицах лежит признаваемая государством обязанность не чинить препятствий управомоченному лицу.
Ключевой особенностью относительного субъективного права будет такой способ удовлетворения интереса управомоченного лица, который выражается в заранее определенном поведении обязанного лица. Возникает соблазн сделать вывод, что только обязанное лицо и способно нарушить интерес управомоченного
100 |
См.: Хейне П. Указ. соч. С. 107. |
|
143

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
лица101. Деление субъективных прав по кругу обязанных лиц представляется неудачным, поскольку скрывает от нас реальные мотивы вступления лиц в те или иные отношения. Не сделать кого-то обязанным, но удовлетворить свой интерес определенным образом является единственной причиной вступления субъектов права в те или иные гражданские правоотношения.
Как можно нарушить интерес управомоченного лица? Применительно к праву абсолютному нарушением будет невыполнение лежащей на третьем лице обязанности не чинить препятствия управомоченному лицу владеть, пользоваться или распоряжаться принадлежащим ему благом в силу лишь самого факта наличия блага и возможности посягнуть на это благо со стороны любого третьего лица. Таким образом, праву абсолютному корреспондирует обязанность пассивного поведения иных лиц, что полностью отвечает интересу управомоченного лица, который выражается исключительно в его собственных действиях. В этом смысле и презумпция противоправности поведения делинквента целиком соответствует самой природе абсолютного субъективного гражданского права.
Однако применительно к правам относительным ситуация заметно усложняется тем обстоятельством, что если под нарушением абсолютного права мы понимали неисполнение обязанности пассивного свойства, то в случае нарушения относительного права также следует говорить о неисполнении обязанности, но теперь уже активного свойства, поскольку именно обязанное лицо и должно предоставить управомоченному лицу определенное благо (даже если благо обеспечивается бездействием обязанного лица — non-facere). В этом смысле все третьи лица никак не способны удовлетворить строго направленный интерес управомоченного субъекта102 и, как следствие, нарушить относительное право кредитора.
Было бы лукавством не признать, что потенциально любое третье лицо способно создать, например, ситуацию невозможности исполнения лежащей на должнике обязанности, что приведет к неудовлетворению интереса управомоченного лица. Но презумпция противоправности поведения такого третьего лица совершенно не соответствует природе относительного субъективного права. Более того, нет никаких формально-юридических либо политико-правовых доказательств того, что такая презумпция будет отражать фактическое положение дел в большинстве однотипных случаев. Если же мы пойдем против здравого смысла и будем настаивать на презумпции противоправности в том числе для случаев, когда под воздействием внешних факторов становится неисполнимым обязательство (представляющее собой относительное правоотношение), то мы ввергнем в масштабный коллапс весь экономический оборот.
Даже если не обращать внимания на страхи, в общем-то типичные для любого правопорядка, ограничивающего взыскание чисто экономических убытков, то
101«Это делает само собой понятным, почему права по обязательствам, основанные не на настоящем, а на возможности будущего пользования, защищаются не запрещениями, как вещные права, но приказами, действующим не против всех, а только против лиц, обязанных доставить то или иное пользование: одни эти лица могут удовлетворить или не удовлетворить интересу, составляющему цель приказа» (Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. СПб., 1911).
102Статья 313 ГК РФ не в счет.
144

Свободная трибуна
все равно имеется проблема догматического свойства: третье лицо принципиально не способно нарушить относительное субъективное право103. Более того, очень часто будет совершенно непонятно, какое именно объективное право им нарушено104.
В этом смысле разрешение вопроса об условиях деликтной ответственности в российском праве (особенно в связи с проблемой обоснования защиты чисто экономического интереса), возможно, потребует не только отказа от такого условия деликтной ответственности, как противоправность, но и смещения акцентов в обсуждении вопроса объекта причинения вреда с полным изменением концептуального подхода к понятию вреда.
Справедливости ради следует отметить и другой путь, встречающийся в литературе, а равно в судебной практике стран романской группы континентальной правовой семьи, — это конструкция абсолютного права на относительное право. Данная альтернатива берет свое начало в римском праве, которое делило вещи на телесные (corporales) и бестелесные (incorporales), понимая под последними именно права105. Конструкция «право на право» допускает существование абсолютного правоотношения между кредитором в обязательстве и неограниченным кругом третьих лиц, защищаемого посредством деликтного права106.
Не имея возможности в контексте настоящей статьи отвлекаться на дискуссию между сторонниками упомянутой конструкции и ее противниками, укажем только, что в контексте решения вопроса об использовании деликтного права для защиты чисто экономических интересов данный путь ведет в тупик, поскольку не дает универсальной конструкции защиты чисто экономических интересов в ситуации нарушения других ожиданий, не связанных с какими-либо абсолютными или относительными правами107. К тому же признание абсолютного права на право относительное привело бы к появлению ничем не ограниченной обязанности воздерживаться от любых действий, которые так или иначе умаляли бы ценность этого относительного права, что автоматически открывало бы проблему «прорыва
103См.: Гутников О.В. Указ. соч.
104«В цивилистической литературе традиционно считается, что противоправным является поведение, нарушающее нормы объективного права» (Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Указ. соч. С. 18). См. также: Агарков М.М. Обязательства из причинения вреда // Избранные труды по гражданскому праву в 2 т. Т. 2. С. 464. Однако «противоправным признается поведение, если лицо, во-первых, нарушает норму права и, во-вторых, одновременно нарушает субъективное право конкретного лица. Например, неосторожно брошенным металлическим предметом гражданин причинил увечье другому гражданину. В результате были нарушены нормы объективного права о защите жизни и здоровья человека и одновременно субъективное право потерпевшего на здоровье» (Российское гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. Т. 2. С. 1084).
105См.: Байбак В.В. Обязательственное требование как объект гражданского оборота: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 23.
106См.: Rudokvas A. Trust and Fiduciary Ownership in Russia // KLRI Journal of Law and Legislation. 2017. Vol. 7. No. 2. P. 60.
107Некоторые виды рикошетных убытков, информационных убытков (недостатки профессиональных советов) и т.п.
145

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
плотины»108. Для того чтобы избежать известных негативных последствий для здорового экономического оборота, с которыми столкнулись западные правопорядки на пути признания чисто экономических потерь, необходимо было бы ввести множество сложных исключений из общего правила абсолютной защиты относительных прав. А если так, то в чем ценность такой конструкции?
Как бы то ни было, мы считаем, что ключевое значение должно иметь не само по себе субъективное право, а именно цель существования такого права, которое является в действительности всего лишь возможностью осуществления признаваемого (и закрепленного) правопорядком за определенным лицом конкретного интереса109. Именно категория интереса поддерживает движение в гражданском обороте. Ни гражданские права, искусственно взятые сами по себе, ни даже объекты гражданских прав не имеют никакого смысла, если в их обладании и использовании не обнаружится чей-то интерес. Субъективное право же возникает тогда, когда определенных редких благ меньше, чем людей с интересами в использовании этих благ. Как следствие, необходим механизм закрепления благ как своих за соответствующим лицом и отторжение всех иных лиц, которые должны относиться к данным благам как к чужим. Таким маркером состояния «свой/чужой» и будет субъективное право, которое является предпосылкой самой возможности последующего распределения благ (оборота).
Таким образом, и блага (объекты гражданских прав), и субъективные права являются не более чем средствами удовлетворения правомерных интересов субъектов. В этом смысле мы получаем дополнительный подуровень в структуре правоотношения, который служит отправной и в то же время объединяющей точкой для любых субъективных гражданских прав и даже правомерных ожиданий.
Можно привести аналогию из области физики: любые объекты материальной действительности состоят из элементарных частиц. Таких частиц довольно много, однако, по признанию специалистов в области микромира, современная физика обратила свое пристальное внимание на набирающую популярность теорию струн как единственно продуктивную объяснительную модель всего сущего. Струны рассматриваются как первопричины, колебания которых создают многообразие мира110.
Таким же образом мы относимся и к категории интереса как первопричине правового мира. Изменения интересов влекут за собой и последующее разнообразие правовой действительности. Но поскольку интерес локализован исключительно на стороне управомоченного лица (носителя интереса), судить о его наличии и содержании можно лишь весьма типизировано (т.е. следуя неким типичным шаблонам, при этом допускающим отклонение), а сам субъективный интерес связан с конкретным благом, наличным (применительно к абсолютному праву) или будущим (примени-
108См.: Koziol Н. Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective. P. 875; Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 16–21; Pure Economic Loss. P. 43.
109Ср. с теорией интереса Р. Йеринга: Магазинер Я.М. Избранные труды по общей теории права. СПб., 2006. С. 154–159.
110См.: Грин Б. Элегантная вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории / пер. с англ.; общ. ред. В.О. Малышенко. М., 2004. С. 19.
146

Свободная трибуна
тельно к праву относительному, а также состоянию правомерного ожидания), посредством которого и происходит удовлетворение данного интереса, и никак иначе.
Например, относительное право требования — это лишь форма (способ) удовлетворения интереса, который может быть неожиданно разнообразным. В одном случае мы увидим интерес субъекта в получении соответствующего блага от обязанного субъекта, использовании его по назначению (потребительская ценность будущего блага), а в другом — в возможности совершить обмен (меновая ценность). При этом и должник может быть один и тот же, и право требования имеет неизменное содержание. Меняется лишь интерес, который может быть реализован посредством данного относительного права и вполне может быть оценен в денежном выражении. Соответственно, при общей невозможности нарушить относительное субъективное право со стороны третьих лиц мы без труда замечаем, что интерес, лежащий в основании такого субъективного права, более чем уязвим при вмешательстве третьих лиц, умаляющем его ценность, а значит, допустима и постановка вопроса о случаях и пределах защиты такого интереса111.
Однако если мы выходим на такой уровень, на котором защите подлежат не субъективные права, а уже интересы, то следует четко понимать различия в природе того или иного интереса. Права на жизнь, свободу и собственность имеют довольно четкие контуры, они легко определимы. Относительные права не всегда имеют четкие границы, и их содержание изменяется от случая к случаю. Тем более это касается правомерных ожиданий, при которых чисто экономические интересы оказываются далеко не столь очевидными. Более того, становится понятно, что уровень защиты может зависеть от ценности интереса.
Возможно, стоит согласиться с теми авторами, которые считают, что ценность интереса в неприкосновенности личности является самой высокой. Интерес владения, пользования и распоряжения собственностью чуть ниже. Что же касается шанса получения будущей прибыли, то такие интересы должны находиться на еще более низкой ступени. Но если ценность последнего рода интересов ставить в один ряд (в рейтинге) с ценностью интересов, опосредуемых абсолютными правами, то отсутствие их четких и очевидных контуров неизбежно приведет к ограничению экономической свободы участников гражданского оборота и необоснованному появлению широких обязанностей duty of care, стесняющих не менее уважаемые интересы всех третьих лиц. По этой причине становится ясно, что защита таких интересов обязательно должна быть ограничена112.
Учитывая все сказанное, совершенно непринципиально, какую общую модель деликтной защиты мы изберем (французскую, германскую или какую-то иную), поскольку все равно необходимо изучить все известные возражения на пути безграничной защиты чисто экономических интересов — как в случае генерального
111О.В. Гутников рассматривает относительное право как самостоятельную ценность и пишет, что если рассматривать имущественное право как принадлежащее определенному лицу благо, имеющее денежную оценку, то очевидно, что этому благу может быть причинен ущерб (вред) в виде его уничтожения или уменьшения его стоимости (см.: Гутников О.В. Указ. соч.).
112См.: Koziol Н. Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective. P. 877–878. См. также: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 21–22; Pure Economic Loss. P. 47.
147

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
деликта (придумав действенные ограничители такой ответственности, например внятную и предсказуемую теорию причинной связи), так и в случае сингулярного деликта (разработав широкий перечень специальных деликтов посредством судебного творческого расширительного толкования понятия «имущество», разработки доктрины нарушения принципа добросовестности и снижения стандарта доказывания убытков и причинной связи).
Надлежит исследовать весь накопленный опыт зарубежных правопорядков в данном вопросе и просчитать долгосрочный позитивный и негативный регуляторный эффект от появления защиты тех или иных видов чисто экономических потерь. Совершенно не очевидно, что нам нужна защита таких потерь вообще, а не в особых крайне вопиющих случаях. Соответственно, не очевидно, что нам подойдет французская модель генерального деликта, хотя формально-юридически п. 1 ст. 1064 ГК РФ создает необходимые предпосылки.
Помимо изложенных выше сомнений, нельзя забывать о том, что принцип генерального деликта сможет адекватно работать только в условиях развитого и свободного суда. Во Франции «каучуковые» нормы ст. 1240 (1382 в старой редакции) и 1241 (1383 в старой редакции) ФГК свидетельствуют, что вопрос формирования случаев, условий и пределов ответственности был отдан законодателем непосредственно судебной власти. Готова ли наша судебная система (а) определить, какие именно интересы должны быть защищены; (б) справиться с возможным потоком судебных исков о возмещении реальных или надуманных чисто экономических убытков; (в) выработать не запретительные, но адекватные каждой конкретной ситуации критерии возмещения вреда; (г) исключить компрометацию института защиты чисто экономических убытков посредством недобросовестности истцов иным образом, нежели просто выставить непосильно высокие стандарты доказывания; (д) обеспечить единообразие судебной практики по схожим делам; (е) творчески изменить настройки вины для случаев взыскания чисто экономических убытков, поскольку имеющаяся у нас общая презумпция вины делинквента является абсолютно не адекватной защите чего-либо иного, кроме объектов абсолютных прав; (ж) настроить механизм защиты чисто экономического интереса настолько тонко, чтобы не загубить всякую свободу экономической деятельности и прочего самовыражения?
На эти и многие другие вопросы удовлетворительных ответов пока нет. Вместе с тем немецкий путь не менее тернистый, поскольку квазидоговорная защита, вопервых, выступает естественной реакцией на недостатки деликтного права (в этом смысле у нас меньше формальных проблем), а во-вторых, является плодом опятьтаки доктрины и судебной практики. Насколько адекватной можно признать мысль, что наша судебная система в состоянии придумать и безболезненно внедрить, например, что-то подобное договору с охранительным эффектом в пользу третьих лиц? Помимо этого, для договорной конструкции защиты чисто экономических потерь явно не хватает условий. Например, для возмещения убытков у нас требуется нарушение какого-либо права (ст. 10, 15 ГК РФ), однако в ряде случаев будет совершенно непонятно, какое именно право нарушено. Не менее любопытная проблема с безвиновной ответственностью предпринимателей (п. 3 ст. 401 ГК РФ), что само по себе очень странно и даже опасно в огромном числе примеров причинения чисто экономических потерь. Также загадочна ситуация и с характе-
148

Свободная трибуна
ром защищаемого интереса, поскольку, как мы знаем, в договорном праве защищается позитивный интерес.
Все эти и многие другие вопросы гарантированно станут сильными аргументами в руках судей, чтобы в подавляющем числе случаев не видеть либо причинно-след- ственную связь между поведением ответчика и чисто экономическими убытками истца, либо достаточную степень доказанности размера этих убытков.
Некоторые общие выводы анализа допустимости защиты чисто экономического интереса
В начале нашей статьи мы поместили эпиграф, взятый из ст. 4 Декларации прав человека и гражданина. Эти слова являются для нас, скорее, красивым лозунгом, чем реальным эталоном, мерилом правомерного поведения в обществе. Нужно честно отдавать себе отчет в том, что рыночная модель экономики априори предполагает получение умышленной экономической выгоды за счет конкурентов (в ущерб им)113. Другое дело, что следует выстраивать разумную систему критериев допустимости такой объективно вредоносной деятельности. Они должны быть понятны и предсказуемы для всех участников оборота. Одним из таких возможных, причем самых грубых, критериев является запрет злоупотребления правом как одно из проявлений принципа добросовестности. Помимо откровенной шиканы, упречным можно считать такое экономически вредоносное поведение, которое преследует пусть и вполне определенную хозяйственную цель, но несоразмерными средствами для ее достижения. Причем настройки защитных механизмов должны быть очень тонкими, чтобы не подорвать всякую здоровую конкуренцию и стремление к росту экономического благосостояния.
Снова напомним, что в либеральных версиях деликтного права мы не заметим принципиальных трудностей в защите чисто экономических интересов, в то время как в консервативных правовых системах преимущественную защиту получают абсолютные блага, среди которых мы не найдем места чисто экономическим интересам. Для защиты некоторых экономических интересов используются обходные пути судебной практики, например путем расширения сферы применения договорного права. Что касается прагматических правовых систем, то вопрос широты деликтного регулирования не имеет значения, поскольку применяется индивидуальный подход, при котором изучаются социально-экономические последствия предоставления компенсации за чисто экономические потери в конкретном случае114.
113См.: Pure Economic Loss. P. 21.
114В Англии и Германии общее настороженное отношение к проблеме защиты чисто экономических интересов подвергается постоянному воздействию со стороны судебной практики, готовой искать сильные аргументы в пользу расширения случаев защиты. Этот вопрос особенно интересен, если он рассматривается на фоне французского права (и ему подобных), где применен обратный (либеральный) подход, однако ни к каким катастрофическим последствиям (в понимании английских и немецких юристов) это не привело. См.: Markesinis B., Unberath H. The German law of contract. P. 52; Туктаров Ю.Е. Указ. соч. С. 8.
149

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Встречающееся настороженное отношение к защите чисто экономических интересов предопределено большим количеством самых разных аргументов.
Риск столкнуться с требованиями компенсации вреда за чисто экономические потери довольно сложно предвидеть, и это может вызвать повышенную нестабильность экономического оборота, который заметно затормозится из-за необходимости более тщательной оценки последствий того или иного экономического шага в хозяйственной деятельности. Кроме того, данные безграничные риски потенциально не способны быть полностью заложены в цену перемещаемого блага. Однако данный аргумент хотя и силен, но не абсолютно верен, поскольку очевидно, что и некоторые случаи физического вреда весьма сложны в плане прогнозирования последствий, но это не является поводом к отказу в защите нарушенных интересов115.
Иногда выдвигают аргумент, заключающийся в том, что нематериальные ценности не должны рассматриваться на том же уровне, что и физическая целостность или собственность. Считается, что бóльшая защита свойственна для материального имущества. Такое неравенство в ценностной иерархии не всегда просто объяснить, особенно если заметить, что преднамеренно причиненные чистые экономические потери, как правило, возмещаются практически повсеместно116.
Еще одно встречающееся возражение связано с предположением о появлении ничем не ограниченной ответственности. В условиях глубокой связанности участников рыночного оборота возможность возмещения чисто экономического вреда может породить цепную реакцию последовательных исков, что приведет не только к возложению на ответчиков чрезмерного бремени несения неопределенных рисков, но и к обрушению судебной системы117. Тем не менее, как мы знаем, в тех европейских правовых системах, в которых такие и ему подобные предрассудки не возымели действие, никаких тяжелых последствий не было. Более того, отказ в защите от чисто экономических убытков создает ситуацию постоянной недокомпенсации потерь и желание переложить ответственность за действия третьих лиц на сторону в контракте (когда бы имели место договорные отношения). В этом смысле судебные расходы и общая вовлеченность судов в разрешение договорных споров должна увеличиться из-за необходимости постоянного тестирования требований истца на предмет разумности и соразмерности.
Проблеме обоснования возражений против допустимости взыскания чисто экономических убытков и поиска политико-правовых аргументов в пользу такого взыскания посвящена специальная литература. Исследуются общие проблемы
115Например, вред здоровью с отсутствием исковой давности и возможностью неоднократного предъявления требования.
116См.: Faure M. Op. cit. P. 203.
117См.: Koziol Н. Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective. P. 193; Idem. Recovery for economic loss in the European Union. P. 875; Elliot C., Quinn F. Tort law. London, 2011. P. 26; Faure M. Op. cit. P. 204.
150

Свободная трибуна
соотношения частных и социальных потерь и выгод118, полученных в результате причинения вреда чисто экономическим интересам, и разъясняются политикоправовые причины необходимости взыскания по конкретным видам деликтов. В наши задачи не входит специальное изучение данной проблемы, поскольку, например, вопросом экономического анализа деликтного права в контексте чисто экономических убытков следует заниматься отдельно и достаточно основательно. Любые выводы о допустимости, пределах, случаях защиты чисто экономических интересов в отечественном деликтном праве нужно предварять масштабными и очень скрупулезными исследованиями наработанного иностранного опыта решения соответствующих политико-правовых проблем. В этом смысле встречающиеся в литературе аргументы, например обосновывающие взыскание указанных убытков, при всей своей кажущейся разумности всегда надлежит проверять как минимум посредством экономического анализа деликтного права. Можно привести ряд в общем-то разумных, но начальных ориентиров для релевантной дискуссии119. Итак, ответственность за чисто экономические потери становится более справедливой:
1)если снижается риск появления неограниченного числа потерпевших;
2)если уменьшаются возлагаемые защитой экономических интересов дополнительные обязанности проявлять особую внимательность к интересам третьих лиц;
3)если участвующие в споре лица состоят в близких отношениях;
4)если увеличивается вероятность того, что действия других людей будут основываться на неправильном заявлении ответчика;
5)если уменьшаются возможности потенциального потерпевшего защитить себя;
6)если нарушитель знал об экономических интересах потерпевшей стороны или это было очевидно;
7)если причинитель вреда действовал намеренно;
8)если возрастает важность финансовых интересов потерпевшего (например, потеря кормильца и дохода по содержанию потерпевшего);
9)если причинитель вреда действовал в собственных финансовых интересах (например, эксперт за плату выдал ложное заключение).
118Например, встречается мысль, что ответственность за чисто экономические потери должна быть исключена в тех случаях, когда этот ущерб компенсируется выгодами других лиц таким образом, что не создаются какие-либо чистые социальные потери, см.: Bussani M., Palmer V. Op. cit. P. 84.
119См.: Koziol Н. Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective. P. 198–200; Idem. Recovery for economic loss in the European Union. P. 882–885.
151

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
References
Agarkov M.M. Obligations from Causing Harm [Obyazatel’stva iz prichineniya vreda], in: Selected Works on Civil Law [Izbrannye trudy po grazhdanskomu pravu]. In 2 Vols. Vol. 2. Moscow, Statut. 535 p.
Askniaziy S.I. The Main Questions of the Theory of Socialist Law [Osnovnye voprosy teorii socialisticheskogo prava]. Moscow, Statut. 2008. 778 p.
Baibak V.V. Obligatory Requirement as an Object of Civil Turnover: A PhD Thesis in Law [Obyazatel’stvennoe trebovanie kak ob’ekt grazhdanskogo oborota: diss. na soiskanie uchenoi stepeni kand. yurid. nauk]. Saint Petersburg, 2004. 201 p.
Beklenisheva I.V. The Civil Law Contract: The Classical Tradition and Modern Tendencies. [Grazhdansko-pravovoi dogovor: klassicheskaya tradiciya i sovremennye tendentsii]. Moscow, Statut, 2006. 204 p.
Boom W.H., van, Koziol H., & Christian A. Witting Ch.A., eds. Pure Economic Loss. New York, Springer, 2004. 59 p.
Bussani M., Palmer V., eds. Pure Economic Loss in Europe. Cambridge, CUP, 2003. 589 p.
Dam C., van. European Tort Law. 2nd ed. Oxford, OUP, 2013. 601 p.
Egorova M.A., Krylov V.G., Romanov A.K. Tort Obligations and Tort Liability in English, German and French Law: A Textbook [Deliktnye obyazatel’stva i deliktnaya otvetstvennost’ v anglijskom, nemetskom i frantsuzskom prave: uchebnoe posobie]. Moscow, Yustitsinform, 2017. 298 p.
Elliot C., Quinn F. Tort Law. London, Pearson Education Limited, 2011. 416 p.
Erman W. Handkommentar zum BGB. 12. Auflage. Koeln, Otto Schmidt, 2008. 7194 s.
Evstigneev E.A. The Principle of the General Delict: The Current State and Prospects of Application [Printsip general’nogo delikta: sovremennoe sostoyanie i perspektivy primeneniya]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2017. No. 5. P. 55–84.
Faure M. Tort Law and Economics. Cheltenham, Edward Elgar, 2009. 576 p.
Fisher H.D. The German Legal System and Legal Language. London, Cavendish Publishing Limited, 2002. 573 p.
Fleishits E.A. Selected Works on Civil Law [Izbrannye trudy po grazhdanskomu pravu]. 2 Vols. Vol. 2. Moscow, Statut, 2015. 720 p.
Gambarov Yu.S. Civil Law. A Common Part [Grazhdanskoe pravo. Obschaya chast’]. Saint Petersburg, Tipografiya M.M. Stasyulevicha, 1911. 666 p.
Green B. Elegant Universe. Superstrings, Hidden Dimensions and the Search for the Final Theory [Elegantnaya vselennaya. Superstruny, skrytye razmernosti i poiski okonchatel’noi teorii]. Moscow, Editorial URSS, 2004. 290 p.
Gutnikov O.V. Tort Liability for Violation of Relative Rights: Prospects for Development in the Russian Law [Otvetstvennost’ za narushenie otnositel’nyh prav: perspektivy razvitiya v rossijskom zakonodatel’stve]. Statute [Zakon]. 2017. No. 1. P. 22–37.
Heine P. The Economic Way of Thinking [Ekonomicheskiy obraz myshleniya]. Moscow, Catalachsia, 1997. 704 p.
Ioffe O.S. Obligation to Compensate for Harm [Obyazatel’stvo po vozmeshcheniyu vreda]. Leningrad, Izdatelstvo Leningradskogo gosudarstavennogo universiteta, 1951. 110 p.
Koziol H. Recovery for Economic Loss in the European Union. Arizona Law Review. 2006. Vol. 48. No. 4. P. 871–895.
152

Свободная трибуна
Koziol H. Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective. Wien, Jan Sramek Verlag, 2015. 382 p.
Koziol H. Basic Questions of Tort Law from a Comparative Perspective. Wien, Jan Sramek Verlag, 2015. 869 p.
Krivtsov A.S. General Theory of Loss [Obschee uchenie ob ubytkakh]. Yuriev, Tipografiya K. Mattisen, 1902. 109 p.
Maltov S.N., ed. Services: Problems of Legal Regulation and Judicial Practice: Collection of Essays [Uslugi: problemy pravovogo regulirovaniya i sudebnoi praktiki]. Moscow, Wolters Kluwer, 2007. 240 p.
Markesinis B., Unberath H. The German Law of Torts. A Comparative Treatise. Oxford and Portland, Hart Publishing, 2002. 1000 p.
Markesinis B., Unberath H. The German Law of Contract. A Comparative Treatise. Oxford and Portland, Hart Publishing, 2006. 1064 p.
Magaziner Ya.M. Selected Works on the General Theory of Law [Izbrannye trudy po obschej teorii prava]. Saint Petersburg, Yuridicheskiy Tsentr Press, 2006. 352 p.
Planiol M. The Course of French Civil Law. Part 1: Theory of Obligations [Kurs frantsuzskogo grazhdanskogo prava. Chast’ 1: Teoriya ob obyazatel’stvakh]. Petrokov, Tipografiya S. Panskogo, 1911. 1004 p.
Ranieri F. Europaeisches Obligationenrecht Ein Handbuch mit Texten und Materialien. Wien, Springer, 2009. 2058 p.
Rudokvas A.D. Some Problems with the Application of Art. 431.2 Civil Code of the Russian Federation in Connection with the Principle of Good Faith [Nekotorye problemy primeneniya st. 431.2 GK RF v svyazi s printsipom dobrosovestnosti]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2017. No. 2. P. 31–47.
Rudokvas A.D. Infringement of Duties of Information: Pre-Contractual Liability, Representations, Warranties and Indemnity [Narushenie obyazannostej informirovaniya: preddogovornaya otvetstvennost’, zavereniya i garantii vozmeshcheniya poter’]. The Herald of Economic Justice of the Russian Federation [Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiiskoi Federatsii]. 2016. No. 11. P. 57–79.
Rudokvas A. Trust and Fiduciary Ownership in Russia. KLRI Journal of Law and Legislation. 2017. Vol. 7. No. 2. P. 43–70.
Sergeev A.P., ed. Civil Law: A Textbook [Grazhdanskoe pravo: uchebnik]. 3 Vols. Vol. 3. Moscow, RGPr, 2012. 800 p.
Shevchenko A.S., Shevchenko G.N. Tortual Obligations in the Russian Civil Law: A Textbook [Deliktnye obyazatel’stva v rossiiskom grazhdanskom prave: uchebnoe posobie]. Moscow, Statute, 2013. 136 p.
Sukhanov E.A., ed. Russian Civil Law: A Textbook [Rossiiskoe grazhdanskoe pravo: uchebnik]. Vol. 2. Moscow, Statut, 2011. 1208 p.
Tuktarov Yu.E. Pure Economic Losses [Chisto ehkonomicheskie ubytki] (Available at «Consultant Plus»).
Zweigert K., Koetz H. Introduction to Comparative Jurisprudence in the Field of Private Law [Vvedenie v sravnitel’noe pravovedenie v sfere chastnogo prava]. 2 Vols. Vol. 2. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya, 1998. 512 p.
Information about the author
Radik Lugmanov — Lawyer, PhD Student at the Saint Petersburg State University (e-mail: lugmanov-radik@rambler.ru).
153
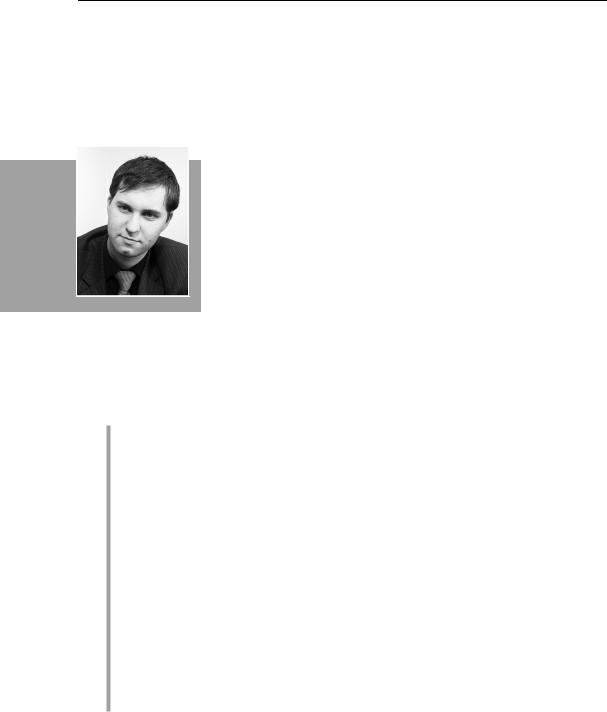
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Антон Валерьевич Ильин
профессор юридического факультета НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), доктор юридических наук
Обратная сила решений Конституционного Суда и исполненность судебных актов
Возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, расходящихся с позициями Конституционного Суда, подчиняется критерию, выработанному в практике КС РФ, согласно которому судебные акты могут быть пересмотрены по новым обстоятельствам по заявлению лиц, не участвовавших в конституционном судопроизводстве, только если эти судебные акты не исполнены или исполнены частично. Однако содержание данного критерия до сих пор не выяснено. Что означает исполнение применительно к судебным актам, не требующим принудительного исполнения? В статье аргументируется, что критерий исполненности в данном случае следует толковать широко: судебный акт должен считаться неисполненным только тогда, когда, несмотря на вступление его в силу, его правовой эффект не реализовался в полном объеме (не была достигнута цель, составляющая содержание иска). Под критерий исполненности судебных актов попадает только один случай: когда вступившим в законную силу судебным актом, который основан на положении закона, впоследствии признанным Конституционным Судом неконституционным прямо или опосредованно, на лицо возложена обязанность что-либо дать, сделать или предоставить, а это лицо, не участвовавшее в конституционном судопроизводстве, такую обязанность не исполнило.
Ключевые слова: пересмотр судебных актов по новым обстоятельствам, Конституционный Суд, законная сила судебного решения
154

Свободная трибуна
Anton Ilyin
Professor of the Higher School of Economics, Doctor of Laws
Retroactive Effect of the Decisions of the Constitutional Court and the Execution of Judicial Acts
The possibility of revising judicial acts that have entered into legal force and that differ from the positions of the Constitutional Court is subject to the criterion developed in the practice of the Constitutional Court, according to which judicial acts may be reviewed for new circumstances at the request of persons who did not participate in the constitutional proceedings only if these judicial acts are not executed or are partially executed. However, the content of this criterion has not yet been clarified. What does execution mean in relation to a judicial act that does not require execution? The article argues that the criterion of execution in this case should be interpreted independently: a judicial act should be considered as non-executed (partially executed) only when, despite its entry into force, its legal effect has not been fully realized (the purpose constituting the content of the claim was not achieved). Only one case falls under the criterion of the execution of judicial acts: when a judicial act that has entered into force, based on the provision of the law, is subsequently recognized by the Constitutional Court as unconstitutional directly or indirectly, the person is obliged to give, do, or provide something, and this person who did not participate in the constitutional proceedings did not fulfill this obligation.
Keywords: revision of the judicial act on new circumstances, Constitutional Court, legal force of a court decision
Введение в процессуальный закон такого нового обстоятельства, являющегося основанием для пересмотра судебных актов, как признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного судом в конкретном деле, вызвало огромное количество практических проблем, которые обсуждаются не один год1: какие именно судебные акты могут быть пересмотрены в связи с данным новым обстоятельством? существуют ли для этого специальные условия? есть ли вообще какие-либо пределы для придания решению
КС РФ обратной силы?
Первое место по сложности и запутанности и вместе с тем по уровню практической значимости, бесспорно, занимает вопрос о том, в чем состоит критерий возможности пересмотра судебных актов для лиц, которые не были участниками конституционного судопроизводства, но чьи дела также разрешены на основании актов, признанных неконституционными? Нетрудно заметить, что вышеперечисленные глобальные вопросы можно свести к этому, с первого взгляда кажущемуся частным и не заслуживающим внимания, поскольку от того, может ли решение КС РФ служить основанием для пересмотра аналогичных дел, зависят ответы на все вопросы об объективных и субъективных пределах обратной силы решения Конституционного Суда. Именно поэтому он и будет подвергнут анализу в настоящей статье.
1См., напр.: Иванов А.А. Седьмая инстанция? // Вестник экономического правосудия РФ. 2017. № 4. С. 86–92; Кальяк А.М. Отдельные вопросы исполнения решений Конституционного Суда РФ в правоприменительной практике // Российская юстиция. 2013. № 9. С. 36–38; Сивицкий В.А. Некоторые аспекты значения принятия постановления Конституционного Суда Российской Федерации для судебной практики // Судья. 2017. № 12. С. 47–54.
155

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
В соответствии с ч. 2 ст. 100 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее — Закон о КС РФ) в случае, если КС РФ принял постановление о признании нормативного акта соответствующим Конституции РФ в данном Конституционным Судом истолковании или не соответствующим Конституции РФ, данное дело подлежит пересмотру компетентным органом в обычном порядке.
Буквальное толкование приведенного положения Закона о КС РФ говорит о том, что вследствие принятия Конституционным Судом постановления (и только постановления) пересмотру может подлежать только то дело, по которому заявитель обращался в Конституционный Суд, и только этого заявителя.
Из этого же исходят и ГПК и АПК РФ. В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ и п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ к новым обстоятельствам, являющимся основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, относится признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Конституционный Суд РФ.
Такого же мнения придерживается и Верховный Суд РФ. В подп. «д» п. 5 и подп. «в» п. 11 постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» вслед за законом указывается на то, что заявитель может сослаться на постановление Конституционного Суда как на новое обстоятельство
впорядке главы 42 ГПК РФ, только если такое постановление принято по делу,
вкотором участвовало это лицо. Ранее Пленум ВАС РФ также допускал возможность пересмотра судебного акта по рассматриваемому основанию только по тому делу, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался
вКС РФ (п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам»).
Несмотря на приведенные в целом прозрачные нормы, Конституционным Судом РФ выработаны иные позиции в отношении вопроса о том, могут ли (и если да, то в каком случае) лица, не участвовавшие в конституционном судопроизводстве по конкретному делу, использовать решение КС РФ по этому делу в качестве нового обстоятельства для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу, по делам этих не участвовавших в конституционном судопроизводстве лиц. При этом в большинстве случаев суды, ориентируясь на положения ст. 79 Закона о КС РФ, руководствуются при установлении в порядке главы 37 АПК РФ и главы 42 ГПК РФ наличия или отсутствия нового обстоятельства именно позициями Конституционного Суда.
Правовая позиция относительно возможности пересмотра по новым открывшимся обстоятельствам судебных постановлений — в связи с вынесением решения КС РФ — по обращениям лиц, не являвшихся участниками конституцион-
156

Свободная трибуна
ного судопроизводства, была впервые сформулирована КС РФ в определении от 14.01.1999 № 4-О. До сих пор это решение Конституционного Суда является ключевым в рассматриваемой сфере.
Конституционный Суд указал, что на граждан, которые не участвовали в конституционном судопроизводстве, но чьи дела также были разрешены на основании актов, признанных неконституционными, распространяется положение ч. 3 ст. 79 Закона о КС РФ, в соответствии с которым решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленных федеральным законом случаях, т.е. с использованием закрепленных другим законодательством материально-правовых оснований и процессуальных институтов. Для защиты прав заявителей по этим делам могут использоваться все предусмотренные отраслевым законодательством судебные процедуры, включая как судебный надзор, так и пересмотр по вновь открывшимся (новым) обстоятельствам.
В данном определении Конституционный Суд прямо указал на то, что ст. 100 Закона о КС РФ не содержит препятствий для пересмотра решений правоприменительных органов в отношении лиц, не являвшихся заявителями по делу, рассмотренному Конституционным Судом, если эти решения были основаны на акте, признанном в результате рассмотрения данного дела неконституционным.
Указанная позиция Конституционного Суда получила развитие в определении от 05.02.2004 № 78-О, принятом по ходатайству ВАС РФ об официальном разъяснении определения КС РФ от 14.01.1999 № 4-О. В п. 3 этого определения говорится, что вывод КС РФ о том, что юридическим последствием решения Конституционного Суда о признании акта неконституционным является утрата им силы на будущее, не означает, что постановление КС РФ не обладает обратной силой. Из положений ч. 3 ст. 79 и ч. 2 ст. 100 Закона о КС РФ следует, что постановление Конституционного Суда обладает обратной силой в отношении дел обратившихся в Конституционный Суд граждан, объединений граждан (организаций), а также в отношении неисполненных решений, вынесенных до принятия такого постановления. Правоприменительные решения, основанные на признанном неконституционным акте, по делам лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства, подлежат пересмотру в установленных федеральным законом случаях. Это касается как не вступивших, так и вступивших в законную силу, но не исполненных или исполненных частично решений.
Итак, впервые появляется критерий для пересмотра по новым обстоятельствам судебных постановлений на основании решения Конституционного Суда РФ по заявлениям лиц, не участвовавших в конституционном судопроизводстве, — такому пересмотру могут подвергнуться только неисполненные или исполненные частично решения судов.
В дальнейшем эта позиция Конституционного Суда широко тиражировалась в его многочисленных решениях (определения КС РФ от 27.05.2004 № 211-О, от 12.05.2006 № 135-О, от 01.06.2010 № 783-О-О, от 25.01.2012 № 178-О-О, от 10.10.2013 № 1496-О и др.).
157

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
На вопрос о том, какие решения являются исполненными (или частично исполненными), а какие нет, КС РФ никогда прямого ответа не давал, оставляя его открытым. Учитывая, что использованный Конституционным Судом критерий законодательству неизвестен и введен исключительно решением самого Суда, для разрешения данного вопроса допустимо предложить два подхода: а) понятие «исполнение решения» должно раскрываться исключительно с точки зрения действующего процессуального законодательства; б) понятие «исполнение решения» может пониматься автономно, учитывая предназначение придания решению Конституционного Суда обратной силы.
Намек на то, что признание решений судов исполненными должно осуществляться в русле процессуального законодательства, содержится в ст. 98 Закона о КС РФ,
вкоторой говорится о том, что Конституционный Суд, приняв к рассмотрению жалобу на нарушение законом конституционных прав и свобод граждан, уведомляет об этом суд, принявший последнее судебное постановление по делу заявителя,
вкотором применен обжалуемый закон, и соответствующий суд может приостановить исполнение судебного постановления или производство по делу до принятия Конституционным Судом РФ постановления. Поскольку речь в этом случае идет о процессуальной деятельности суда, действующего в рамках гражданского или уголовного судопроизводства, то и приостановление исполнения судебного постановления будет подчиняться правилам об исполнении, предусмотренным процессуальными кодексами (ст. 215, ч. 1 ст. 381, ч. 1 ст. 391.5, ст. 436 ГПК РФ, ст. 143, 283, 291.6, ч. 1 ст. 327 АПК РФ, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 323, ч. 2 ст. 327, ч. 1 ст. 359 КАС РФ, ст. 39 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; далее — Закон об исполнительном производстве).
В гражданском судопроизводстве традиционно, когда говорят об исполнимости решения суда, имеют в виду свойство законной силы, присущее только решениям по искам о присуждении. Причина в том, что целью именно этих исков является принудительная реализация прав требования, которые иным образом при противодействии должника реализованы быть не могут. В случае удовлетворения иска истец (теперь уже взыскатель) вправе требовать от государства содействия в реализации того, что ему присудил суд. Это право на содействие в исполнении решения служит составной частью права на судебную защиту, и содействие заключается в активных действиях специально уполномоченных лиц, направленных на то, чтобы заставить должника предоставить, сделать в пользу взыскателя то, что дóлжно по судебному акту, или заставить должника не мешать реализации права взыскателя тогда, когда реализовать свое право взыскатель может только и исключительно при отсутствии противодействия со стороны должника. Если должник самостоятельно осуществляет то, к чему обязан по судебному решению, то говорят о добровольном исполнении (авторитет судебного акта заставил должника действовать так, как он без судебного акта не хотел). Содействие, всегда предполагающее необходимость, когда это требуется взыскателю, совершения активных действий со стороны органов принудительного исполнения, называют принудительным исполнением судебного акта. Поскольку активные действия органов принудительного исполнения, равно как и добровольное совершение должником того, к чему он был присужден, требуются только для реализации решений суда по искам о присуждении, которые как раз и обязывают ответчика к определенным действиям или воздержанию от их совершения, то об исполнимости как свойстве законной
158

Свободная трибуна
силы решения суда можно вести речь только применительно к решениям по искам о присуждении.
Напротив, цель истца при предъявлении им иска о признании (требование состоит в установлении наличия или отсутствия права) или преобразовательного иска (требование состоит в создании, изменении и прекращении юридических отношений) достигается самим вступлением в законную силу решения суда, действию которого вследствие природы ставшего предметом судебной деятельности по данному делу требования, не предполагающего для своей реализации содействия ответчика, ответчик помешать просто не в силах. Раз содействия ответчика для реализации решения суда не требуется, то и говорить о добровольном или принудительном исполнении таких решений в том же смысле, что и для решения по искам о присуждении, нельзя.
Из такого традиционного понимания исполнения исходит и процессуальное законодательство. В соответствии со ст. 210 ГПК РФ, ч. 1 ст. 182 АПК РФ, ст. 187 КАС РФ решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным законом. Таким законом в настоящее время является Закон об исполнительном производстве. Согласно его ч. 1 ст. 1 принудительному исполнению подлежат судебные акты, возлагающие на иностранные государства, физических лиц, юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо по совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.
На исполнение судебных актов, резолютивная часть которых содержит требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества либо по совершению в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий (ст. 205, 206, 211 ГПК РФ, ст. 171, 174 АПК РФ, ч. 1 ст. 352 КАС РФ, п. 6 ч. 1 ст. 13 Закона об исполнительном производстве), судом выдается исполнительный лист (ст. 428 ГПК РФ, ч. 2 ст. 318 АПК РФ, ч. 2 ст. 352 КАС РФ), на основании которого и возбуждается исполнительное производство (ч. 1 ст. 30 Закона об исполнительном производстве).
Следовательно, и с точки зрения процессуального законодательства подлежать исполнению могут только судебные решения, которыми на должника возлагается обязанность что-либо делать или не делать, т.е. решения об удовлетворении иска о присуждении. Решения же судов по искам о признании, преобразовательным искам, решения об отказе в удовлетворении иска о присуждении, определения о прекращении производства по делу, оставлении заявления без рассмотрения и т.д. принудительному исполнению не подлежат, поскольку на органы принудительного исполнения в данном случае никаких обязанностей по содействию в реализации этого решения не возлагается: с позиций законодательства об исполнительном производстве в данном случае невозможно говорить о том, что названные судебные акты «не исполнены» или «частично исполнены», поскольку исполнять (в смысле заставлять кого-либо что-то дать, сделать или предоставить) просто нечего.
159

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Означает ли это, что перечисленные судебные акты нельзя приравнять к исполненным решениям с точки зрения исследуемого критерия для применения п. 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ?
Из того, что, к примеру, решение об отказе в удовлетворении иска о присуждении не подлежит принудительному исполнению, может быть сделано два противоположных вывода. С одной стороны, такие решения можно считать неисполненными, поскольку их нельзя исполнить. С другой стороны, их можно считать исполненными, потому что их не требуется исполнять. Для иллюстрации этого положения можно привести фразу, описывающую две противоположные ситуации. Так, выражение «эту дверь невозможно открыть» может означать как то, что дверь закрыта, при этом в ней сломан замок и поэтому туда невозможно попасть, так и то, что дверь открыта и потому еще раз ее открыть нельзя.
С точки зрения процессуального законодательства этот семантико-логический парадокс бессмыслен, поскольку между обозначенными подходами нет никакой разницы — процессуальные последствия в виде принудительного исполнения для них будут совершенно одинаковыми (принудительное исполнение невозможно). Если решение суда не подлежит принудительному исполнению, говорить о том, является ли это решение все-таки исполненным, также бессмысленно. Между тем Конституционный Суд РФ для целей пересмотра согласно п. 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ требует применять критерий исполненности/неисполненности решений к любым решениям.
Это заставляет предположить, что понятие исполненности/неисполненности решений судов, используемое КС РФ как критерий допустимости пересмотра судебных актов для лиц, которые не участвовали в конституционном судопроизводстве, но чьи дела также разрешены на основании актов, признанных неконституционными, может толковаться автономно, сообразно той цели, которую преследовал Конституционный Суд при его введении.
Цель введения Конституционным Судом РФ этого критерия вполне прозрачна — защитить принцип правовой определенности, не допуская неограниченный пересмотр вступивших в законную силу судебных актов, вынесенных в разное время, и в то же время создать условия для пересмотра судебных актов, принятых по делам, аналогичным рассмотренному Конституционным Судом, и находящихся в противоречии с позицией Суда. Конечно же, здесь содержится противоречие: институт пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам как таковой несовместим с принципом правовой определенности, ведь он предназначен в неопределенный период лишать дефектный судебный акт законной силы, а значит, и аннулировать вызванные им правовые последствия. В то же время этот институт создает условия для реализации конкурирующих с принципом правовой определенности и не менее важных конституционных ценностей, к примеру права каждого на судебную защиту или интересов правосудия в целом, в связи с чем ни он, ни составляющие его элементы не могут считаться неконституционными сами по себе (только исходя из их предназначения подрывать законную силу судебного решения без ограничения сроков для такого разрушительного действия).
160

Свободная трибуна
Как указал КС РФ в постановлении от 19.03.2010 № 7-П, введение федеральным законодателем пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам в качестве способа их проверки направлено на предоставление дополнительных процессуальных гарантий лицам, участвующим в деле, что не устраняет необходимости распространения на данную процедуру общего правила о соблюдении баланса конституционно значимых ценностей. Поскольку вторжение в сферу действия принципа стабильности судебного решения, вступившего
взаконную силу, может существенно изменить правовое положение сторон, уже определенное таким решением, в том числе в сторону его ухудшения, закрепление
взаконе экстраординарных способов обжалования вступивших в законную силу судебных постановлений требует установления специальной процедуры открытия соответствующего производства, ограниченного перечня оснований для отмены таких судебных постановлений, которые не могут совпадать с основаниями для отмены судебных постановлений в ординарном порядке, а также закрепления особых процессуальных гарантий для защиты частных и публичных интересов от их необоснованной отмены.
Поэтому, обсуждая содержание и пределы действия такого конкретного основания для пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам, как признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного судом в конкретном деле, необходимо задаваться вопросом о том, насколько пределы его действия для такого пересмотра и стоящие за ними конституционные нормы и ценности с конституционных позиций заслуживают того, чтобы ограничить действие принципа правовой определенности.
В случае с таким основанием, как признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного в конкретном деле (п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, п. 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ), этими ценностями являются верховенство Конституции РФ (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ) и принцип равенства (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ) применительно к реализации права на судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ).
Необходимость пересматривать вступившие в законную силу судебные постановления, основанные на норме закона, впоследствии признанной Конституционным Судом РФ не соответствующей прямо или опосредованно Конституции РФ, обусловлена тем, что подобный пересмотр является единственным способом устранить действие через такие неотмененные судебные постановления неконституционных норм, а значит, гарантией реализации принципа верховенства Конституции РФ, согласно которому она имеет высшую юридическую силу и законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны ей противоречить (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ).
В постановлении КС РФ от 16.03.1998 № 19-П указывается на то, что решения Конституционного Суда, в результате которых неконституционные нормативные акты утрачивают силу, имеют такую же сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как решения нормотворческого органа. В определении КС РФ от 05.02.2004 № 78-О отмечается, что юридическим последствием решения Конституционного Суда о признании неконституционными акта или его отдельных положений либо акта или его отдельных положений с учетом смысла, который им
161

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
придан сложившейся правоприменительной практикой, является утрата ими силы на будущее. Это означает, что с момента вступления в силу решения КС РФ такие акты не могут применяться и реализовываться каким-либо иным способом.
Соответственно, главный принцип действия позиций Конституционного Суда РФ — это действие на будущее время. Поэтому Закон о КС РФ в вопросе о пересмотре судебных постановлений на основе решения Конституционного Суда (а в этом и проявляется обратная сила решения КС РФ) идет на компромисс, допуская возможность пересмотра судебных постановлений только в отношении тех лиц, по жалобе которых Конституционный Суд и вынес постановление. Как указано в определении КС РФ от 14.01.1999 № 4-О, такое регулирование направлено на поощрение правовой активности граждан, способствующей устранению из действующего законодательства неконституционных норм и, следовательно, на защиту от нарушений прав и свобод других лиц.
Принцип правовой определенности выражается, в частности, в том, что участники правоотношений должны иметь возможность в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав и обязанностей. С этим принципом согласовывается действие позиций Конституционного Суда на будущее время. Но если проводить принцип верховенства Конституции до конца и вследствие этого придать всем постановлениям КС РФ обратную силу, это потребует пересмотра абсолютно всех судебных постановлений, основанных на не соответствующих Конституции РФ нормах, начиная с 25.12.1993 (дата официального опубликования Конституции Российской Федерации), что полностью подорвет доверие граждан к закону.
Таким образом, баланс между принципом верховенства Конституции и принципом правовой определенности достигается тем, что решения Конституционного Суда действуют по общему правилу только на будущее время, и только, как исключение, в случае необходимости обеспечить защиту конституционных прав того лица, по жалобе которого Конституционный Суд принял соответствующее постановление, в этом индивидуальном случае — с обратной силой.
Вто же время КС РФ расширил диапазон действия своих решений с обратной силой, допустив возможность пересмотра дел лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства, но в отношении которых были применены нормативные положения, признанные Конституционным Судом прямо или косвенно неконституционными, наложив ограничение на пересматриваемые судебные постановления и отметив, что таковыми могут быть либо не вступившие в законную силу, либо вступившие, но неисполненные или исполненные частично.
Впостановлении КС РФ от 08.11.2012 № 25-П отмечается, что такой подход обусловлен целями соблюдения баланса принципов правовой определенности в спорных материальных правоотношениях, стабильности гражданского оборота и справедливого судебного разбирательства, несовместимого с ошибочным судебным актом. Это объяснение говорит о том, что такое расширение действия решений КС РФ с обратной силой в действительности, по мнению самого Суда, не меняет заложенный в Законе о КС РФ и отмеченный выше баланс между принципом
162

Свободная трибуна
верховенства Конституции и принципом правовой определенности. И именно поэтому Конституционный Суд решил упомянуть этот случай, прямо федеральным конституционным законом не предусмотренный.
Соответственно, именно с точки зрения достигнутого баланса и следует определить, какие же решения, принятые по делам лиц, не участвовавших в конституционном судопроизводстве, могут быть пересмотрены, что, в свою очередь, позволяет установить, какие решения с конституционно-правовой точки зрения являются «неисполненными или исполненными частично».
Исполнение судебного акта в смысле принципа правовой определенности может пониматься как реализация правового эффекта, порожденного судебным актом.
Правовой эффект судебного решения заключается в первую очередь в действии свойств законной силы судебного решения: обязательность (необходимость для всех, включая все стороны, сообразовывать свое поведение с состоявшимся по делу судебным решением), преюдициальность (запрет оспаривать в иных процессах с участием тех же лиц факты, установленные судом в данном деле), неопровержимость (недопустимость возбуждения процесса по обжалованию/пересмотру вступившего в законную силу судебного решения без особых оснований), исключительность (запрет вновь возбуждать дело по этому же спору).
Однако основной правовой эффект судебного акта состоит в реализации правовой цели, составляющей содержание иска: того, к чему стремился истец, предъявляя иск, или того, на что может рассчитывать ответчик в случае своей победы. Решение суда создает у победителя чувство уверенности и неизменности его правового положения на будущее в отношении рассмотренных требований, поскольку запрещает другой стороне совершать действия, мешающие спокойному осуществлению победителем его прав, ранее оспоренных противной стороной. Иначе говоря, и решение суда об удовлетворении иска о признании, и решение суда об отказе в удовлетворении иска о присуждении дает возможность стороне-победительнице спокойно пользоваться своим положением посредством присуждения проигравшей стороны к бездействию, запрещая ей как-либо препятствовать реализации права победившей стороны.
Этот комплексный правовой эффект и защищается принципом правовой определенности, поскольку у лица, в пользу которого вынесен судебный акт, имеются правомерные ожидания того, что правовой эффект этого акта состоится, будет действовать и не будет отменен. В этом смысле достижение такого эффекта можно назвать исполнением судебного акта. Соответственно, с точки зрения предназначения критерия, использованного КС РФ для определения возможности придания обратной силы своим решениям в отношении и других аналогичных рассмотренному им дел, а именно максимального обеспечения действия принципа правовой определенности, судебный акт может пониматься как неисполненный или частично исполненный тогда, когда, несмотря на его вступление в силу, его правовой эффект не реализовался в полном объеме (не была достигнута цель, составляющая содержание иска). Однако это означает, что рассмотренные выше два подхода к определению того, когда судебный акт должен считаться исполненным, не противоречат друг другу, а являются вза-
163

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
имодополняющими, а само понятие «исполненность» с точки зрения и самой логики процессуального закона следует толковать значительно более широко, чем это делалось ранее.
Если решения Конституционного Суда действуют на будущее время, запрещая применять неконституционные нормы или нормы в их прежнем неконституционном значении (принцип верховенства Конституции) или допуская возможность продолжения действия ранее порожденных судебными постановлениями правовых эффектов (принцип правовой определенности), то возможна отмена порожденных неконституционными нормами пока еще не реализовавшихся правовых эффектов. Принцип верховенства Конституции проявится здесь в том, что основанные на неконституционных нормах судебные решения будут пересмотрены, а принцип правовой определенности — в том, что отмена действия судебных решений, которые до сих пор ничего не изменили в положении сторон, не затронет (не изменит) их текущее положение (status quo).
Исходя из этого, вступившие в законную силу судебные акты по искам о признании или преобразовательным искам должны быть признаны исполненными, поскольку их правовой эффект в полной мере реализуется в момент вступления судебного акта в законную силу.
Вступившее в законную силу судебное постановление, которым в удовлетворении требования заявителя было отказано, должно считаться в указанном выше смысле также исполненным решением, поскольку порожденный им эффект для победившей стороны (ответчика) реализовался — спор между истцом и ответчиком разрешен установлением того, что истец не имеет права требования к ответчику или же это право не подлежит принудительной реализации через суд.
В силу этого (а точнее, в силу неопровержимости судебного решения) ответчик вправе ожидать, что истец не сможет более возбуждать тождественный спор в суде, и это ожидание является законным, поскольку закон запрещает возбуждать в суде тождественные уже рассмотренным споры о праве (п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 128 КАС РФ). Следовательно, для ответчика как победившей в процессе стороны правовой эффект этого решения суда в части разрешения спора достигнут, и поэтому решение суда должно с точки зрения достижения правового эффекта для победившей стороны считаться полностью исполненным (правовой эффект возник и реализован (запрет наложен)) в том же самом смысле, в каком считается исполненным решение о присуждении вещи истцу: если присужденная истцу вещь передана ему, правовой эффект решения для истца реализован.
Если же позволить пересмотреть вступившее в законную силу судебное постановление, которым в удовлетворении требования заявителя было отказано, то это изменит текущее правовое положение ответчика, который пользуется эффектом от действия неопровержимости судебного решения (и чуть ли не в этом только правовой эффект такого решения состоит), что будет являться нарушением принципа правовой определенности. Как было показано, Конституционный Суд РФ запретил для лиц, не участвовавших в конституционном судопроизводстве, требовать пересмотра по новым обстоятельствам судебных постановлений, основан-
164

Свободная трибуна
ных на неконституционных нормах, если такой пересмотр приводит к нарушению принципа правовой определенности.
Следовательно, решение суда об отказе в удовлетворении иска не может быть признано неисполненным или исполненным частично решением, а значит, не может являться объектом для пересмотра по новым обстоятельствам по смыслу п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, п. 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 350 КАС РФ.
Исходя из этого, позиция Конституционного Суда РФ, выраженная в определениях от 14.01.1999 № 4-О и от 05.02.2004 № 78-О, сегодня фактически распространяется только на один случай: когда вступившим в законную силу судебным постановлением, основанным на положении закона, впоследствии Конституционным Судом признанным неконституционным прямо или опосредованно, на лицо возложена обязанность что-либо дать, сделать или предоставить, а это лицо, не участвовавшее в конституционном судопроизводстве, данную обязанность не исполнило. Можно заключить, что неисполненными или исполненными частично решениями могут быть только решения судов по искам о присуждении. Во всех остальных случаях лица, не участвовавшие в конституционном судопроизводстве, в рамках которого положенный в основу разрешения конкретных дел закон признан неконституционным прямо или опосредованно, не могут требовать на этом основании пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений, принятых по делам с их участием.
Обсуждая вопрос о расширении или сужении округа субъектов, имеющих право требовать пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений по упомянутому обстоятельству, нельзя забывать о том, что при решении этого вопроса должен быть соблюден принцип равенства (ст. 19 Конституции РФ).
Является ли нарушением принципа равенства применительно к реализации права на судебную защиту (ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ) запрет лицам, которым суд отказал в удовлетворении иска на основе закона, признанного впоследствии прямо или опосредованно неконституционным, требовать пересмотра судебного решения по новым обстоятельствам, в то время как на лицо, участвовавшее в рассмотрении этого вопроса в Конституционном Суде РФ, равно как и на лицо, не являвшееся участником конституционного судопроизводства, но в отношении которого решение суда не исполнено или исполнено частично, такой запрет не распространяется?
Как неоднократно указывал КС РФ, из принципа юридического равенства применительно к реализации конституционного права на судебную защиту вытекает требование, в силу которого однородные по своей юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом. Соблюдение этого принципа, гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить такие ограничения в правах лиц, принадлежащих к одной категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях). Любая дифференциация, приводящая к различиям в правах граждан в той или иной сфере правового регулирования, должна отвечать требованиям Конституции РФ, в соответствии с которыми такие различия допусти-
165

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
мы, если они объективно оправданны, обоснованны и преследуют конституционно значимые цели, а для их достижения используются соразмерные правовые средства (постановления КС РФ от 24.05.2001 № 8-П, от 03.06.2004 № 11-П, от 15.06.2006 № 6-П, от 05.04.2007 № 5-П, от 25.03.2008 № 6-П, от 26.02.2010 № 4-П и др.).
Лица, обратившиеся в Конституционный Суд с жалобой на неконституционность закона, примененного судом в их конкретном деле, получают в случае успешного исхода право требовать пересмотра их дел, поскольку само обращение граждан и их объединений в Конституционный Суд с жалобой возможно только с целью защиты нарушенных прав (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, п. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 96, п. 1 ст. 97 Закона о КС РФ), а защита и восстановление нарушенных прав возможны только путем отмены судебных решений, основанных на неконституционных законах, так как именно эти решения конституционные права заявителя и нарушают. Пересмотр дел в рамках гражданского судопроизводства при этом выступает неотъемлемой частью защиты и восстановления нарушенных прав посредством конституционного судопроизводства, поскольку, обращаясь в Конституционный Суд с жалобой на неконституционность закона в своем конкретном деле, заявитель хочет преодолеть законную силу судебного решения в данном деле. В этом смысле пересмотр служит исполнением решения Конституционного Суда, вынесенного в отношении конкретного лица.
Соответственно, лица, обращавшиеся в Конституционный Суд, и лица, не обращавшиеся в Конституционный Суд, в отношении примененного к ним неконституционного закона находятся в разном положении: первые являются участниками конституционного судопроизводства и как таковые наделены процессуальными правами (требовать судебных расходов, понесенных из-за рассмотрения дела в КС РФ, требовать реализации (исполнения) в их отношении решения КС РФ), вторые участниками конституционного судопроизводства не являются и соответствующих прав не имеют.
Дифференциация лиц, не участвующих в конституционном судопроизводстве, применительно к вопросу о возможности требовать пересмотра по новым обстоятельствам состоявшихся в их отношении судебных решений имеет объективное и разумное основание. Таковым выступает неодинаковое действие решения Конституционного Суда на будущее время для различных категорий, которое, в свою очередь, определяется действием принципа правовой определенности.
Любые лица, не участвовавшие в конституционном судопроизводстве, являются в известном смысле выгодоприобретателями от конкретного решения Конституционного Суда: на всех распространяется юридическая сила решения, запрещающая применение неконституционных норм с момента провозглашения (или опубликования — для решений, которые не оглашаются в заседании). Однако принятые на основании неконституционных норм судебные решения уже породили правовой эффект, который в одном случае уже реализован, а в другом случае — пока еще нет (или же реализовался не в полном объеме). Соответственно, лица в этих двух ситуациях находятся не в одинаковом положении. Эта дифференциация проистекает из самого существа права на судебную защиту, допускающего процессуальное различие исков и судебных решений. Следовательно, она имеет объективное основание.
166

Свободная трибуна
Различие в реализации правового эффекта судебного решения позволяет наложить на возможность отмены правового эффекта судебного решения ограничение в виде действия принципа правовой определенности: там, где эффект реализован, судебное решение защищается этим принципом, а там, где эффект еще не реализован (реализован не в полном объеме), принцип правовой определенности не действует по определению. Подобное избирательное действие принципа правовой определенности применительно к возможности пересмотра судебных решений на основании решения Конституционного Суда выражается в критерии исполненности (частичной исполненности) судебных решений. Различие на основе этого критерия возможности пересмотра судебных решений имеет своей целью обеспечить, где только это возможно, действие принципа верховенства Конституции РФ без нарушения других конституционных принципов, а потому такая дифференциация является разумной.
References
Ivanov A.A. The Seventh Instance? [Sedmaya instantsiya?]. The Herald of Economic Justice of the Russian Federation [Vestnik Economicheskogo Pravosudiya Rossiiskoi Federatsii]. 2017. No. 4. P. 86–92.
Kalyak A.M. Certain Issues of Execution of Decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation in Law Enforcement Practice [Otdel’nye voprosy ispolneniya resheniy Konstitutsionnogo Suda RF v pravoprimenitel’noi praktike]. Russian Justice [Rossiiskaya justitsiya]. 2013. No. 9. P. 36–38.
Sivitsky V.A. Some Aspects of the Significance of the Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation for Judicial Practice [Nekotorye aspekty znacheniya prinyatia postanovlenia Konstitutsionnogo Suda Rossiiskoi Federatsii dlya sudebnoi praktiki]. Judge [Sud’ya]. 2017. No. 12. P. 47–54.
Information about the author
Anton Ilyin — Professor of the Department of the Higher School of Economics, Doctor of Laws (198099 Russia, Saint Petersburg, Promyshlennaya St., 17, office 305; e-mail: avilin@hse.ru).
167
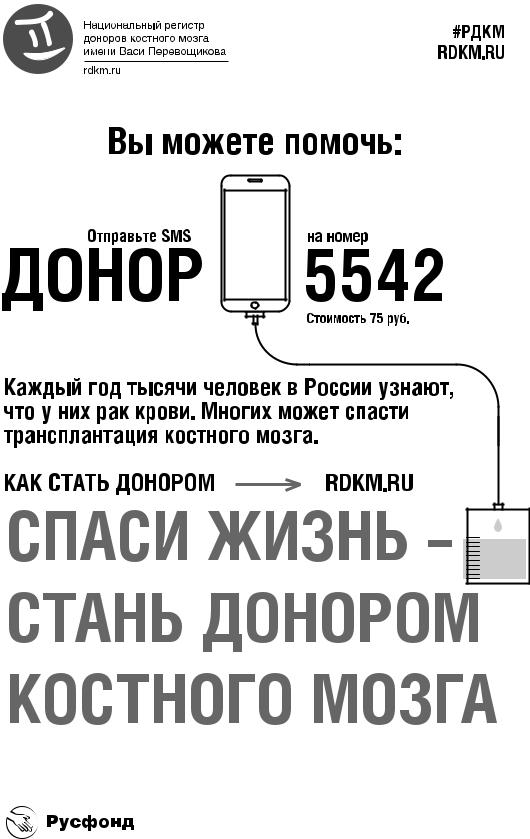

Обзор
практики
Екатерина Дмитриевна Автонова
студентка 3-го курса бакалавриата СПбГУ
Анализ судебной практики по вопросу зачета неустойки против тела основного долга
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при разрешении споров о правомерности зачета неустойки против основного долга и возможности оспаривать основания начисления зачтенной неустойки и требовать уменьшения ее размера. Доминирующая практика допускает подобный зачет. Однако единообразие подхода, выработанного высшими инстанциями, разрушают судебные решения, признающие бесспорность требования о неустойке в качестве самостоятельной обязательной предпосылки зачета либо признака встречности или однородности зачитываемого требования. Комментируя позиции судов, автор приходит к выводу о необходимости закрепить правило о допустимости зачета неустойки против основного долга на уровне разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.
Вопрос о последствиях оспаривания наличия или размера зачтенной неустойки разрешается судебной практикой крайне неоднозначно, в частности из-за неопределенности позиции ВС РФ. В статье приводятся две выработанные практикой модели для возвращения адресату зачета несправедливо зачтенных сумм неустойки — признанием зачета недействительным или присуждением излишне зачтенного в рамках кондикционного обязательства. Автор подчеркивает, что выбор в пользу той или иной модели влияет на возможность начисления договорных санкций и сохранения обеспечений. Приведенный анализ практики демонстрирует разнообразие аргументации нижестоящих судов и необходимость выбора модели для формирования единообразного подхода.
Ключевые слова: зачет, зачет неустойки, бесспорность требования о неустойке, последствия снижения неустойки, недействительность зачета
169

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Ekaterina Avtonova
Third-Year Student of the Saint Petersburg State University
Analysis of Judicial Practice Concerning Termination of a Penalty and Principal Debt by Setoff
The article considers the problems arising in court practice regarding the lawfulness of a setoff of a penalty and principal debt. After 2012 court practice allows one to terminate a penalty and principal debt by setoff. However, some courts do not observe this approach and demand the incontestability of a penalty as a necessary prerequisite for a setoff. Analysis of court practice leads the author to the conclusion that the permissibility of termination of a penalty and principal debt by a setoff calls for reaffirmation by the Supreme Court of the Russian Federation.
The author analyzes the possibility of challenging the grounds for charging a penalty or its amount and discusses the consequences of penalty reduction by the court. Judicial practice does not provide an unequivocal solution to the problem, in particular due to the uncertainty of the position of the Supreme Court of the Russian Federation. The article describes two approaches elaborated by the courts. The first one relies on quashing the setoff and the second one involves the recovery of unjust enrichment. The author emphasizes that the choice between these approaches affects the possibility of recovering contractual penalties and the continuation of security of a principal debt. Analysis of court practice demonstrates the diversity of reasoning while tackling this problem and the need to choose between two represented approaches for universalization of practice.
Keywords: setoff, setoff of a penalty, incontestability of a penalty, consequences of penalty reduction, invalidity of a setoff
Введение
В ходе анализа судебной практики были изучены вопросы, связанные с допустимостью зачета неустойки в счет тела основного долга, а также проблема определения последствий оспаривания наличия или размера зачтенной неустойки. При исследовании материала стояла задача выяснить, влияет ли, по мнению судов, спорность предъявленных к зачету требований на его действительность, каким образом в практике толкуется понятие «бесспорность» применительно к неустойке. Кроме того, было важно установить, какой способ возмещения адресату зачета недополученных вследствие уменьшения зачтенной неустойки сумм выбирают суды и как они аргументируют свою позицию.
Перечисленные проблемы рассматривались и в доктрине. Многократно подчеркивалась ошибочность представления о невозможности зачета неустойки против основного долга1. Интенсивные обсуждения возможных последствий оспарива-
1См., напр.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2017. С. 774 (автор комментария к ст. 410 ГК РФ — А.А. Павлов); Егоров А.В. Зачет неустойки против основного долга. Как убедить суд в его правомерности // Арбитражная практика. 2017. № 10. С. 54–61; Чваненко Д.А. Взыскание неустойки путем осуществления зачета // Юрист. 2012. № 22. С. 8–13; Павлов А.А. Позитивные предпосылки зачета // Сборник научных статей в честь 60-летия Е.А. Крашенинникова / отв. ред. П.А. Варул. Ярославль, 2011. С. 85–88; Крашенинников Е.А. Основные проблемы зачета // Очерки по торговому праву. 2009. № 16. С. 10.
170

Обзор практики
ния наличия или размера зачтенной неустойки, к сожалению, не велись, высказывались лишь отдельные точки зрения2.
Основой для проведения анализа стала практика арбитражных апелляционных судов и арбитражных судов округов с начала 2016 г. по июль 2018 г. До Верховного Суда РФ дела по вопросу зачета неустойки против тела долга доходят крайне редко, большинству заявителей отказывают в передаче жалоб для рассмотрения. Тем не менее с помощью имеющейся судебной практики можно выявить некоторые тенденции последних лет, а также сравнить их с позициями, существовавшими ранее.
1. История вопроса
Практика судов, не допускающая возможности зачета неустойки против тела основного долга, сформировалась еще в конце прошлого столетия и была достаточно устойчивой. Она опиралась на два аргумента:
1)эти требования имеют разную правовую природу;
2)требование об уплате неустойки не носит бесспорный характер в силу возможности его коррекции судом на основании ст. 333, 401, 404 ГК РФ.
В2012 г. эту практику попытался переломить Высший Арбитражный Суд РФ.
Водном из дел3 ВАС РФ подтвердил необоснованность представления о том, что необходимым условием для зачета, помимо однородности, встречности и осуществимости, является еще и бесспорность. В жалобе общество указывало на то, что его контрагент знал из претензий о возражениях общества об отсутствии встречного долга, и настаивало, что спорность наличия требования может быть основанием недействительности зачета, так как при отсутствии одного из требований не соблюдается условие встречности. ВАС РФ не согласился с подобными рассуждениями, возразив, что основаниями для признания зачета недействительным являются нарушения запретов и условий допустимости из ст. 410–412 ГК РФ, а бесспорность не названа законом в качестве условия зачета. Однако если предъявленное к зачету требование отсутствовало, то сделка не могла повлечь правовой эффект, а значит, обязательство не прекратилось. В таком случае адресат зачета может обратиться за взысканием задолженности, а суд при разрешении спора должен рассмотреть возможные доводы ответчика о наличии
2А.А. Павлов указывал, что сумма, соответствующая избыточно зачтенной неустойке, взыскивается в качестве задолженности по договорному обязательству (см.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 774). А.В. Егоров также утверждал, что правовая природа взыскиваемой суммы предопределяется природой зачтенного требования (основной долг) и обеспечения из основного обязательства должны быть восстановлены, однако отмечал, что адресат зачета не имеет права на применение мер ответственности к его заявителю за период с совершения зачета до восстановления основного долга судом (см.: Егоров А.В. Указ. соч. С. 58, 60).
3См.: постановление Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 № 12990/11.
171

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
встречного требования и о прекращении обязательства зачетом полностью или в части. Заявитель зачета несет риски того, что не учел обстоятельства, связанные с качеством зачитываемого требования.
В другом деле4 ВАС РФ детально проанализировал возможность зачета неустойки против основного долга, указав следующее:
–зачет встречных требований о неустойке и взыскании основного долга возможен, так как они являются денежными, а потому однородными. Зачитываемые требования не должны с необходимостью вытекать из одного обязательства или обязательств одного вида;
–адресат зачета может заявить о применении правил ст. 333 ГК РФ о снижении неустойки в виде возражения или путем подачи самостоятельного иска о возврате неосновательного обогащения в соответствии со ст. 1102 ГК РФ5.
Кроме того, ВАС РФ подчеркнул необходимость разграничения зачета в истинном смысле слова (ст. 410–412 ГК РФ) и удержания неустойки из платы по договору как способа прекращения обязательств, согласованного сторонами в соответствии со ст. 407 ГК РФ и не подпадающего под правила о зачете6.
После этих знаковых постановлений суды, во-первых, стали различать автоматическое удержание неустойки в соответствии с договорными условиями и односторонний зачет, а во-вторых, начали допускать зачет требования о неустойке против требования о выплате задолженности по договору7.
Однако сохранилась и практика, не воспринявшая подход ВАС РФ. Например, ФАС Северо-Западного округа применил ст. 410 ГК РФ к удержанию неустойки из платы по договору8. В ряде дел о взыскании задолженности по оплате суды отклоняли возражения ответчиков о произведенном зачете неустойки и основного долга. Аргументация в таких случаях сводилась к тому, что бесспорность — признак встречного требования, поэтому зачет спорной неустойки невозможен, поскольку не соблюдается условие встречности. Более того, суды утверждали, что зачет требования о неустойке может быть произведен только
4См.: постановление Президиума ВАС РФ от 19.06.2012 № 1394/12.
5Данное суждение ВАС РФ обосновывает п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» в первоначальной редакции.
6Зачет по смыслу ст. 410 ГК РФ является односторонней сделкой, которая позволяет прекратить обязательство или его часть при волеизъявлении заявителя зачета. Закон, защищая интересы адресата зачета, устанавливает условия и запреты для совершения такой сделки. Возможность автоматического удержания неустойки из основного долга согласовывается сторонами в договоре и вследствие этого не требует соблюдения условий и запретов, предусмотренных для зачета, ѕ
7См., напр.: постановления ФАС Поволжского округа от 23.10.2012 по делу № А65-1233/2012; ФАС Московского округа от 22.11.2012 по делу № А40-24390/12-52-225.
8См., напр.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.08.2013 по делу № А56-65235/2012.
172

Обзор практики
после подтверждения ее размера в суде или соглашением сторон, так как возможность уменьшения неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ препятствует признанию требования бесспорным9. Другие суды отказывались признавать зачет неустойки против тела долга из-за неоднородности требований, указывая, что однородность как условие зачета относится не только к предмету, но и к природе обязательства10.
Верховный Суд РФ в п. 79 постановления Пленума от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее — постановление № 7) развил идеи ВАС РФ, указав на возможность применения ст. 333 ГК РФ к зачтенной в счет тела долга неустойке, а также на последствия ее снижения. Публикация этого постановления позволила выстроить более единообразную практику по вопросу зачета неустойки против основного долга. Тем не менее суды до сих пор иногда совершают ошибки при применении норм ст. 410–412 ГК РФ, а также выносят решения, противоречащие постановлениям ВАС и ВС РФ. В связи с этим проблемы практического применения положений о зачете остаются актуальными.
Посмотрим на эту практику нижестоящих судов более пристально.
2. Анализ практики о допустимости зачета неустойки против тела основного долга
В последнее время можно проследить тенденцию признания допустимости зачета неустойки против тела долга. Суды, как правило, исходят из правомерности такого зачета, не обосновывая данное суждение специально11.
При отсутствии в договоре указания на иное несогласие адресата зачета не влечет недействительность зачета, а является лишь основанием для проверки его доводов12. Суд в подобной ситуации должен выяснить, действительно ли существует встречное требование о неустойке и каков его размер.
Так, в одном из дел Десятый арбитражный апелляционный суд установил, что заявитель зачета представил достаточные доказательства факта нарушения обязательства, повлекшего начисление неустойки. В заседании был поднят вопрос
9См., напр.: постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2012 по делу № А56-14752/2011.
10См., напр.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 29.06.2012 по делу № А56-14752/2011.
11См., напр.: постановления АС Московского округа от 18.10.2016 по делу № А40-46584/2015; АС Уральского округа от 23.11.2017 по делу № А76-22012/2016; АС Центрального округа от 30.03.2018 по делу № А14-4298/2017; АС Северо-Западного округа от 13.07.2018 по делу № А66-3865/2016.
12См., напр.: постановления АС Уральского округа от 18.09.2017 по делу № А76-17430/2016; Второго арбитражного апелляционного суда от 23.05.2017 по делу № А29-7434/2016.
173

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
о применении ст. 333 ГК РФ, но суд отказал в снижении неустойки и вынес решение об отсутствии оснований для признания зачета недействительным13. Также Девятый арбитражный апелляционный суд, отменяя решение первой инстанции о недействительности зачета из-за возможности применения к зачтенной неустойке ст. 333 ГК РФ, указал, что вероятное последующее уменьшение судом неустойки не препятствует реализации заказчиком права на прекращение обязательства зачетом14.
Несогласие адресата с произведенным зачетом из-за наличия и размера встречного требования о неустойке не влияет на саму возможность произвести зачет. Однако в практике встречаются случаи, когда стороны в договоре согласовывают необходимость подтверждения зачета со стороны адресата. Например, в одном из дел Арбитражный суд Северо-Западного округа столкнулся с договорным условием о том, что уведомление о зачете требует подтверждения контрагента и считается принятым без возражений при отсутствии протеста, направленного в установленный срок. Поскольку адресат зачета не представил в срок обоснованных возражений на совершенную сделку и не доказал, что зачет не возымел правового эффекта из-за отсутствия встречного требования, суд подтвердил правомерность произведенного зачета неустойки против тела долга15.
Вместе с тем судебная практика не обходится без ошибок, поэтому ее сложно назвать единообразной.
Например, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд при разрешении одного из споров указал, что, поскольку обязанность по уплате неустойки не относится к бесспорно установленному факту и не признается адресатом зачета, обязательство по взысканию задолженности не считается прекратившимся в результате зачета16. К похожему выводу в другом деле пришел Арбитражный суд Центрального округа, пояснив, что отсутствие бесспорности зачитываемых требований является достаточным обстоятельством для признания зачета несостоявшимся17.
Аналогичную позицию повторил в одном из дел Арбитражный суд Московского округа, отвергнув возможность совершения зачета неустойки против тела долга18. Суд отметил, что ст. 410 ГК РФ подразумевает бесспорность предъявляемых
13См.: постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2017 по делу № А41-60394/16. Аналогичные выводы см.: постановление АС Северо-Западного округа от 22.07.2016 по делу № А5664134/2015.
14См.: постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2017 и АС Московского округа от 01.11.2017 по делу № А40-213750/2016. Аналогичную позицию см.: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2018 по делу № А40-497/18.
15См.: постановление АС Северо-Западного округа от 01.09.2016 по делу № А56-37458/2015.
16См.: постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2017 по делу № А1410422/2016.
17См.: постановление АС Центрального округа от 16.01.2018 по делу № А54-1130/2016.
18См.: постановление АС Московского округа от 14.02.2017 по делу № А40-112506/2016.
174

Обзор практики
к зачету требований. Зачтенное требование о неустойке суд счел спорным, поскольку адресат зачета не признал долг, а также не были установлены основания начисления и размер неустойки. Ответчик до суда предъявлял истцу претензии о нарушении договора с расчетом неустойки, однако суд не исследовал их и признал зачет несостоявшимся на том лишь основании, что зачтенное требование не бесспорно.
Такая позиция представляется необоснованной, поскольку, как верно подчеркивал ВАС РФ, спорность требований не является препятствием для совершения зачета. Суд обязан был проверить основания и размер встречного зачтенного требования, оспариваемого адресатом зачета, но по неизвестным причинам этого не сделал19. Ошибки нижестоящих судов исправил Верховный Суд РФ20.
В практике можно найти и другие попытки обосновать недействительность зачета неустойки против основного долга ввиду спорности требований. Например, в одном из дел Двадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что для совершения сделки зачета предмет таковой должен удовлетворять, помимо иных, двум условиям: бесспорность и определенность. Рассматривая первое из них, суд заявил, что требование об оплате санкций не является бесспорным, а следовательно, не может быть зачтено. Буквально через абзац, в противоречие со своими рассуждениями, суд процитировал позицию ВАС РФ о том, что бесспорность не является условием зачета, и тем не менее все равно использовал спорность как аргумент для признания зачета недействительным. Выполнение требования об определенности, по мнению суда, возможно лишь в случае, когда «индивидуализированы прекращаемые требования сторон». Последнее суждение не получило развития, но текст судебного акта дает основания предположить, что под «индивидуализацией» имеется в виду доказанность наличия и размера требований. Суд признал, что зачет не повлек правовой эффект, поскольку не доказано его существование и действительность, имеются возражения адресата зачета21.
Суд не привел объяснений, почему решение принимается без учета цитируемой им позиции ВАС РФ и каким образом соотносятся понятия «бесспорность» и «определенность». Вероятно, что неподтвержденность наличия и размера требования о неустойке повлияла на заключение суда о невозможности зачета, а спорность требований — на вывод о его недействительности. Либо же определенность наличия и размера зачитываемых требований рассматривалась судом как некая гарантия бесспорности. Однако при любом толковании итоговое решение суда о недействительности зачета неустойки против основного долга выглядит крайне сомнительным.
19Кассационная инстанция приводила также аргумент о том, что заявленные ответчиком к зачету требования возникли из обязательств по различным периодам поставки и по различным приложениям к договорам. Однако закон не предусматривает такого условия зачета, как возникновение требований из одного обязательства. Разъяснение по этому вопросу отражено, в частности, в п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65.
20Определение ВС РФ от 29.08.2017 № 305-ЭС17-6654.
21См.: постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2017 по делу № А235102/2016.
175

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Своеобразное толкование категории «бесспорность» содержится в одном из постановлений Третьего арбитражного апелляционного суда. Бесспорность как обязательное, по мнению суда, условие зачета следует отождествлять с самим наличием требований. При этом последнее невозможно констатировать, пока нет договоренности сторон или подтверждающего судебного акта22.
Примечательно также одно из дел Девятого арбитражного апелляционного суда. Он связал решение вопроса о допустимости зачета неустойки против основного долга с однородностью требований по их правовой природе и степенью бесспорности требований. Степень бесспорности, как считает суд, определяется признанием должником или подтверждением бесспорными доказательствами наличия задолженности по оплате и ее размера, наличием обязанности уплатить неустойку и определенностью ее размера или наличием фактов, влекущих применение неустойки за просрочку за конкретный период23.
Данные выводы представляются необоснованными. Из закона не следует, что зачитываемые требования должны вытекать из одного договора или из обязательств одного вида24. Однородность предъявляемых к зачету требований предполагает однородность исключительно их предмета. Бесспорность же не может являться условием зачета, на что указывал ВАС РФ. Кроме того, неясно, какие последствия для совершенного зачета влечет та или иная степень бесспорности требования, установленная в процессе.
Некоторые суды весьма развернуто поясняют причины недопустимости признания зачета неустойки против основного долга. Так, в одном из дел апелляция отменила решение суда первой инстанции, признавшего допустимым зачет неустойки за просрочку выполнения работ против требования их оплаты, предложив следующую аргументацию:
–в договоре не предусмотрено право заказчика на удержание неустойки;
–ст. 410 ГК РФ подразумевает бесспорность и основного, и встречного обязательства;
–подрядчик не согласен с произведенным зачетом;
–зачтенное обязательство небесспорно сразу по двум причинам: во-первых, оно требует самостоятельного рассмотрения применительно к ст. 309, 401, п. 3 ст. 405 ГК РФ, а во-вторых, размер требования может быть уменьшен судом по ст. 333 ГК РФ;
–зачтенные требования неоднородны, так как неустойка — это мера ответственности, а оплата работ производится в ходе исполнения договора, поэтому при зачете подрядчик лишается возможности заявить о применении ст. 333 ГК РФ;
22См.: постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 31.05.2016 по делу № А3311495/2015.
23См.: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2017 по делу № А40148948/2016.
24См.: п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65.
176

Обзор практики
–основанием действительности зачета является соблюдение не только условий встречности, однородности, наступления срока исполнения, но и условия бесспорности требований;
–в отсутствие бесспорности требования об уплате неустойки зачет недействителен.
При этом суд предложил заказчику обратиться с самостоятельным иском о взыскании неустойки за просрочку25.
Аргументы, предложенные в данном деле, противоречат как ГК РФ, так и правовым позициям высших судебных инстанций.
Иногда суды приводят другие варианты объяснения причин, по которым зачет неустойки против тела долга невозможен. Так, Арбитражный суд Северо-За- падного округа в одном из дел утверждает, что обязанность по уплате неустойки как меры ответственности специфична. В силу того, что размер неустойки обладает «значительной неопределенностью», зачет в данной ситуации совершить нельзя26.
Такая позиция суда полностью лишает участников оборота возможности производить зачет неустойки, если последняя не подтверждена судом или не признана контрагентом. Начисленная в соответствии с согласованными условиями договора неустойка, по логике суда, никогда не будет обладать «значительной определенностью». В продолжение таких рассуждений можно прийти к выводу о недопустимости зачета любого не подтвержденного в суде долга, что ставит под сомнение само существование института зачета и в перспективе влечет значительное увеличение нагрузки на судебную систему.
Тем не менее стоит отметить, что в большинстве дел суды верно опираются на позиции, выработанные высшими судебными инстанциями, и признают допустимость зачета неустойки против тела основного долга. Решения с ошибочными суждениями, проанализированные выше, скорее, являются исключениями.
3. Последствия оспаривания наличия или размера зачтенной неустойки
3.1. Оспаривание зачета в ситуации наличия у его адресата оснований требовать снижения неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ
Высшие суды, как было упомянуто выше, в основном признают возможным зачет неустойки в счет тела основного долга, несмотря на заявление адресатом зачета о применении ст. 333 ГК РФ. И хотя нижестоящие суды иногда игнориру-
25См.: постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2016 по делу № А41108637/15, оставленное в силе постановлением АС Московского округа от 27.04.2017.
26См.: постановление АС Северо-Западного округа от 21.02.2017 по делу № А56-4911/2016.
177

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
ют эти правовые позиции, назвать это иначе как эксцессами, видимо, нельзя. Однако, приняв допущение в отношении возможности зачета в такой ситуации, судебная практика сталкивается с проблемой: каким образом взыскать разницу между зачтенной неустойкой, рассчитанной заявителем зачета по договору, и сниженной по результатам применения ст. 333 ГК РФ? При разрешении таких споров возможны варианты.
Вариант первый. Признать зачет частично ничтожным (ст. 180 ГК РФ), так как отсутствует встречное требование в части разницы между размером изначально начисленной по договору и уточненной судом неустойки, и взыскать разницу с заявителя зачета как задолженность по договору. В таком случае мы исходим из того, что суд, снижая неустойку, констатирует, что ее размер изначально был ниже указанного в договоре. Соответственно, заявитель зачета не имел оснований для учета всего объема неустойки, так как у него не было самого требования величиной в разницу между зачтенной и сниженной неустойкой. В результате частичной ничтожности зачета открывается возможность взыскать с заявителя зачета сумму разницы в качестве договорной задолженности и обвинить его в просрочке в уплате этого долга. При этом штрафные санкции за просрочку в уплате восстановленной части задолженности начисляются ретроспективно, включая и тот период, когда заявитель зачета полагал, что его долг погашен зачетом. Кроме того, если основной долг был обеспечен поручительством или залогом, эти обеспечения сохраняются и действуют в отношении указанной разницы.
Вариант второй. Признать зачет состоявшимся, а основной долг — погашенным в момент зачета, но разницу между полной и сниженной суммой неустойки признать неосновательным обогащением заявителя зачета и взыскать ее по новому кондикционному обязательству. При таком подходе не применяются договорные меры ответственности за просрочку, а также не сохраняется обеспечение, установленное в отношении договорного обязательства по оплате, если таковое было согласовано.
В п. 79 постановления № 7 использована вторая модель: «В случае… зачета суммы неустойки в счет суммы основного долга и/или процентов должник вправе ставить вопрос о применении к списанной неустойке положений статьи 333 ГК РФ, например, путем предъявления самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного (статья 1102 ГК РФ)».
Однако Пленум ВС РФ не называет кондикционный способ защиты нарушенного права единственно возможным. Кроме самостоятельного иска о взыскании неосновательного обогащения, имеются и иные варианты защиты права нарушителя на применение ст. 333 ГК РФ после получения им заявления о зачете. К такому выводу располагает использование в п. 79 постановления № 7 слова «например». Вероятно, что основной целью данного разъяснения было подтверждение самой допустимости зачета неустойки, а также возможности заявителя зачета использовать правила ст. 333 ГК РФ для снижения зачтенной неустойки. В таком случае предложенный Верховным Судом способ возмещения недополученных сумм с помощью ст. 1102 ГК РФ приводится для примера, но не в качестве единственного верного варианта.
178

Обзор практики
Вопрос о том, какую из двух моделей следует избрать, является дискуссионным.
Первый подход, основанный на ретроспективном признании зачета частично ничтожным, стимулирует его заявителя перед направлением уведомления оценивать соразмерность начисляемой неустойки и карает в случае необоснованного учета всей суммы договорной неустойки путем ретроспективного начисления договорных пеней за невыплату в срок соответствующей части основного долга.
Содной стороны, обратное позволяло бы заявителю зачета выигрывать от недобросовестного поведения. Например, представим, что в договоре стороны согласовали пени в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки в поставке. Поставщик просрочил поставку на три месяца, но все-таки поставил товар, после чего покупатель, ничего не заплатив, заявляет зачет, так как сумма начисленных пеней за данный период примерно сравнялась с размером долга. Возможно, в суде поставщик сможет добиться применения правил ст. 333 ГК РФ, но покупатель будет обязан уплатить поставщику избыток зачтенной неустойки уже не в качестве задолженности в рамках договорных правоотношений, а как долг по новому кондикционному обязательству. Следовательно, за весь период с момента заявления зачета и до вступления в силу решения суда покупатель не заплатит поставщику ни копейки за пользование деньгами, ведь долг был правомерно погашен зачетом. Кроме того, заявитель зачета будет обязан вносить на будущее лишь проценты по ключевой ставке, а не согласованные в договоре более высокие пени за просрочку в оплате. Если обязательство покупателя было обеспечено поручительством, поставщик не сможет предъявить требование к поручителю, так как в результате зачета произошло прекращение и основного долга, и обеспечения.
Сдругой стороны, может показаться не вполне справедливым ретроспективно помещать заявителя зачета помимо его воли в просрочку из-за того, что суд после совершения сделки оценил зачтенную неустойку как превышающую уровень соразмерности. Заявителю зачета в современных реалиях крайне сложно предсказать позицию суда в отношении возможного снижения неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ, поэтому он может оказаться нарушителем договора не по своей воле.
Данный вопрос требует серьезного изучения и руководящих разъяснений Верховного Суда РФ. Более детальное его исследование выходит за рамки целей настоящего обзора.
Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев суды ссылаются на п. 79 постановления № 7 и буквально применяют его в делах со снижением зачтенной неустойки без дополнительной аргументации, используя вторую модель, основанную на взыскании по кондикционному обязательству. Типичное решение суда, связанное с применением ст. 333 ГК РФ к зачтенной неустойке, выглядит следующим образом:
179

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
–ссылка на п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65, разъясняющий, что предъявляемое к зачету требование не обязательно вытекает из того же обязательства или из обязательств одного вида;
–толкование ст. 410 ГК РФ относительно однородности предмета требований об уплате неустойки и о взыскании задолженности;
–пояснение природы института неустойки, ее компенсационного характера и подтверждение необходимости устанавливать баланс между мерой ответственности и размером действительного ущерба, чтобы не допустить злоупотребление правом (ссылка на соответствующие разъяснения постановления № 7 и постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81);
–ссылка на п. 79 постановления № 7, который констатирует право должника ставить вопрос о применении ст. 333 ГК РФ к зачтенной неустойке через нормы о неосновательном обогащении;
–разрешение вопроса о снижении неустойки и присуждение адресату зачета разницы между зачтенной суммой неустойки и сниженной27.
Такой подход приводит к тому, что заявитель зачета присуждается к уплате в пользу адресата зачета суммы, составляющей разницу между зачтенной и сниженной судом неустойкой, в качестве внедоговорного обязательства по возмещению неосновательного обогащения. В пользу адресата зачета на будущее присуждаются также проценты по правилам ст. 1107 ГК РФ, но не договорные пени за просрочку в оплате основного долга. Не сохраняются и обеспечения, которые были согласованы сторонами в отношении договорного обязательства.
Однако встречается и обратная практика, в рамках которой суды реализуют первую модель с частичной недействительностью зачета. В подобных делах суды ссылаются на тот же п. 79 постановления № 7 и взыскивают разницу между зачтенной и сниженной по правилам ст. 333 ГК РФ неустойкой как задолженность по основному долгу из договора. При этом суды не объясняют, почему не используется упоминаемая ими модель с кондикцией, предложенная Верховным Судом РФ. Также суды не констатируют частичную ничтожность зачета, хотя
27См., напр.: постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2017 по делу № А05-6980/2017; АС Уральского округа от 18.09.2017 по делу № А76-17430/2016; АС СевероЗападного округа от 05.04.2018 по делу № А56-57498/2017. Суды используют ссылку на п. 79 и с более краткой аргументацией, см., напр.: постановления АС Восточно-Сибирского округа от 29.05.2018 по делу № А19-12425/2017; АС Московского округа от 22.08.2017 по делу № А41-73691/2016; Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2016 по делу № А06-1545/2016; АС Уральского округа от 12.12.2016 по делу № А60-1772/2016; АС Центрального округа от 24.07.2018 по делу
№А14-16757/2017, от 08.02.2018 по делу № А14-10422/2016; Восьмого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2017 по делу № А75-8482/2017; Десятого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2017 по делу № А41-77894/16; Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2018 по делу № А55-29368/2017; Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2018 по делу
№А53-32444/2017; Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2018 по делу № А5029712/2017.
180

Обзор практики
подразумевают, что в части указанной разницы между неустойками зачет не повлек правовой эффект28.
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд более подробно аргументировал выбор в пользу первой модели, разрешая вопрос последствий применения ст. 333 ГК РФ к зачтенной неустойке. В обоснование суд процитировал позицию Президиума ВАС РФ из постановления от 07.02.2012 № 12990/11 о том, что адресат не связан заявлением о зачете и, полагая его не повлекшим правовой эффект, может обратиться за взысканием соответствующей задолженности. Стоит отметить, что упомянутые строки постановления Президиума ВАС РФ относятся к ситуации, в которой оспаривается само наличие оснований для начисления неустойки, а не к случаю коррекции неустойки судом. Президиум ВАС РФ пояснил, что вывод о недействительности зачета в этом случае вытекает из доказанного факта отсутствия встречного требования. Однако в рассматриваемом деле апелляционный суд расширил данную позицию и на случай снижения неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ, посчитав зачет не повлекшим правовой эффект в части, которая превысила, по мнению суда, уровень соразмерности неустойки29.
Кроме того, суд пересчитал неустойку за просрочку оплаты работ, присужденную первой инстанцией на весь основной долг, указав, что она должна быть начислена лишь на сумму, составляющую разницу между зачтенной и сниженной неустойкой, поскольку часть задолженности, соответствующая сниженной неустойке, правомерно прекращена зачетом30. Суд в данном деле ссылался на п. 79 постановления № 7, однако, видимо, лишь для того, чтобы аргументировать саму возможность применения ст. 333 ГК РФ к зачтенной неустойке, а не для обоснования использования одной из двух моделей взыскания недополученных сумм.
Этим дело не завершилось. Кассационная инстанция признала правомерными выводы о взыскании недоплаченной задолженности, но не согласилась с нижестоящими судами в части присуждения неустойки на указанную задолженность. Суд отметил, что, поскольку зачет был произведен правомерно и надлежащим образом, обязательства по оплате работ и неустойки за просрочку этой оплаты прекратились. Суд посчитал, что ситуация, при которой данная неустойка начисляется адресатом зачета до момента заявления о применении ст. 333 ГК РФ в суде, недопустима, так как до разрешения судом вопроса о размере неустойки обязательства считаются правомерно прекращенными зачетом, а значит, невозможно возложить ответственность за просрочку, которой не существовало до судебного решения и о которой заявитель зачета не мог знать. Поскольку у за-
28См., напр.: постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2017 по делу № А05-6980/2017, от 17.05.2017 по делу № А05-8253/2016; Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.02.2018 по делу № А33-24382/2017; Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2017 по делу № А56-2879/2017.
29См.: постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2017 по делу № А1410422/2016.
30Подобные выводы см. также в постановлениях АС Центрального округа от 30.03.2018 по делу № А144298/2017 и АС Уральского округа от 23.11.2017 по делу № А76-22012/2016.
181

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
явителя зачета были все основания для начисления и удержания неустойки, исключаются неправомерность ее удержания и нарушение имущественных интересов подрядчика на момент зачета.
Далее в своей аргументации суд упомянул п. 1 ст. 1107 ГК РФ, что еще более ярко продемонстрировало, что кассация превратила первую модель с ничтожностью части зачета, использованную апелляционной инстанцией, во вторую модель с кондикцией за счет отмены начисления процентов за просрочку на взыскиваемую разницу между зачтенной и сниженной неустойкой31. При этом кассация изменила постановление апелляции лишь в части процентов на задолженность, но оставила в силе часть о взыскании недополученных адресатом зачета сумм в качестве договорного долга, а не нового кондикционного обязательства. Получившееся по итогу рассмотрения тремя инстанциями смешение моделей противоречит здравому смыслу, но все-таки дело примечательно тем, что содержит некоторые аргументы в пользу каждой из них.
Следует сказать, что подобная неопределенность встречается в практике не единожды. Некоторые суды, видимо, пытаясь найти компромисс, не склоняются к одной из моделей, а утверждают альтернативность способов защиты: возможно взыскание разницы между зачтенной и сниженной судом неустойкой как в качестве неосновательного обогащения, так и в виде недоплаченной задолженности. Суды аргументируют такой вывод тем, что в разъяснениях Пленума ВС РФ не определен единственно возможный способ защиты. Подобный подход приводит к тому, что некоторые суды действуют в зависимости от требований истца: если он просит взыскать задолженность по оплате, то применяют первую модель, если неосновательное обогащение — вторую32.
3.2. Статья 333 ГК РФ и прекращение обязательства по уплате неустойки в результате срабатывания условия договора об автоматическом удержании
Последствия коррекции неустойки по ст. 333 ГК РФ после ее автоматического удержания на основании прямо выраженных договорных условий в счет оплаты по договору в практике судов аналогичны последствиям снижения зачтенной по правилам ст. 410 ГК РФ неустойки33. В одном из дел суд снизил удержанную неустойку на основании ст. 333 ГК РФ и взыскал с удержавшей ее стороны разницу в виде неосновательного обогащения. Суд указал, что удержание лишило контрагента возможности оспаривать размер неустойки, поэтому ему должно быть предоставлено право заявлять о ее снижении по ст. 333 ГК РФ даже после прекращения обязательства. В ином случае происходит лишение права на су-
31См.: постановление АС Центрального округа от 08.02.2018 по делу № А14-10422/2016.
32См.: постановления АС Северо-Западного округа от 22.06.2018 по делу № А56-88564/2015, от 26.06.2018 по делу № А56-35849/2017; Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2018 по делу № А14-16757/2017.
33См., напр.: постановления АС Северо-Западного округа от 31.05.2017 по делу № А21-4801/2014, от 07.12.2016 по делу № А56-1495/2016, от 21.06.2016 по делу № А56-36224/2015.
182

Обзор практики
дебную защиту и на соразмерное уменьшение неустойки34. Такой подход следует признать верным, так как договор не может ограничивать или исключать право стороны ссылаться на ст. 333 ГК РФ (п. 69 постановления № 7), однако вопрос о квалификации требования о взыскании разницы в качестве неосновательного обогащения, как уже отмечалось, может вызвать споры.
При этом суды, как правило, отказывают во взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами или пеней на сумму, присуждаемую в соответствии с п. 79 постановления № 7, за период до момента вступления в силу решения суда. То есть суды исходят из того, что условие об автоматическом удержании сработало и основной долг погашен на величину, равную сумме начисленной неустойки. Лицо, удержавшее неустойку, узнает о наличии обязательства в виде присужденной после применения ст. 333 ГК РФ неустойки лишь из судебного решения, а значит, проценты по правилам ст. 1107 ГК РФ начисляются исключительно на будущее.
Так, при рассмотрении одного из дел Девятый арбитражный апелляционный суд аргументировал подобный вывод тем, что неустойка удержана ответчиком в соответствии с условиями заключенного сторонами договора, следовательно, сторона, удержавшая неустойку, не знала о неосновательности сбережения денежных средств35.
Подобный спор разрешил и Пятый арбитражный апелляционный суд, представив развернутую аргументацию для отказа в присуждении процентов в деле
судержанием неустойки из оплаты по договору. Суд отметил, что нет оснований для начисления договорных пеней, так как возврат необоснованно удержанной неустойки производится по новому кондикционному обязательству. Вместе
стем не были найдены и основания для начисления процентов в соответствии со ст. 1107 ГК РФ, поскольку до решения судом вопроса о снижении неустойки и возврате неосновательного обогащения удержавшее неустойку лицо не может быть привлечено к ответственности. Таким образом, суд счел, что заявившее об удержании лицо не знало и не должно было знать о неосновательности сбережения средств до момента вынесения решения суда о снижении удержанной неустойки36.
Несмотря на то, что в перечисленных делах фигурирует удержание, а не зачет по правилам ст. 410 ГК РФ, можно предположить, что и при использовании последнего ничто не помешало бы судам прийти к аналогичным выводам.
34См.: решение АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.06.2016; постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2016 и АС Северо-Западного округа от 15.12.2016 по делу № А56-14291/2016.
35См.: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2017 по делу № А40119139/2017, подтвердившее решение АС г. Москвы от 02.10.2017. Подобную аргументацию см. также: постановление АС Центрального округа от 08.02.2018 по делу № А14-10422/2016.
36См.: постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2018 по делу № А24-4597/2017. Подобную аргументацию см.: постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2018 по делу № А14-16757/2017.
183

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
3.3. Зачет неустойки против основного долга в контексте иных оснований освобождения от ответственности или ее ограничения
Неустойка не всегда корректируется по правилам ст. 333 ГК РФ. Размер ответственности может быть снижен в силу ст. 404 ГК РФ в ситуации со смешанной виной. По этому вопросу стоит отметить дело, в котором Семнадцатый арбитражный апелляционный суд столкнулся с необходимостью применить ст. 404 ГК РФ к зачтенной неустойке. Было установлено, что выполнение работ было просрочено по вине обеих сторон, и вследствие этого суд снизил неустойку на 50%. Суд решил, что зачет не повлек правовой эффект в части разницы между зачтенной и уменьшенной по правилам ст. 404 ГК РФ неустойкой37. Данное дело иллюстрирует применение первой из двух моделей возмещения недоплаченных сумм (с помощью недействительности зачета).
Кроме того, стоит отметить дела, в которых заявляются основания для освобождения от ответственности по правилам ст. 401 ГК РФ. Так, Арбитражный суд Северо-Западного округа отправил дело на новое рассмотрение в том числе по причине того, что нижестоящие суды проигнорировали возражения подрядчика против взыскания с него неустойки со ссылкой на отсутствие вины в просрочке из-за забастовки на заводе, изготавливающем необходимое для установки оборудование38. Суд продемонстрировал, что необходимо выяснять все обстоятельства, от которых могут зависеть наличие и размер зачтенной неустойки. А отсутствие встречного требования о неустойке вследствие невиновности адресата зачета порождает необходимость сделать выбор в пользу одной из моделей, по которой будет производиться взыскание недополученных сумм.
В одном из дел Арбитражный суд Северо-Западного округа использовал для подобной ситуации модель недействительности зачета. Суд усмотрел отсутствие вины в нарушении обязательств стороной договора и признал, что встречное обязательство в виде неустойки не существовало. Отсутствие встречности требований как одного из условий зачета по ст. 410 ГК РФ послужило основанием для его недействительности39.
Когда речь идет не о коррекции размера неустойки судом по правилам ст. 333 или 404 ГК РФ и не об освобождении от ответственности нарушителя договора судом в соответствии со ст. 401 ГК РФ, а об отсутствии самого факта нарушения договора (в том числе в случае просрочки самого кредитора и применении правил п. 3 ст. 405 и ст. 406 ГК РФ), у судов, казалось бы, не должны возникать вопросы. Поскольку нарушения не было и обязательство по уплате неустойки не возникло, заявление о зачете не могло произвести правопрекращающий эффект в отношении основного долга заявителя зачета. Следовательно, должна применяться первая модель, основанная на ничтожности сделки и взыскании недополученных
37См.: постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2016 по делу № А5024987/2015. Аналогичный подход см.: постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.05.2018 по делу № А60-41128/2017.
38См.: постановление АС Северо-Западного округа от 26.01.2017 по делу № А56-88124/2015.
39См.: постановление АС Северо-Западного округа от 01.03.2016.по делу № А56-73943/2014.
184

Обзор практики
сумм в качестве просроченной договорной задолженности с ретроспективным и перспективным начислением договорных пеней и сохранением всех обеспечений. Однако и по данному довольно очевидному вопросу немногочисленная практика разнится.
Например, Девятый арбитражный апелляционный суд в одном из дел расширительно истолковал п. 79 постановления № 7, указав, что адресат зачета вправе взыскивать неосновательное обогащение в порядке ст. 1102 ГК РФ не только в случае уменьшения неустойки по правилам ст. 333 Кодекса, но и в случае отсутствия оснований для начисления неустойки40. То есть суд распространил вторую модель возмещения недополученных сумм на ситуации, когда опровергается само наличие требования о неустойке, что представляется совершенно неверным.
Вместе с тем в некоторых других подобных делах используется первая модель, связанная с недействительностью зачета. Например, Арбитражный суд Дальневосточного округа отметил, что, поскольку факт нарушения договора не доказан, к зачету было заявлено несуществующее требование, а потому сделка не состоялась41. Также Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, не найдя доводов, подтверждающих наличие оснований для начисления неустойки, предъявленной к зачету, признал его не повлекшим правовой эффект42.
В случае с применением правил п. 3 ст. 405 и ст. 406 ГК РФ в одном из дел Шестой арбитражный апелляционный суд, проверяя наличие и обоснованность встречного зачтенного требования в соответствии с постановлением Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 № 12990/11, установил, что заказчик не передал вовремя подрядчику проектную документацию и уклонялся от приемки работ, а значит, имела место просрочка кредитора. Данный факт привел суд к выводу о том, что произведенный заказчиком зачет неустойки за просрочку против основного долга не повлек правовой эффект43.
***
Как следует из приведенной практики, вопрос определения последствий оспаривания наличия или размера зачтенной неустойки стоит крайне остро и должен быть разрешен Верховным Судом как применительно к ситуации снижения неустойки по правилам ст. 333 или 404 ГК РФ, так и в отношении случаев, когда адресат зачета имеет право сослаться на основания освобождения от ответствен-
40См.: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2018 по делу № А40183007/17. Аналогичную позицию см.: постановление АС Московского округа от 21.06.2016 по делу № А40-152982/2015.
41См.: постановление АС Дальневосточного округа от 08.02.2016 по делу № А51-12308/2015.
42См.: постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.01.2017 по делу № А67-2909/2016.
43См.: постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2017 по делу № А732415/2017, подтвержденное постановлением АС Дальневосточного округа от 26.12.2017. Подобный вывод см.: постановление АС Уральского округа от 20.11.2017 по делу № А60-54160/2016.
185

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
ности в соответствии со ст. 401 ГК РФ или оспаривать сам факт нарушения договора.
Выводы
Настоящий анализ позволяет сделать несколько описательных выводов и выдвинуть ряд предложений.
Во-первых, большинство судов основывают свою аргументацию в вопросе зачета неустойки против тела долга на постановлениях ВАС РФ и ВС РФ. В основном суды допускают возможность такого зачета и последующего снижения неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ. Однако среди судебных решений иногда встречаются и такие, в которых зачет неустойки против тела долга признается невозможным вследствие отсутствия бесспорности как самостоятельного условия зачета или как необходимого элемента встречности требований. В редких случаях суды указывают на неоднородность требований об уплате неустойки и о взыскании основного долга. В нескольких делах суды не признали зачет состоявшимся из-за неопределенного характера требования о неустойке, который выражается в возможности ее снижения по правилам ст. 333 ГК РФ.
Иначе говоря, практика вслед за правовыми позициями высших судов в целом развернулась в сторону либерального подхода и отошла от однозначных запретов, господствовавших еще десять лет назад. Но эффект полной унификации и правовой определенности пока не достигнут из-за прямого игнорирования отдельными судьями правовых позиций высших судебных инстанций в актах по конкретным спорам. В такой ситуации напрашивается вывод о том, что данный вопрос требует решения на уровне постановления Пленума ВС РФ.
Во-вторых, анализ показал, что встречается много дел, в которых оценивается вопрос о правовых последствиях применения ст. 333 ГК РФ после совершения зачета неустойки против основного долга. Судебная практика в основном следует модели, упомянутой Верховным Судом РФ лишь в качестве одной из возможных опций: большинство судов прямо заявляют или имплицитно оценивают зачет даже явно несоразмерной неустойки как законный и действительный и используют для восстановления справедливости правила ст. 1102 ГК РФ о неосновательном обогащении. Это значит, что они взыскивают избыточно зачтенную неустойку (часть долга заявителя зачета, которая соответствует сумме неустойки, превышающей уровень соразмерности) как неосновательное обогащение (т.е. в рамках нового внедоговорного обязательства).
Такой подход исключает возможность привлечения заявителя зачета к ответственности за просрочку в выплате данной части долга за период с момента совершения зачета до вступления в силу решения суда о применении ст. 333 ГК РФ. Кроме того, использование этой модели приводит к начислению на будущее лишь процентов по правилам ст. 395 и 1107 ГК РФ, а не, как правило, более высоких договорных пеней за просрочку в оплате долга. Также исключается со-
186

Обзор практики
хранение в отношении взыскиваемой судом суммы избыточно зачтенного долга возможных обеспечений. Представляется, что во многих случаях судебные решения, использующие данный подход, опираются на то, каким образом истцами сформулирован иск: встречается мало дел, в которых истцы требовали взыскания именно договорного долга, а суды переквалифицировали эти требования в неосновательное обогащение. Однако подобная практика демонстрирует доминирующее понимание проблемы.
В то же время такой вариант преобладает не абсолютно. Имеются и решения, реализующие иной подход, при котором заявление о зачете признается ничтожным в части, превышающей предел соразмерности неустойки, а образующуюся разницу с заявителя зачета взыскивают как договорный долг с применением установленных в договоре санкций за просрочку в оплате (за период с момента совершения зачета, т.е. ретроспективно) и сохранением обеспечений.
Та же неопределенность в использовании подходов присутствует и в отношении споров о применении ст. 333 ГК РФ после погашения начисленной неустойки в результате срабатывания договорных условий об автоматическом удержании (пр кращении взаимных денежных обязательств сторон без специального заявления одной из них). Очевидно, что практика по данному вопросу должна быть унифицирована. Крайне полезным будет появление правовой позиции на уровне постановления Пленума ВС РФ.
В-третьих, судами рассматривается довольно мало дел о влиянии на произведенный зачет и динамику обязательственных отношений оспаривания факта нарушения договора и самого наличия долга по уплате неустойки, а также наличия оснований для освобождения от ответственности по правилам ст. 401 ГК РФ или уменьшения неустойки при смешанной вине по правилам ст. 404 ГК РФ. Суды не ставят под сомнение саму возможность защитить адресата зачета на случай необоснованного принятия к зачету несуществующего, снимаемого с адресата по правилам ст. 401 ГК РФ или подлежащего снижению по правилам ст. 404 ГК РФ его долга по уплате неустойки. Однако вопрос о том, используется ли здесь модель полной или частичной ничтожности заявленного зачета или модель нового внедоговорного обязательства по уплате неосновательного обогащения, пока находится в зоне правовой неопределенности. В немногочисленной практике одни суды используют первую модель, другие — вторую. По данным вопросам говорить о каких-либо общих тенденциях довольно сложно. Представляется, что и по этой проблеме необходима фиксация правовой позиции Пленумом ВС РФ.
References
Chvanenko D.A. Collection of Penalty by Setoff [Vzyskanie neustoiki putem osuschestvleniya zacheta]. Lawyer [Yurist]. 2012. No. 22. P. 8–13.
Egorov A.V. Setoff of a Penalty and Principal Debt. How to Convince the Court of Its Lawfulness [Zachet neustoiki protiv osnovnogo dolga. Kak ubedit’ sud v ego pravomernosti]. Arbitrazh Practice [Arbitrazhnaya praktika]. 2017. No. 10. P. 54–61.
187

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 2/2019
Karapetov A.G., ed. Law of Contracts and Obligations (General Part): Article-by-Article Commentary to Articles 307–453 of the Civil Code of Russian Federation [Dogovornoe i obyazatel’stvennoe pravo (obshaya chast’): postateinyi kommentarij k stat’yam 307–453 Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii]. Moscow, Statut, 2017. 1120 p.
Krasheninnikov E.A. Main Challenges of a Setoff [Osnovnye problemy zacheta], in: Krasheninnikov E.A., ed. Trade Law Essays: Collection of Essays [Ocherki po torgovomu pravu: sb. st.]. Yaroslavl, Yaroslavskiy gosudarstvennyy universitet, 2009. No. 10. P. 3–28.
Pavlov A.A. Positive Premises for a Setoff [Pozitivnye predposylki zacheta], in: Varul P.A., ed. Collection of Scientific Articles in Honor of 60th Anniversary of E.A. Krasheninnikov: Collection of Essays [Sbornik nauchnykh statey v chest’ 60-letiya E.A. Krasheninnikova: sb. st.]. Yaroslavl, Yaroslavskiy gosudarstvennyy universitet, 2011. P. 71–90.
Information about the author
Ekaterina Avtonova — Third-Year Student of the Saint Petersburg State University (e-mail: eavtonova@gmail.com).
188

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ |
WWW.IGZAKON.RU |
Выходит с 1992 года
Ежемесячный информационно-аналитический журнал. Удостоен премии «Фемида» за 2007 год.
«ЗАКОН» – это уникальное сочетание научно-практических статей, новостных материалов, качественной аналитики и экспертных комментариев
В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ
Главная тема: Строительство и недвижимость
Среди авторов номера:
Д.С. Некрестьянов
Отмена и изменение разрешения на строительство
Анализ новелл ГрК и новые правовые риски застройщика
В.С. Петрищев, А.С. Подмаркова
Очередная реформа норм о самовольном строительстве: оценка новелл
Какие перегибы в практике административного сноса уйдут с новым регулированием?
А.А. Акифьева, Е.И. Лысова
Уголовная ответственность за заключение картельных соглашений: зарубежный опыт
Оправданно ли лишать свободы за картель?
ТЕМА БЛИЖАЙШИХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «ЗАКОН»:
МАРТ |
Убытки в гражданском праве |
АПРЕЛЬ |
Судебная реформа: современное состояние |
МАЙ |
Legal Tech |
ИЮНЬ |
Европейское правосудие и конституционное право |
Подписной индекс 39001 в Объединенном каталоге «Пресса России», в каталоге Агентства «Роспечать»
Подписаться в редакции — https://zakon.ru/Subscription
Реклама
w w w . i g z a k o n . r u

ООО «Издательская группа «Закон» Адрес: 121151 г. Москва, ул. Студенческая, д. 15, комн. 1, 2 Тел. (495) 927-01-62







 ВЗ1ПГ19 от 24.01.2019
ВЗ1ПГ19 от 24.01.2019
|
|
|
|
|
|
|
Комплект «Вестник экономического пра- |
|
6 |
1600-00 |
8400-00 |
|
восудия Российской Федерации»+«Закон» |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
эл. версия, I полугодие 2019 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8400-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
763-64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8400-00 |
|
|
|
|
|
|
«ВЭП РФ» + «Закон»
I полугодие 2019 г.










 ВЗ1ПГ19 от 24.01.2019
ВЗ1ПГ19 от 24.01.2019

ООО «Издательская группа «Закон» Адрес: 121151 г. Москва, ул. Студенческая, д. 15, комн. 1, 2 Тел. (495) 927-01-62







 ВЗ1ПГ19 от 24.01.2019
ВЗ1ПГ19 от 24.01.2019
|
|
|
|
|
|
|
Комплект «Вестник экономического пра- |
|
6 |
1600-00 |
8400-00 |
|
восудия Российской Федерации»+«Закон» |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
печатн. изд., I полугодие 2019 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8400-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
763-64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8400-00 |
|
|
|
|
|
|
«ВЭП РФ» + «Закон»
I полугодие 2019 г.










 ВЗ1ПГ19 от 24.01.2019
ВЗ1ПГ19 от 24.01.2019
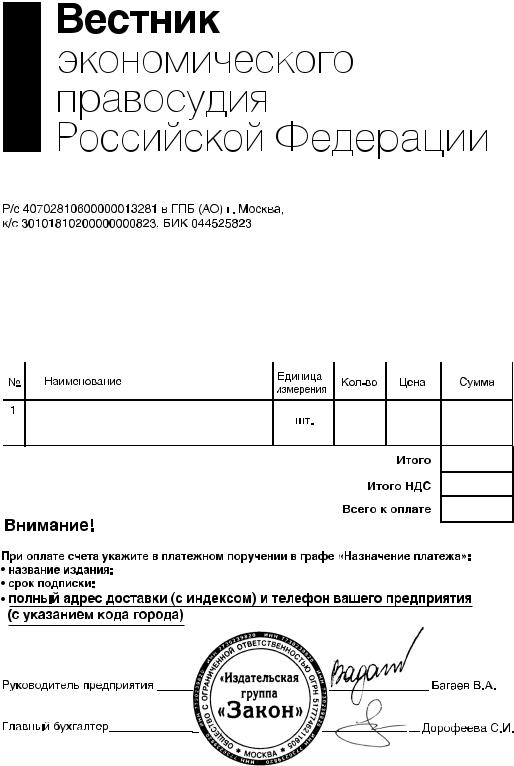
ООО «Издательская группа «Закон» Адрес: 121151 г. Москва, ул. Студенческая, д. 15, комн. 1, 2 Тел. (495) 927-01-62







 ВР1ПГ19 от 24.01.2019
ВР1ПГ19 от 24.01.2019
Журнал «Вестник экономического |
6 |
900-00 |
4800-00 |
правосудия Российской Федерации», печатн. изд., I полугодие 2019 г.
4800-00
436-38
4800-00
«Вестник экономического правосудия РФ»
I полугодие 2019 г.










 ВР1ПГ19 от 24.01.2019
ВР1ПГ19 от 24.01.2019


Реклама
Более 49 100 пользователей
12 050 юристов
2550 студентов
1341 компания
Сергей
Будылин
старший юрист компании
Roche & Du ay
«Можетлипострадавшая отразрывадоговорныхотношений
сторонаполучитьудовлетворение от«интервента»? Англо-американскаясистема праваотвечаетнаэтотвопрос положительно»
