
Арбитраж 22-23 учебный год / Арбитражная практика № 11, ноябрь 2016
.pdf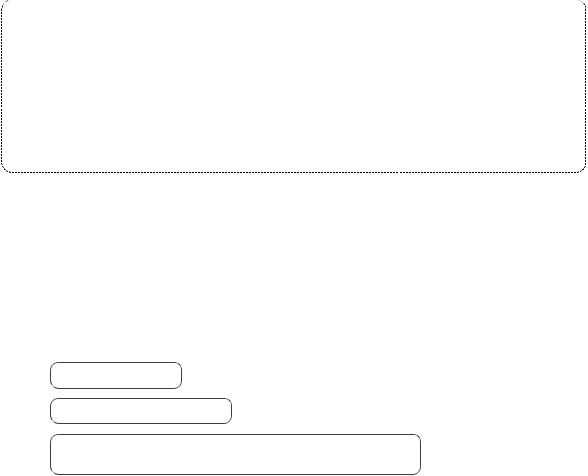
с ограничением прав и свобод гражданина, требуют обязательного присутствия административного ответчика либо его представителя. В связи с чем такие споры не могут быть рассмотрены в порядке упрощенного производства.
Административные дела, срок рассмотрения которых меньше срока, установленного Кодексом для упрощенного производства, также не могут быть рассмотрены по правилам гл. 33 КАС РФ (абз. 3 п. 70 Постановления Пленума ВС № 36).
Срок рассмотрения административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства составляет 10 дней со дня вынесения определения о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства. В одном деле суд, вопреки ходатайству о рассмотрении дела в порядке упрощенного (письменного) судопроизводства, рассмотрел заявление в открытом судебном заседании. Он обосновал это тем, что дело назначено на дату, выходящую за пределы 10-дневного срока, и, следовательно, не может быть рассмотрено в упрощенном производстве (апелляционное определение Тверского областного суда от 10.08.2016 по делу № 33–3332/2016).
Вы внимательно прочитали статью? Тогда ответьте на вопрос:
Должен ли законный представитель по административному делу иметь высшее юридическое образование?
Нет, это необязательно
Да, это обязательное требование
Подтверждение образования необходимо, если суд усомнится в компетенции представителя
Звезда за правильный
ответ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СПОРЫ
Орган местного самоуправления хочет снести постройку без суда. Как владельцу защитить свои права
Владислав Сергеевич Костко
советник юридической фирмы «Авелан»v.kostko@avelan.ru
•Какой орган вправе признать постройку самовольной
•Когда решение органа местного самоуправления о сносе здания незаконно
•Законен ли снос объекта, когда суд отказал в сносе по причине пропуска срока исковой давности
В2015 году ст. 222 ГК РФ (самовольная постройка) была дополнена п. 4, который юристы охарактеризовали как «административный порядок сноса» (Федеральный закон от 13.07.2015 № 258-ФЗ).
Всоответствии с данным пунктом органы местного самоуправления вправе принять решение о сносе строений, размещенных на земельном участке, который не был предоставлен для этих целей в установленном порядке. При этом такой земельный участок должен быть расположен
в зоне с особыми условиями использования территорий, на территории общего пользования или в полосе отвода инженерных сетей. Снос также может быть организован, если застройщика не удалось выявить в установленном порядке.
Одним из главных недостатков нововведений в ст. 222 ГК РФ является неопределенность их действия. В норме четко не сказано ни о том, каким образом осуществляется снос, если органы местного самоуправления принимают такое решение, ни о порядке и возможности сноса в отношении известных владельцев. Нет определенности и в компетенции органов
самоуправления. Все это позволяет ставить вопрос о соответствии п. 4 ст. 222 ГК РФ Конституции РФ.
Предоставление органам местного самоуправления права на снос построек без решения суда противоречит Конституции
К. И. Скловский отмечает не только отсутствие какой-либо процедуры организации сноса органами местного самоуправления, но и тот факт, что закон не дает им такой компетенции,
поскольку они не вправе оценивать доказательства и сами являются стороной спора1. Автор приходит к выводу, что административный снос в текущем виде оказался вне права и противоречит основам действующего законодательства. Также ученый обращает внимание, что
признание возможности сноса в административном порядке означает предоставление органам самоуправления возможности как обратиться с иском о сносе в суд, так и снести спорный объект
своим решением без суда2.
Очевидно, что наличие у органов самоуправления такого выбора — предъявить иск или обойтись без него — само по себе свидетельствует, что во втором случае они берут на себя функцию правосудия. На это также обращает внимание Е. А. Мотлохова, которая считает, что норма противоречит принципу разделения властей. Автор пишет: «По смыслу статьи 118 Конституции Российской Федерации полномочия по оценке сведений о факте самовольного строительства, оценке доказательств на их относимость, допустимость и достоверность принадлежат
исключительно судам»3.
Действительно, когда органы самоуправления принимают решение о сносе, они по каким-то соображениям делают выводы об отнесении спорной постройки к самовольной, оценивают обстоятельства строительства и предоставления земельного участка застройщику, в целом соотносят норму ст. 222 ГК РФ с установленными ими же конкретными обстоятельствами. Но, чтобы проверить правильность сделанного ими «логического вывода из фактических обстоятельств дела и норм объективного права, необходимо установить эти обстоятельства, отыскать подходящие нормы и истолковать их. Все это предполагает знание действующего права, опытность в применении его, умение разбираться в юридических отношениях, словом, требует создания особых органов власти, которые обладали бы надлежащей подготовкой и действовали
при условиях, обеспечивающих правильное и беспристрастное разрешение дел»4. Обобщая сказанное, проверить это может лишь суд.
Так, Е. В. Васьковский указывает: «Вследствие этого в современных культурных государствах проверка правомерности предъявляемых гражданами друг к другу требований в области их частных правоотношений поручается специальным органам власти, именуемым гражданскими
судами»5. Исходя из слов ученого, вряд ли можно назвать современным культурным государством то, которое позволяет стороне спора вместо суда самостоятельно устанавливать и оценивать факты такого спора, принимать на их основе решение и самой же его исполнять. Как раз именно по той причине, что имеются две стороны с противоположными выводами и доказательствами, требуется оценка со стороны специального государственного органа, не заинтересованного в споре. Видимо, иного мнения придерживается Московский городской суд, который в известном деле при рассмотрении заявлений о признании постановления Правительства Москвы
от 08.12.2015 № 829-ПП недействующим, как противоречащим Конституции РФ, а также нормам действующего законодательства, оставил заявления без удовлетворения, отказавшись обсудить вопрос, являются ли вообще спорные объекты самовольными постройками (решение от 24.12.2015 по делу № 3а-907/2015).
И дело не только в том, что функция суда осуществляется совершенно неприспособленными для нее органами местного самоуправления. Прежде всего суд действует, руководствуясь процессуальным законодательством, в соответствии с установленными процедурами и не вправе вести процесс и принимать решение произвольно. Даже правильное по существу решение, но с нарушением процесса его принятия не считается правомерным и законным (например, если судебный акт основан на недопустимых доказательствах, при наличии безусловных оснований для отмены и т. п.).
Правоприменительная деятельность, кем бы она не осуществлялась, состоит из трех стадий: 1) установление фактов; 2) юридическая квалификация; 3) принятие решения. Причем исследование обстоятельств дела (хотя это в целом относится ко всей правоприменительной деятельности) «должно производиться в рамках и на основе установленного правопорядка, в предусмотренных процессуальных формах, с помощью надлежащих юридико-
доказательственных средств»6. Но никаких процессуальных форм для принятия органами местного самоуправления решений о сносе нет, никакой порядок сбора и исследования доказательств не установлен.
Именно по этим причинам никак нельзя признать хоть сколько-нибудь обоснованными доводы со стороны властей г. Москвы, где, как известно, п. 4 ст. 222 ГК РФ получил самое широкое применение, о том, что «всем известно, как владельцы снесенных павильонов получили свидетельства о праве собственности». Даже когда «всем известно», факт самовольного
строительства должен быть установлен в предусмотренном законом порядке. Иначе, перефразируя известный афоризм У. Черчилля, — когда произвол устраняется другим произволом, то количество произвола не меняется.
Но проблема не только в том, что вопросы правосудия разрешаются не судом, причем не в рамках какой-либо ясной для всех процедуры. Еще хуже — заинтересованной в исходе дела стороной. Совершенно ясно, что одновременно быть стороной спора и принимать решения определенно невозможно, поскольку «беспристрастность является самой сутью суда <…> судья, учитывающий требования и интересы только одной из сторон спора, утрачивает характер судьи и становится
переодетым в судейскую тогу защитником и представителем этой стороны»7.
К. И. Скловский отмечал, что в развитие избранного законодателем подхода логичнее было бы внести изменения в Закон об исполнительном производстве и признать решение органа местного
самоуправления исполнительным документом8.
При этом нет сомнений, что вопрос об отнесении постройки к самовольной — это предмет спора между застройщиком и органами местного самоуправления. Действительно, назвать бесспорным
вкаждом конкретном случае вопрос отнесения объекта к самовольной постройке никак нельзя. Достаточно указать, что весь предшествующий (до обсуждаемых изменений) период действия ст. 222 ГК РФ вопрос об отнесении объекта к самовольной постройке являлся предметом
доказывания в суде в ходе процесса о сносе. И хотя закон не знает специального иска о сносе или признании постройки самовольной (ст. 12 ГК РФ), порядок и условия предъявления исков о сносе был выработан судебной практикой и достаточно подробно описан в совместном постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих
всудебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
Административный порядок сноса допустим, только когда владелец спорной постройки неизвестен
После внесенных изменений в ст. 222 ГК РФ законодательное определение самовольной постройки не претерпело существенных изменений: как и прежде, согласно п. 1 под ней понимается здание, строение, сооружение, возведенное на участке, не предоставленном в установленном порядке (причем п. 4 ст. 222 ГК РФ действует только в этом случае), либо разрешенное использование которого не допускает строительства данного объекта, либо
возведенные без разрешения, либо с нарушением градостроительных норм или правил. Для целей оценки объекта в качестве самовольной постройки нововведения в ст. 222 ГК РФ ничего не добавили. Следовательно, и после изменения обсуждаемой нормы решение об отнесении
постройки к самовольной должно приниматься и обсуждаться судом. Ведь административный порядок рассмотрения предполагает бесспорность требования, тогда как наличие спора «требует более углубленного исследования и объективно требует более четких гарантий его правильного разрешения, что, как правило, может быть достигнуто только в процессе искового
производства»9. Но даже когда требование бесспорно, то все равно требуется его рассмотрение, пусть и в административном порядке, при этом п. 4 ст. 222 ГК РФ не предполагает никакого порядка вообще.
По этим причинам нельзя согласиться с мнением, что ранее суды принимали решения, «до внесения поправок в ст. 222 ГК РФ, которая изменила критерии самовольности постройки», и без исследования обстоятельств, связанных с возведением объектов капитального
строительства на территории общего пользования или в охранной зоне, и т. д.10.
Дело в том, что как раз критерии самовольности остались те же. В пункте 4 ст. 222 ГК РФ не сказано, что объект, размещенный в указанной зоне (охранной, территории общего
пользования и т. д.), является самовольным. Зато сказано, что в отношении расположенной там самовольной постройки решение о сносе вправе принять органы местного самоуправления.
Но ведь понятно, что для реализации органами местного самоуправления такого решения должен быть разрешен вопрос о самовольной постройке на основании п. 1 ст. 222 ГК. Поэтому более обоснованным кажется взгляд, согласно которому вопрос об отнесении постройки к самовольной решает только суд. «Признать постройку самовольной может только суд <…> Подход <…>
не изменился и с введением административного порядка их сноса»11.
Между тем от применения п. 4 ст. 222 ГК РФ никуда не деться, а потому следует подумать, каким образом он должен толковаться, чтобы его применение соответствовало действующему законодательству.
Обращает на себя внимание, что норма называет не любые случаи самовольного строительства,
атолько один — возведение постройки на участке, который для этого не предоставлялся. Стало быть, органы местного самоуправления не вправе принимать подобное решение ни в каких иных случаях, даже если строение можно отнести к самовольной постройке и по иным признакам, указанным в п. 1 ст. 222 ГК РФ. Значит, органы местного самоуправления действуют в этом случае более для защиты права на земельный участок, чем с целью защиты публичных интересов, что также свидетельствует о необходимости искового порядка разрешения спора,
ане административной процедуры. Также закон уточняет, что указанные участки должны
относиться к зонам с особыми условиями использования территорий, полосам отвода инженерных сетей и т. д.
Закон говорит о возможности для органов местного самоуправления организовать снос в случае, когда застройщик не выявлен в результате всех предпринятых действий в соответствии с п. 4 ст. 222 ГК РФ (публикации в СМИ, в том числе в сети Интернет, размещение информации на информационном щите). Представляется, что смысл обсуждаемого положения закона в том, что
если владелец неизвестен, то и спор с ним невозможен: в самом деле, кто будет ответчиком в таком случае? Тогда административный порядок сноса допустим по той причине, что
невозможно осуществить защиту посредством обращения к государственным органам. Кроме того, очевидно, что под такие случаи будут подпадать, скорее всего, очень редкие ситуации, когда государственная регистрация на объект отсутствует, а никаких договорных отношений по предоставлению земельного участка, на котором расположено спорное строение,
не существует и т. п. Ведь иначе владелец может быть установлен без особого труда. То есть это всегда исключительные обстоятельства, при которых внесудебный снос объекта может быть хоть как-то оправдан. И тогда слова в п. 4 ст. 222 ГК РФ о том, что владелец не выявлен, следует понимать так, что лицо неизвестно. Если же оно известно, то внесудебный порядок не допускается, даже если место нахождения такого лица неизвестно. Но в таком случае должно
быть расследование, каким образом органы местного самоуправления допустили строительство неизвестным лицом, по каким причинам процесс строительства не был прерван и почему органы местного самоуправления позволили занять земельный участок.
Как правило, снос осуществляется в отношении известных лиц, которые не только не прячутся, но к моменту сноса уже успели в судебном порядке успешно защититься от исков о сносе возведенных объектов.
Что касается выявленных застройщиков (владельцев), у которых подобный судебный акт отсутствует, то очевидно, что закон требует с целью сноса предъявления соответствующего иска в суд. Указание на возможность организации сноса, когда застройщик не выявлен, обязывает рассматривать умолчание законодателя об известных владельцах как исключающее возможность того же порядка сноса в отношении них. Допущение, что снос без обращения в суд разрешен законодателем по умолчанию, не выдерживает никакой критики. Например, совершенно невозможно предполагать, что вопрос о наличии или отсутствии права собственности может быть решен без суда. Вспомним, что ранее ВАС РФ уже квалифицировал административный снос как противоречащий Конституции РФ, в том числе ввиду того, что орган местного самоуправления посредством квалификации постройки как самовольной предрешил вопрос о праве собственности владельца на объект (поскольку никаких прав на самовольную постройку не возникает), хотя закон не предоставляет такого права административным органам (п. 1 информационного письма ВАС РФ от 09.12.2010 № 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации»). Но ведь в части отсутствия у административных органов права признать строение самовольным и после нововведений в ст. 222 ГК РФ ничего не поменялось.
Такой иск вряд ли можно назвать иском о признании постройки самовольной. Закон не указывает на такой способ защиты (ст. 12 ГК РФ). И, кроме того, вряд ли заявитель может обосновать свой интерес в иске о признании постройки самовольной тем, что после такого признания снос может быть осуществлен непосредственно органами местного самоуправления. Сама по себе ссылка на это обстоятельство означает, что интерес заявителя в том, чтобы снести строение, а не просто признать его самовольной постройкой. Но тогда требуется предъявление соответствующего иска о сносе.
Также представляется не соответствующим смыслу п. 4 ст. 222 ГК РФ довод о том, что судебный акт о признании постройки самовольной должен быть принят до решения о сносе. Так, если этот вопрос может быть выяснен в деле о сносе, то принятие в дальнейшем органом местного самоуправления указанного решения является излишним — снос осуществит служба судебных приставов. В целом порядок представляется следующим: сначала принимается решение о сносе, затем предпринимаются попытки выявить застройщика и только потом либо осуществляется снос во внесудебном порядке, когда установить владельца не удалось, либо предъявляется иск о сносе строения.
Впрочем, в противоречие с указанным смыслом п. 4 ст. 222 ГК РФ органы местного самоуправления обычно сначала принимают решение о сносе и организуют его осуществление без суда. Это заставляет владельцев обращаться в суд первыми с обжалованием таких действий, чтобы предотвартить снос. Застройщики вынуждены доказывать отсутствие признаков п. 1 ст. 222 ГК РФ в неисковом порядке, что лишает их, кроме всего прочего, возможности ссылки на пропуск срока исковой давности. К. И. Скловский отмечает, что длительное необращение с иском — это нарушение публичных обязанностей, что само по себе не может рассматриваться как обстоятельство, позволяющее органам местного самоуправления избежать искового порядка
рассмотрения спора12.
Решение о сносе незаконно при отсутствии иска о сносе и судебного решения о признании постройки самовольной
Судебная практика свидетельствует, что в судебных процессах о сносе самовольных построек по искам органов местного самоуправления вопросы организации сноса в нарушение судебного порядка вообще не обсуждаются. Однако при этом суд иногда хотя бы пытается выяснить, действительно ли постройка является самовольной. Обычно суды отмечают лишь то, что орган местного самоуправления вправе принять решение о сносе. Представляется, что в таких делах требовать доказательств отсутствия или наличия признаков самовольной постройки с целью проверки действий органов местного самоуправления на соответствие закону неправомерно. Поскольку установленный п. 4 ст. 222 ГК РФ порядок не предполагает внесудебный снос для выявленных владельцев, незаконность действий и решений о сносе должна быть установлена лишь в силу самого факта отсутствия иска о сносе со стороны органов местного самоуправления, отсутствия судебного решения о признании постройки самовольной. При этом орган местного самоуправления не вправе ссылаться на то, что постройка имеет признаки, установленные в п. 1 ст. 222 ГК РФ, так как этот вопрос, во-первых, должен выясняться в исковом порядке, а вовторых, это будет означать, что орган местного самоуправления получает выгоду из своего незаконного поведения, что запрещено п. 4 ст. 1 ГК РФ.
Может показаться противоречивым, что органы местного самоуправления не вправе принимать решение о сносе без судебного акта, хотя ранее было высказано предположение, что порядок п. 4 ст. 222 ГК РФ предусматривает сначала принятие решения, а уже после — обращение в суд. Однако никакого противоречия нет, поскольку все зависит от того, какой порядок сноса принят в том или ином регионе. К примеру, в Москве, где в противоречии с ГК РФ считается, что органы местного самоуправления вправе принять решение и осуществить снос при любых обстоятельствах во внесудебном порядке, принятие самого по себе решения и уведомление о сносе будут свидетельствовать о несоответствии закону. В таком случае действия органа местного самоуправления неправомерны не по той причине, что они не вправе принимать решение (его они принять могут), а по той, что они не могут без суда организовать снос.
Решение же на основании подобного порядка будет являться по умолчанию этапом внесудебного сноса объекта, и поэтому может быть признано незаконным.
Можно ли признать законным снос объектов в тех случаях, когда суд признал строение самовольным, но отказал в иске о сносе по причине пропуска срока исковой давности? Ведь органы местного самоуправления вправе ссылаться на то, что именно суд проверил и установил признаки п. 1 ст. 222 ГК. Ответ на этот вопрос отрицательный. Ведь если суд уже решил спор не в пользу органа местного самоуправления (причем не имеет значения, по каким причинам
вудовлетворении иска было отказано), то не только его повторное рассмотрение уже невозможно, но и не допускаются никакие действия, направленные на реализацию требования,
вкотором было отказано. Если сторона, иск которой не удовлетворен, тем не менее самостоятельно будет реализовывать свое требование, то такое поведение следует квалифицировать как правонарушение, заключающееся в несоблюдении требования закона об обязательности судебных актов (ст. 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ст. 13 ГПК РФ, ст. 16 АПК РФ). Если суд
отказал органу местного самоуправления в иске о сносе, то дальнейшие действия по сносу будут означать, что такой судебный акт не обязателен для органа местного самоуправления. А это прямо противоречит закону. Абсолютно точное замечание по этому поводу делает А. Г. Зайцева: «преодоление судебного решения путем принятия административным органом юрисдикционного акта, влекущего для участников спора, по которому было принято судебное решение, иные последствия, нежели определенные этим судебным решением, означает нарушение установленных Конституцией РФ судебных гарантий прав и свобод, не соответствует самой
природе правосудия»13.
Исходя из этого, даже если считать, что п. 4 ст. 222 ГК РФ предоставил органам местного самоуправления полномочие на административный снос, которого ранее у них не было, необходимость соблюдения требования обязательности судебных актов не позволяет реализовать это полномочие, если суд уже рассмотрел спор о сносе и отказал в удовлетворении иска. Важно то, что суд не удовлетворил требование. При этом причины отказа органы местного самоуправления никак не могут использовать, чтобы не соблюдать решение. Действительно, органы местного самоуправления не могут ссылаться на то, что спор проигран по причине пропуска срока исковой давности (тем более что его пропуск — это само по себе нарушение обязанностей такого органа).
По мнению А. Н. Латыева, действия по сносу в таких случаях противоречат п. 3 ст. 199 ГК РФ, которая запрещает осуществлять право в одностороннем порядке после истечения срока исковой
давности14. С этим мнением можно согласиться с оговоркой. С одной стороны, норму п. 3 ст. 199 ГК РФ следует понимать так, как об этом сказано в Концепции развития гражданского законодательства РФ: в п. 7.2 говорилось о запрете внесудебной односторонней реализации задавненного требования, а в качестве обоснования указывалось на невозможность ссылки на пропуск срока. Значит, в рассматриваемом пункте говорится о запрете на реализацию любого задавненного требования.

С другой стороны, следует обратить внимание на то, что п. 3 ст. 199 ГК для применения указанного запрета не только не требует предварительного отказа в иске по причине пропуска исковой давности, но, более того, если такое решение имеется, то норма вообще не применяется. В этом случае действует правило об обязательности судебных актов, которое само по себе запрещает реализовывать требование. Скажем, если суд отказал в иске о взыскании денежных средств (как по причине пропуска срока исковой давности, так и по любой иной), то зачет не допускается, так как иначе будет нарушена обязательность судебного акта, а не в силу пропуска исковой давности. Изменение же п. 3 ст. 199 ГК РФ понадобилось именно для того, чтобы не дожидаться предъявления иска в суд и его рассмотрения: ведь иначе лицо, пропустившее срок, получало бы выбор — обратиться в суд, но тогда есть опасность отказа в иске, или же реализовать требование самостоятельно.
Но из сказанного следует, что и в отсутствие решения об отказе в иске застройщики вправе ссылаться на незаконность действий по сносу только в силу пропуска срока исковой давности.
В отношении же тех застройщиков, которые имеют судебный акт, подтвердивший право собственности на спорный объект, с еще большей долей уверенности можно сказать, что административный снос невозможен (точнее — никакой порядок сноса невозможен).
Таким образом, можно указать следующие случаи, когда решение о сносе и действия органов местного самоуправления должны считаться незаконными, не соответствующими п. 4 ст. 222 ГК РФ:
1) если орган местного самоуправления принял решение о сносе во внесудебном порядке в отношении выявленных владельцев и уведомляет о начале процедуры сноса в соответствии с таким решением;
2)если суд уже отказал в иске о сносе в связи с пропуском исковой давности;
3)если вопрос о сносе не рассматривался в судебном порядке, но решение о сносе принимается за пределами срока исковой давности.
Однако при этом следует признать, что в первом случае ссылки на незаконность решения только в силу того, что вопрос должен решаться в исковом порядке, будет наталкиваться на признание такого нормативного акта соответствующим закону (например, законным было признано постановления Правительства Москвы от 08.12.2015 № 829-ПП).
1 См.: Скловский К. И. О допустимости «административного сноса» самовольного строения // Закон. 2016. № 6.
2 Там же.
3 Мотлохова Е. А. Особенности правового режима самовольных построек в российском гражданском праве // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2015. № 10.
4 Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. М.: Лань, 2013. С. 4. 5 Там же.
6 Нерсесянц В. С. Общая теория государства и права. М.: Инфра-М. С. 489–491.
7 Васьковский Е. В. Избранные работы польского периода. М.: Статут, 2016. С. 29. 8 См.: Скловский К. И. Указ. соч.
9 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 109.
10См. об этом: Семенова Е. Снос строений. Конфликт интересов? // ЭЖ-Юрист. 2016. № 11.
11Иванов А. Кум Тыква здесь больше не работает // Корпоративный юрист. 2016. № 4; также см.: Яковлев Н. Снос торговых точек в Москве. Где кончается неприкосновенность частной собственности, или как суды делегируют свои функции местным органам власти // Жилищное право. 2016. № 6. С. 12.
12Скловский К. И. Указ. соч.
13Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ / под ред. Т. К. Андреева (автор комментария к ст. 16 АПК РФ — А. Г. Зайцева). М.: Статут, 2013.
14См. материалы А. Н. Латыева к научному круглому столу «Правовые проблемы самовольного строительства» в Юридическом институте «М-Логос». Режим доступа: http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovye_problemy_samovolnogo_stroitelstva.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОРЫ
Правообладатель судится с нарушителем. Пять оснований для снижения компенсации ниже низшего предела
Дмитрий Андреевич Бородин
консультант ИЦЧП при Президенте РФdmitry.a.borodin@gmail.com
•Как СИП ограничил круг нарушений, компенсацию по которым нельзя снизить ниже низшего предела
•Повлияет ли материальное положение нарушителя на размер компенсации за нарушение исключительных прав
•Какие действия правообладателя повлекут снижение компенсации для ответчика
Определение размера компенсации при одновременном нарушении прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности (РИД) вызывает ряд спорных вопросов. Например, в ситуации, когда неправомерно распространяются материальные носители с записанными на них произведениями. В таких случаях размер компенсации рассчитывается автоматически: компенсация за одно произведение определяется по нижней границе — 10 тыс. руб., и эта сумма умножается на количество произведений. Число произведений на материальном носителе может составлять несколько десятков, поэтому суды часто воспринимают итоговую сумму как несоразмерную последствиям нарушения, но не подлежащую снижению из-за «жесткого» характера нижней границы компенсации. Ответом на такие ситуации стали поправки в ст. 1252 ГК РФ. Они позволяют, в случае принадлежности прав на соответствующие РИД одному правообладателю, назначить компенсацию ниже низшего предела, но не менее 50% от суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения (п. «в» ч. 19 ст. 3 Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). На данный момент можно выделить пять основных факторов, с учетом которых суды снижают размер компенсации по данному основанию.
Новая редакция статьи 1252 ГК не применяется к нарушениям, совершенным до ее вступления в силу
Подход законодателя о снижении компенсации за нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности напоминает положения п.п. 2.2, 2.3 ст. 4.1 КоАП РФ о снижении суммы административного штрафа. При этом сходство прослеживается не только в пределе снижения (не менее 50%), но и в его мотивах. ГК РФ, как и КоАП РФ, указывает
на возможность снижения с учетом «характера и последствий нарушения», не повторяя, однако, возможность учета материального положения нарушителя (что возможно в соответствии с КоАП).
Предложенное решение представляется промежуточным — снижение на половину суммы компенсации не будет достаточным для всех ситуаций, в которых итоговый размер компенсации представляется судьям явно несоразмерным. Разобраться необходимо с глобальным подходом — может ли компенсация выполнять карательную функцию. Пока же указанный в законе критерий соразмерности и упоминаемый в судебной практике «восстановительный характер» компенсации диссонируют с ситуациями, когда взыскиваемая за один случай нарушения компенсация превышает потенциальный доход ответчика за несколько лет. Уже исходя из понимания общей посылки — допустимо ли наказывать с помощью компенсации в рамках гражданского процесса — можно будет сконструировать более подробное руководство судам для назначения компенсации и, возможно, реформировать положения закона о нижней границе компенсации. Так, в практике иностранных государств встречаются различные способы формулирования положений
о компенсации в твердой сумме (statutory damages), в том числе о ее низшей границе
и об одновременном нарушении прав на несколько РИД. Нижняя граница компенсации может вовсе отсутствовать или иметь место только для умышленных нарушений — в таком случае суд фактически обладает возможностью определить, уместно ли использование компенсации
вконкретной ситуации. Например, если истец не представляет никаких доказательств, свидетельствующих о наличии у него убытков. Также возможно установить различные нижние границы компенсации для разных видов нарушений. Что касается противодействия «мультипликации» компенсаций — когда при множественности нарушений путем умножения получается несоразмерная последствиям нарушения итоговая сумма, то для таких ситуаций
взарубежной практике также имеются различные подходы. Среди них встречаются такие, как возможность назначения компенсации ниже низшей границы (без лимита снижения) в случае явной несоразмерности, квалификация множественности нарушений как одного нарушения,
установление специальной верхней границы для таких ситуаций и другие способы ограничения1.
Строгих правил для конструирования данного способа защиты не существует, и в зависимости от того, какую цель должна преследовать компенсация (только ли восстановительную или карательную), следует сопровождать нормы о компенсации более подробными правилами о порядке ее назначения.
Практика применения новой редакции ст. 1252 ГК РФ позволяет сделать вывод, что у судов попрежнему нет единообразного понимания цели компенсации. С вступлением в силу новой редакции ст. 1252 ГК ответчики по делам о нарушении исключительных прав стали предъявлять соответствующие возражения, требуя снизить сумму компенсации ниже низшего предела. Такие возражения предъявлялись и в делах о нарушениях, совершенных до вступления в силу новой редакции ст. 1252 ГК РФ. В связи с этим возник вопрос о действии данной нормы во времени. Первоначально суды допустили применение новой редакции в таких делах, рассматривая эти нормы как руководство для суда, но не положения, определяющие гражданские права и обязанности. Соответственно и юридически значимым моментом для применения новой
редакции ст. 1252 ГК РФ являлся момент определения судом итогового размера компенсации, а не причинение вреда в виде нарушения исключительного права (решения АС Кемеровской области от 06.11.2014 по делу № А27-9619/2014, от 07.11.2014 по делу № А27-10172/2014). В такой трактовке положения ст. 1252 ГК РФ сближали компенсацию с публично-правовым
штрафом, и в этом контексте обратная сила норм, смягчающих ответственность, была бы вполне уместна (хотя и в предложенном судами варианте толкования новой редакции ст. 1252 ГК вопрос об обратной силе признавался не имеющим значение).
Однако через некоторое время данная практика прекратилась в связи с принятием ряда актов Судом по интеллектуальным правам. Кассация призвала суды ориентироваться на то, что придание нормам обратной силы — это прерогатива законодателя, а в законе о внесении изменений в ст. 1252 ГК РФ оговорка об обратной силе отсутствует, но указывается, что данные нормы применяются к правам и обязанностям, которые возникнут после дня его вступления в силу (постановления СИП от 15.01.2015 по делу № А55-30825/2014, от 05.04.2016 по делу № А511098/2015).
Для целей ст. 1252 ГК РФ права и обязанности считаются возникшими в момент совершения нарушения исключительных прав, соответственно и новая редакция данной статьи не подлежит применению, если нарушение совершено до ее вступления в силу. В подкрепление данной позиции использовались ссылки на Конституционный суд РФ, который в ответе на запрос Суда по интеллектуальным правам указал, что нормы того же закона, которым вносились изменения в ст. 1252 ГК (расширявшие перечень случаев свободного использования произведений), не имеют обратной силы. Обозначенная позиция СИП закрепилась в практике и впоследствии использовалась судами. Тем не менее само возникновение такого вопроса демонстрирует
отсутствие ясности по поводу того, выступает ли компенсация в роли публичного штрафа или гражданско-правовой меры ответственности.
Возможность для рассуждений на тему роли компенсации за нарушение исключительных прав предоставляет и практика по снижению компенсации в соответствии с новой редакцией ст. 1252 ГК РФ. Ниже представлен краткий обзор оснований, которые используют суды для применения новой нормы.
Индивидуальные предприниматели имеют большие шансы на снижение компенсации ниже низшего предела
За период действия новой редакции ст. 1252 ГК РФ в практике накопилось значительное количество примеров применения новых норм. Как уже отмечалось выше, новые положения ст. 1252 ГК в качестве оснований для снижения указывают на характер и последствия нарушения. В то же время анализ правоприменительной практики показывает, что суды ссылаются на более широкий перечень обстоятельств (хотя встречаются и случаи снижения компенсации ниже низшего предела без развернутой мотивировки (решения АС г. Москвы от 26.05.2016 по делу № А40-40017/2016, от 26.05.2016 по делу № А40-39114/2016)). Ниже будет представлен краткий обзор таких обстоятельств, который полезен как для уяснения содержания категории «характер
нарушения»2, так и для определения направления дальнейших изменений положений ГК РФ о компенсации.
Тяжелое материальное положение. Прежде всего, интерес вызывает практика, в рамках которой восполняется отличие между новой редакцией ст. 1252 ГК и положениями КоАП о назначении административного штрафа, а именно по делам, где суды подробно исследуют материальное положение ответчиков. Ответчиками по типичным делам об одновременном нарушении прав на ряд результатов интеллектуальной деятельности часто являются
индивидуальные предприниматели. В связи с этим суды регулярно указывали на их тяжелое материальное положение как основание для снижения компенсации ниже низшего предела. Большое распространение такой подход получил в Арбитражном суде Алтайского края. Так, в ряде дел суд анализировал средний доход индивидуального предпринимателя, имеющиеся
у него задолженности по кредитам и наличие других лиц на иждивении (решения от 30.06.2015 по делу № А03-6316/2015, от 03.07.2015 по делу № А03-22423/2014, от 06.07.2015 по делу № А03-21001/2014, от 08.07.2015 по делу № А03-22532/2014). Аналогичный подход применил и Арбитражный суд Пермского края в решении от 13.11.2015 по делу № А50-11482/2015.
По результатам такого анализа суды делали вывод, что взыскание с ответчика полной суммы компенсации поставит его в тяжелое материальное положение, в связи с чем она должна быть снижена в два раза. Любопытно, что при взыскании компенсации по таким делам суды отмечают не только достаточность итоговой суммы для возмещения убытков истца (восстановительный характер), но и ее превентивный эффект — «сумма будет достаточной для того, чтобы возместить возможные материальные потери истца вследствие нарушения его исключительных прав ответчиком, а также достаточной для того, чтобы ответчик впредь не нарушал исключительные права истца».
Другим примером учета тяжелого материального положения ответчика являются дела, где при назначении компенсации учитывалось состояние здоровья индивидуального предпринимателя, в частности группа инвалидности (решение АС Тульской области от 30.09.2015 по делу № А687389/2015).
В контексте указанных дел стоит отметить, что в ГК РФ имеется специальная норма о возможности снижения размера возмещения вреда, неумышленно причиненного гражданином, — это п. 3 ст. 1083. Применимость данной нормы к приведенным выше делам о нарушении исключительных прав маловероятна по формальным критериям. Так, в ст. 1083 ГК указывается на возможность снижения при причинении вреда только гражданином, но не индивидуальным предпринимателем. Однако тот факт, что в делах о нарушении исключительных прав суды принимают во внимание материальное положение ответчика, сближает понимание компенсации в таких делах со штрафом по КоАП РФ, нежели чем с обязательствами по возмещению вреда.
Вина. Закон о внесении изменений в ст. 1252 ГК РФ также изменил и ст. 1250 ГК РФ о значении вины для привлечения к ответственности за нарушение исключительных прав. Вопрос обсуждался и ранее, но данная новелла окончательно закрепила, что меры ответственности за нарушение исключительных прав при осуществлении предпринимательской деятельности применяются независимо от вины нарушителя. В то же время анализ применения новой редакции ст. 1252 ГК демонстрирует, что если вина и не является обязательным условием ответственности, то форма
вины активно используется как основание для дополнительного снижения размера компенсации. Суды часто указывают на неосторожность нарушителей, которые не проявили достаточную степень заботливости и осмотрительности (решения АС Алтайского края от 27.11.2014 по делу № А03-12837/2014, Кемеровской области от 04.12.2014 по делу № А27-14766/2014, Свердловской области от 25.02.2016 по делу № А60-54898/2015). Также суды отмечают, что субъекты малого предпринимательства имеют меньшие возможности по проверке законности ввода в гражданский оборот товаров по сравнению с крупными организациями (решения АС Смоленской области от 21.07.2016 по делу № А62-8656/2015, от 25.07.2016 по делу № А628661/2015).
Опять-таки здесь следует задаться вопросом, какое же значение может иметь степень вины, если речь идет о применении меры ответственности с исключительно восстановительным (компенсационным) характером? Между тем привлечение публично-правовых категорий для руководства при назначении компенсации было санкционировано уже давно. Так, еще в 2009 году высшие суды указали, что при назначении компенсации должно учитываться наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя (п. 43.3 постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Так что в этой части практику следует признать последовательной.
Малозначительность нарушения. Для снижения компенсации ниже низшего предела суды учитывают целый ряд таких обстоятельств, которые позволяют сделать вывод о выработке концепции, близкой к категории малозначительности нарушения (ст. 2.9 КоАП РФ). Такие обстоятельства часто встречаются в делах, в которых фигурирует неправомерное распространение индивидуальными предпринимателями товаров с произведениями (товарными знаками) правообладателей. Суды в таких случаях отмечают:
—отсутствие неоднократности нарушения («тиражности») (решения АС Республики Башкортостан от 28.07.2016 по делу № А07-25999/2015, от 03.08.2016 по делу № А07-26122/2015, ЯмалоНенецкого округа от 18.08.2016 по делу № А81-2777/2016);
—отсутствие сведений о ранее совершенных нарушениях (решение АС Кемеровской области
от 04.12.2014 по делу № А27-14766/2014);
—маленькую стоимость материальных носителей;
—точное совпадение произведения и товарного знака (решения АС Республики Башкортостан от 23.03.2016 по делу № А07-26001/2015, Ставропольского края от 25.03.2016 по делу № А63936/2016, от 28.06.2016 по делу № А63-930/2016);
—возможность предъявления требований к другому лицу (решение АС Иркутской области
от 07.12.2015 по делу № А19-6315/2015). То есть конечные распространители продукции (а не ее производители) рассматриваются как вносящие меньший вклад в причинение вреда правообладателю, а последний таким образом стимулируется к поиску и привлечению к ответственности лиц, которые осуществляют производство контрафактной продукции.
В таком контексте любопытно, что возможность предъявления требования к другому лицу рассматривается как основание для снижения суммы компенсации, хотя при предусмотренной законом возможности регресса (в случае отсутствия вины конечного причинителя) разумнее возложить большее взыскание на найденного правообладателем конечного нарушителя (которому, вероятно, личность производителя известна лучше, чем правообладателю). В данном подходе снова прослеживается восприятие компенсации как публичного штрафа, размер которого определяется в зависимости от тяжести нарушения, а не размера вреда правообладателя.
И в таком контексте распространение контрафактного товара рассматривается как менее тяжкое деяние, чем его производство.
Отсутствие подтверждения убытков и действий истца по увеличению компенсации повлекут ее снижение
Основаниями для снижения компенсации ниже низшего предела выступают не только обстоятельства, связанные с ответчиком, но и определенные факторы, связанные с истцомправообладателем.
Злоупотребление правом истцом. При определенных обстоятельствах обращение правообладателя за защитой исключительных прав рассматривается как злоупотребление правом. Это также учитывается как основание для снижения итоговой суммы компенсации в соответствии с новой редакцией ст. 1252 ГК РФ. Так, в одном из дел суд расценил действия истца по закупке товаров в тайне от ответчика с целью дальнейшего получения максимальной суммы компенсации как недобросовестное поведение и как злоупотребление гражданскими правами (решение АС Алтайского края от 08.07.2015 по делу № А03-22532/2014). При этом суды обращают
внимание на то, что правообладатель использует компенсацию как способ получения большего дохода, не предъявляя требование сразу после обнаружения нарушения, а только по прошествии некоторого периода времени. К основаниям для снижения компенсации суды относят и то, что правообладатель до предъявления требований о взыскании компенсации не направляет нарушителю требования о прекращении нарушения, например, не ставит ответчика в известность о незаконности продаж товаров (решение АС Алтайского края от 27.11.2014 по делу № А0312837/2014).
Трактовка обращения за судебной защитой как злоупотребления правом вызывает некоторые вопросы, но применительно к рассматриваемым ситуациям важны последствия такой квалификации. Суд не отказывает в судебной защите (что предусмотрено ст. 10 ГК РФ как основное последствие злоупотребления правом), а лишь использует такую квалификацию в качестве дополнительного основания для снижения компенсации, отмечая достаточность
взыскиваемой в итоге суммы для возмещения причиненного вреда. Учитывая, что взыскиваемая сумма выполняет функцию возмещения вреда, следует признать, что такая аргументация используется как способ ограничения использования в рамках гражданского судопроизводства публично-правового элемента, присутствующего в компенсации.
Убытки правообладателя. То обстоятельство, что вероятные убытки правообладателя — это лишь один из факторов, который должен приниматься к учету при назначении компенсации, не позволяет утверждать, что компенсация выполняет исключительно восстановительную роль. Не менее значимы для определения размера компенсации особенности поведения ответчика и возможный доход, который он получил бы вследствие нарушения. Тем не менее отсутствие убытков регулярно рассматривается как основание для снижения компенсации ниже низшей границы. Суды отмечают, что правообладатели не представили доказательства потерь, понесенных вследствие нарушения исключительных прав, что позволяет снизить компенсацию (решения АС Свердловской области от 14.07.2016 по делу № А60-23994/2016, от 14.07.2016 по делу № А60-24001/2016). В данном вопросе практика соответствует недавней позиции Верховного суда РФ о том, что компенсация назначается исходя из представленных обеими
сторонами доказательств (п. 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015). На взыскание компенсации до минимального размера в отсутствие доказательств убытков правообладателя отмечалось и в документах рекомендательного характера (п. 3.2 Справки НКС СИП по вопросам взыскания компенсации за нарушение исключительного права). Когда суд констатирует, что в конкретном деле отсутствуют какие-либо фактические обстоятельства, позволяющие судить о размере вреда правообладателя, компенсация представляет из себя санкцию за «нарушение
само по себе» (injury as such)3.
Таким образом, обзор практики арбитражных судов по применению новой редакции ст. 1252 ГК РФ позволяет сделать некоторые обобщающие выводы. Безусловно, в большинстве случаев мотивировки судов носят сумбурный характер, и в судебных актах для снижения компенсации указываются все значимые обстоятельства без выделения того, как каждое из них повлияло на размер компенсации. С другой стороны, такой подход позволяет заключить, что назначаемая компенсация никак не соотносится с возможными потерями правообладателя. Последние, как правило, не представляют доказательств своих убытков, в связи с чем задача судов по назначению компенсации становится схожей с задачей по определению размера
административного штрафа. В этих целях суд прежде всего анализирует поведение нарушителя и оценивает тяжесть совершенного им нарушения. Соответственно установленной тяжести компенсация и снижается до новой низшей границы. Характерно, что во всех рассмотренных выше делах суды полностью использовали потенциал п. 3 ст. 1252 ГК, снижая компенсацию вплоть до 50% от суммы минимальных размеров. Возможно предположить, что будь в новой редакции указание на 30%, компенсация снижалась бы и до такого предела. Отмена же нижней границы по образцу некоторых зарубежных юрисдикций приведет и к вовсе номинальному размеру взыскиваемых сумм.
Компенсация априори стала восприниматься как слишком большая для типичных дел о нарушении исключительных прав. В спорах между правообладателями и индивидуальными предпринимателями для судов стало характерно использовать все предусмотренные законом возможности для ее снижения, а иногда и придумывать дополнительные возможности. Например, в ряде судебных актов один компакт-диск с несколькими десятками записанных на нем
