
Экзамен зачет учебный год 2023 / koldin_v_ya_obosnovanie_pravovogo_resheniya_faktologicheskiy
.pdf131
цессуальной, логической и информационной структуры вещественных доказательств представляет актуальную задачу процессуальной и юридической науки.
В числе комплексных средств решения указанных задач не последнее место занимает также разработка информационных и экспертных методов анализа вещественных источников, которая является важным резервом повышения качества расследования и судебного рассмотрения наиболее сложных уголовных и гражданских дел.
Подводя итог анализу деления источников на материальные и знаковые, а также вещественные и личные (документы, сообщения), следует констатировать, что их терминология не в полной мере отвечает потребностям современных информационных технологий.
Поскольку любые источники как носители информации являются материальными объектами и любое отражение материальное или психическое - всегда имеет материальный субстрат, свойство их материальности не может случить для их классификации.
Кроме того, термин «вещественный» или «материальный», как было показано выше, приводит к смешению функций носителя, который всегда «вещественный и материальный», с формой отражения, которая может быть как сигнальной, так и знаковой.
Классификация источников на вещественные и личные (сообщения, документы) в силу тех же причин, а также неоднозначности понятия «документ», «сообщение» также не вполне соответствует своему назначению.
Для классификации форм отражения информации источником мы предлагаем использовать однозначно понимаемые и принятые в информатике термины «сигнал» и «знак». В соответствии с этим по форме отражения информации следует различать сигнальные (естественный код) и знаковые (искусственный код) источники. В первом случае информация содержится в сигналах и исследуется методами анализа объективной причинности.
Во втором - в знаках, имеющих конвенциональную природу и исследуемых по формуле «знак - значение» методами семантического анализа.
Эта классификация источников по простоте и очевидности
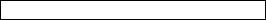
132
своего основания, а также ее значимости для формирования методик исследования обладает рядом преимуществ перед соответствующими традиционными классификациями.
Знаковые источники информации Формой выра-
жения информации в знаковом источнике являются уже не материальные свойства вещи, а знаки (буквы, цифры, символы, условные графические, световые, звуковые или иные подобные обозначения), содержащие сведения, исходящие от лиц в форме устных, письменных или иных сообщений.
Структура знакового источника информации может быть выражена схемой:
Материальный объект — Знак — Информация
Из схемы видно существенное различие структуры знакового и сигнального источника информации. Это различие состоит в том, что функция сигнала - носителя информации, выраженная в сигнальном источнике материальными свойствами вещи, в знаковом источнике переходит на знак.
Знак (буквы, цифры, слова, тексты, коды и т.д.) является субститутом оригинала. Однако знаки, в отличие от сигналов, не подобны оригиналу, который представляют, и поэтому они могут быть носителями информации о нем только в том случае, когда знаки уже имеют для субъектов речевого общения свое значение, т.е. если на их основе уже сформированы знаковые оброзы соответствующих объектов. Такими знаками, например, могут быть обозначения марок автомашин или систем огнестрельного оружия («Ауди», «Макаров» и т.п.), дактилоскопические формулы, обозначающие структуру папиллярного узора, и т.п.
Знак, таким образом, может дать информацию о предмете только тогда, когда субъект, получающий эту информацию, способен дешифровать ее. Например, извлечь из дактилоскопической формулы информацию может только специалист, который знает правила классификации в дактилоскопии, т.е. дактилоскопические коды.
Знаковые системы в фактологическом анализе весьма перспективны, так как с ними связана возможность использовать кибернетику, математическую логику, семиотику и другие развива-

133
ющиеся области познания, основанные на использовании знаковых систем.
Знаковая форма, будучи формой выражения информации, является одновременно и процессуальным средством доказывания, предусмотренным законом (показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, заключения экспертизы, протоколы следственных и судебных действий и иные документы).
Следует отметить также важное различие познавательной роли сигнала и знака.
Если за сигналом стоит реальный объект действительности, то знак является производным от человеческих понятий, образов. Поскольку знаки лишь условно связаны с обозначаемыми объектами, ими могут обозначаться и несуществующие, мнимые объекты.
Понятно, что это различие имеет принципиальное значение для процесса расследования.
Разграничение сигнальных и знаковых источников информации и соответствующих им методов исследования в ряде случаев вызывает затруднение. Эти затруднения вызваны двумя обстоятельствами. С одной стороны, не всегда очевидна сама форма выражения информации: материальная или знаковая, с другой - в одном и том же источнике нередко сочетаются различные формы выражения информации: и материальная и знаковая.
Получило довольно широкое распространение отнесение к числу документов фотографических снимков места происшествия, отдельных следов и предметов, а также следовых копий и объемных слепков, изготавливаемых ей следов1.
Это обосновывается тем, что указанные источники являются приложениями к протоколу того следственного действия, в ходе которого они получены, и что они, подобно протоколу, воспроизводят, описывают обстановку места происшествия. Применительно к фотографии указывалось, что «светописное письмо»
1 Авдеев М. И. Судебно-медицинская экспертиза трупа. М.: Медицина, 1976; Арсеньев В. Д. Понятие документов и их значение как доказательств в советском уголовном процессе // Труды Иркутского гос. ун-та. Т. XIII. 1955; Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. М.: Юрид. лит.,
1982.

134
также представляет родственную графическую форму воспроизведения.
Мы полагаем, что эти признаки не являются существенными и достаточными для отнесения указанных опосредствованных источников информации к знаковой форме воспроизведения.
Образование фотографического изображения, так же как любых слепков и следовых копий, происходит на основе строгих объективных закономерностей: объектив строит изображение по объективным законам оптики: проявление и фиксация, электроннооптические и иные преобразования изображения также опираются на объективные физико-химические взаимодействия и законы.
С другой стороны, существенной особенностью знака является то, что он отражает содержание человеческих понятий и образов, является производным от них. Фотографический снимок, будучи результатом природного взаимодействия тел, отражает не понятия и образы человека, а находящиеся перед объективом конкретные объекты, их вещественные свойства и особенности.
Сказанное не учитывается авторами, относящими фотографические снимки к документам, т.е. знаковой форме воспроизведения.
Неправильность классификации может вести и к ошибочным практическим выводам в использовании доказательственной информации. Так, отнесение фотоснимков к документам приводит В. Д. Арсеньева к выводу о том, что «первоисточниками сведений, зафиксированных на них, являются лица, изготовившие такие документы: фотограф, кинооператор и т.д.»1.
Согласно этой точке зрения следователь и суд, в соответствии с принципом непосредственности, должен был бы произвести не осмотр фотографии места происшествия, а допрос фотографа, выполнившего эту фотографию. Практика, однако, идет по другому пути: следователь и суд пользуются фотографиями, а необходимость в вызове фотографа возникает только в тех редких случаях, когда применение фотографии не было должным образом оформлено и возникают вопросы относительно условий и способов фотографирования. Такая процедура использования фотографии, повсеместно принятая на следствии и в судах, отнюдь не является
1 Арсеньев В. Д. Указ. соч. С. 117.

135
случайной. Объясняется она тем, что источником информации, сведений, зафиксированных на фотоснимках, является не фотограф, кинооператор и т.д., а материальная обстановка расследуемого события, запечатленная объективом и светочувствительным материалом. Понятно, что исследование такой обстановки удобнее осуществлять, пользуясь самими фотоснимками, а не показаниями лиц, производивших фотографирование. Объективность и универсальность фотографического отображения делает его незаменимым источником информации.
Вопрос об основаниях деления знаковых и сигнальных источников информации особенно часто рассматривается в связи с разграничением письменных документов и документов - вещественных доказательств. Широкое распространение при этом получила точка зрения, разграничивающая документы - вещественные доказательства и письменные документы в зависимости от того, что именно представляет в данном источнике интерес для дела: содержание или форма. Наиболее отчетливо эта точка зрения выражена М. А. Чельцовым, определяющим письменные доказательства как документы, подтверждающие или отрицающие своим содержанием какие-либо факты, относящиеся к преступлению или обвиняемому. Если же «документы важны для дела, либо своим внешним видом... либо местом и обстоятельствами своего обнаружения»1, они являются вещественными доказательствами.
Такой критерий классификации представляется не вполне удачным, Любой источник информации имеет значение для дела как с точки зрения своей формы, так и с точки зрения своего содержания. Без изучения способа и формы выражения информации невозможно установить содержащуюся в источнике доказательственную информацию. Так, содержание документа может быть установлено лишь постольку, поскольку оно выражено в определенной графической форме букв, слов, цифр, условных обозначений. Уничтожение такой формы, например, в силу смывания, выцветания, вытравливания, стирания и т.д. делает невозможным подчас и установление содержания документа.
1 Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1951. С. 325, 326; Якуб М. Л. Виды доказательств в советском уголовном процессе // Советский уголовный процесс. М., 1956. С. 111-112.

136
С другой стороны, любой источник информации представляет интерес для дела лишь постольку, поскольку он является источником существенной для дела доказательственной информации, т.е.
всилу своего содержания. Если источник не содержит таких данных или если имеющиеся в нем данные по содержанию не относятся к обстоятельствам рассматриваемого дела, он теряет характер источника информации по расследуемому событию. Так, любой предмет приобретает значение материального источника информации лишь постольку, поскольку его свойства содержат следы или признаки, отражающие связь с расследуемым событием и предоставляющие информацию о нем. «Бессодержательные» предметы, т.е. предметы и вещи, не содержащие информации о расследуемом событии, уже в силу этого не могут быть источниками информации.
Конечно, термин «сведения» или «сообщения», как об этом пишет М. С. Строгович1, мало подходит к информации, получаемой от вещей. Однако из этого отнюдь не следует, что вещественные доказательства, как это утверждает В. Д. Арсеньев, не дают информации о фактах прошлого2. Информация, как об этом пишет сам В. Д. Арсеньев3, имеется и в вещах, но выражена она признаками и свойствами предмета, а не знаками.
Суть, таким образом, не в том, что представляет интерес и имеет значение, - содержание или форма источника информации. Суть вопроса состоит в том, как оформлено содержание, как выражена содержащаяся в источнике доказательственная информация:
вформе материальных признаков и свойств вещей или в форме знаков.
Деление источников информации на знаковые и сигнальные имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение, непосредственно связываясь с проблемой выбора метода и создания технологии анализа источников.
При исследовании материальных источников получение информации основано на изучении следов взаимодействия вещей и
1Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. С. 203.
2Арсеньев В. Д. Указ. соч. С. 85.
3Там же. С. 119.
137
существующих между ними природных причинных связей. Информация о событии выражена в материальных источниках
в преобразованном, «закодированном» виде. Таковы, например, данные о внешнем строении орудия, следе трения или давления, данные о скорости движения автомашины в следе торможения, данные о размерах и формах предметов в фотографических снимках и т.д.
В связи с этим получение информации предполагает исследование преобразования сигнала информации в источнике по цепи физической причинности, например: объект - след - слепок; объект - негатив - позитив; скорость движения автомобиля - длина следа торможения и т.д.
Само исследование часто связано с таким преобразованием сигнала, при котором он приводится к наиболее удобной для наблюдения и сравнения форме. Подобные преобразования являются способом получения фактических данных, дешифровки содержащейся в источниках информации.
Показательным в этом отношении является использование электронно-оптического преобразователя для прочтения и фотографирования невидимого текста документа. Прежде чем стать читаемым в виде четко различимых штрихов букв на экране преобразователя, текст документа проходит цепь физических преобразований: вначале объектив прибора строит оптическое изображение документа в невидимых лучах на катоде преобразователя, затем электронная линза строит невидимое электронное изображение на аноде, который одновременно является люминесцирующим экраном. Последний преобразует невидимое изображение в видимое, которое может наблюдаться непосредственно или подвергаться дальнейшим фотографическим преобразованием.
Преобразование сигналов информации по цепи физической причинности и приведение их в удобную для исследования и дешифровки форму составляет содержание многих оптических, фотографических, электронно-оптических и иных физических и химических методов, применяемых при исследовании материальных источников информации. При этом вид и конкретная методика исследования определяются характером материальных свойств объекта - носителя информации.
Так, невидимые при обычном освещение пятна и тексты
138
(слюна, сперма, обесцвеченные тексты и др.) выявляются путем фотографирования инфракрасной люминесценции; закрытые пятна или заклеенные тексты выявляются путем их фотографирования в инфракрасных лучах; тип пули, застрявшей в мягких тканях задержанного преступника, устанавливается посредством рентгеноскопического исследования.
Существенно отличается методика исследования исходящих от людей и выраженных в знаках сообщений.
Такое исследование предполагает два элемента (которым соответствуют основные задачи и этапы исследования).
1.Исследование смысловой стороны знака, т.е. выяснение содержания выражаемого им образа. Так, при допросе свидетеля выясняется, что именно имел в виду допрашиваемый, используя данный оборот речи; при ознакомлении с протоколом осмотра восстанавливаются мысленно признаки описываемых предметов; при оценке заключения эксперта уясняется смысл использованных им терминов и заключения.
2.Исследование соответствия образа объекту. Поскольку выраженные знаками образы могут как соответствовать действительности, так и не соответствовать ей (мнимые, искаженные, ошибочные представления), важная задача исследования состоит в установлении такого соответствия. Решается эта задача путем изучения условий формирования образа.
Так, например, для выяснения соответствия действительности представлений очевидца преступления выясняются условия, при которых наблюдались описываемые им факты (освещенность и удаленность объекта, продолжительность наблюдения, физическое состояние самого свидетеля, его отношение к наблюдаемым фактам и обвиняемому и т.д.). Для выяснения соответствия действительности выводов эксперта анализируется использованная им методика исследования, проверяются последовательность, непротиворечивость и обоснованность его аргументации и т.д.
Таким образом, для выяснения соответствия сообщения действительности требуется исследование двух типов отношений изоморфизма: знак - образ и образ - объект. Искажения и ошибки могут содержаться в любом из этих отношений.
Сообщения, исходящие от людей, содержащие существенные

139
фактические данные по делу, выражены обычно в форме общенародного языка (устной или письменной речи).
В связи с этим выяснение соответствия сообщения действительности требует уяснения специфики сигнальной функции слова. Слову, как и любому знаку, условно придано определенное значение, составляющее его содержание и позволяющее использовать слово в качестве заместителя обозначаемого им объекта. «Название какой-либо вещи, - отмечал К. Маркс, - не имеет ничего общего с ее природой»1. Между словом и обозначаемым им предметом не существует никакой природной связи. В отличие от сигнала, изменения которого непосредственно обусловлены изменениями физического процесса - носителя сигнала, слово, как знак, выражает лишь содержание человеческого образа (понятия, ощущения и т.д.). При этом сам образ может соответствовать действительности, а может и не соответствовать ей.
Использование слов для передачи сообщений связано с такими процессами мышления, как обобщение и систематизация знания, переход от внешних признаков к сущности наблюдаемого явления. Все эти процессы неразрывно связаны со «словесной оболочкой» таких сообщений, как показания свидетелей и обвиняемых, заключения экспертов, протоколов следственных действий и иных документов.
Показания свидетелей, например, в значительной своей части представляют не констатацию непосредственно воспринятых ими явлений, а их оценку, суждения об их связи с другими явлениями, об их смысле и значении. Это обстоятельство вполне понятно и закономерно, так как характеризует свойственное человеческому сознанию стремление отразить главное, существенное в явлениях окружающего его мира.
Оценочный элемент в сообщениях во многом обусловливается особенностями следственной ситуации, ролью источника сообщения в обстоятельствах дела.
Показательным в этом отношении является раскрытое по горячим следам ограбление пункта обмена валюты инвестиционного банка «Аист», совершенное тремя грабителями в Столешниковом
1 Маркс К. Капитал. С. 107.
140
переулке Москвы. Двоих налетчиков, азербайджанцев по национальности, оперативники задержали по месту жительства и изъяли часть похищенных ими денег.
Налет на пункт обмена валюты был совершен утром 17 марта 2004 г. Преступники напали на кассира обменного пункта, когда он, придя на работу, открывал двери помещения. Оглушив кассира ударом по голове, бандиты затащили его внутрь помещения и потребовали деньги. При этом один из нападавших изрезал ему лицо ножом. После непродолжительного сопротивления кассир выдал преступникам из сейфа всю наличность - крупную сумму в рублях и долларах. Налетчики скрылись на поджидавшей их неподалеку машине.
На след банды грабителей сыщикам МУРа удалось выйти, когда покалеченный кассир опознал «кавказскую внешность» одного из своих мучителей. Как он утверждал, этот человек несколько раз менял у него небольшие суммы, вероятно, занимаясь разведкой места, где планировалось преступление. Сыщикам пришлось перелопатить гору справок о покупке валюты, в которых значились кавказские фамилии, чтобы выяснить имя грабителя. Им оказался 39-летний Э. Оруджаев из Азербайджана, широко известный в криминальных кругах Баку. Связавшись с правоохранительными органами столицы закавказской республики, оперативники выяснили несколько адресов в столице, по которым мог скрываться Оруджаев, и выставили там засаду. Как оказалось, налетчик после совершенного ограбления не вернулся на улицу Мусы Джалиля, где был временно зарегистрирован, а бросился по землякам и знакомым. Однако по всем возможным адресам азербайджанца уже ждали оперативники. Сделав своим приятелям несколько звонков, преступник почувствовал опасность, но все-таки вернулся на улицу Мусы Джалиля. Задержав разыскиваемого, муровцы нашли при нем часть похищенных денег. Еще некоторую сумму нашли при обыске у второго налетчика - 40-летнего А. Каримова, которого поймали вскоре после ареста главаря банды. Каримов легально занимался в Москве частным извозом, но с легкостью пошел на преступление, когда Оруджаев предложил ему ограбить обменный пункт и предоставил свою машину.
Как видно из фабулы данного дела, решающее значение для раскрытия преступления имела оценка потерпевшим этнической
