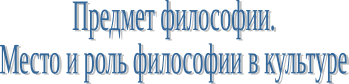- •Часть I
- •Вопрос 1. Понятие мировоззрения.
- •1.2. Структура мировоззрения.
- •1.3. Формы мировоззрения
- •Научное мировоззрение
- •Вопрос 2. Дофилософские
- •2.1. Миф как исторический тип мировоззрения
- •2.2. Религия как исторический тип мировоззрения
- •Вопрос 3. Философия как
- •Вопрос 4. Природа философии. Своеобразие метода философии
- •Вопрос 5. Философия как знание. Функции философии.
- •5.1. Особенности философского знания
- •5.2. Функции философии
- •Вопрос 6. Основной вопрос
- •6.1. Онтологическая сторона
- •6.2. Гносеологическая сторона основного вопроса
- •Вопрос 1. Логика рождения и
- •Вопрос 2. Сократический период античной философии.
- •2.3. Сократические философские школы
- •Вопрос 3. Философия Платона
- •3.1. Краткие сведения о Платоне
- •3.2. Учение об идеях (эйдосах) или идеи как бытие
- •Учение о душе, чувственном и интеллектуальном знании
- •Социальная утопия и проекты «идеального законодательства»
- •Вопрос 4. Философия Аристотеля
- •4.5. Этические и социально-политические воззрения Аристотеля
- •Вопрос 5. Основные философские школы эллинизма. Эпикуреизм. Стоицизм. Скептицизм. Неоплатонизм.
- •5.3. Философская школа стоиков
- •5.4. Философская школа
- •Вопрос 1. Исторические условия возникновения христианства
- •Организация и структура ранней христианской церкви.
- •Зарождение монотеизма в Древнем Риме.
- •1.3. Специфика философии Средневековья
- •Вопрос 2. Теоцентричность
- •Вопрос 3. Апологетика и патристика
- •Вопрос 4. Номинализм и реализм в схоластический период (VII–XIV вв.) Средневековья.
- •Принцип бритвы Оккама
- •Вопрос 1. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизации бытия. Понятия материального и идеального.
- •Вопрос 2. Материя. Пространство. Время. Идея единства мира. Научная картина мира.
- •Вопрос 3. Детерминизм и
- •Вопрос 1. Природа сознания и антропосоциогенез
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 3.
- •Вопрос 4. Личность и творчество
- •Вопрос 5. Вера и знание
- •Вопрос 6. Проблема истины.
- •Вопрос 7.
- •Вопрос 8. Научное и вненаучное знание. Критерии научности
- •Вопрос 9. Структура научного познания, его методы и формы. Рациональное и иррациональ-ное в познавательной деятель-ности
- •Вопрос 10. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника
- •Философия: курс лекций
- •Часть I
- •Учебное издание
А. В.Кузнецов
ФИЛОСОФИЯ
курс лекций
Часть I

КУРСК
2007
ББК 87.Я 73 Печатается по решению
Р 15 редакционно-издательского
совета НОУ ВПО РОСИ
А.В.Кузнецов. Философия:
курс лекций. Часть I. – Курск, 2007. – 130 с.
Предлагаемое учебное пособие подготовлено в соответствии с «Государственными требованиями (Федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины». Содержание дидактических единиц этих требований по философии раскрывается через изложение основных философских направлений, течений, школ и учений, составляющих богатство философии, начиная с древнейших времен и заканчивая современностью.
Пособие рассчитано на студентов, аспирантов и преподавателей высшей школы, на всех, кто интересуется философией.
Рецензенты:
Е.А.Когай, доктор философских наук
Е.И.Арепьев, доктор философских наук;
В.Т.Мануйлов, кандидат философских наук;
2007 © Кузнецов А.В.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ |
8 |
ЛЕКЦИЯ 1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре |
15 |
Вопрос 1. Понятие мировоззрения. Структура и формы мировоззрения |
16 |
1.1. Понятие мировоззрения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
16 |
1.2. Структура мировоззрения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
17 |
1.3. Формы мировоззрения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
18 |
Вопрос 2. Дофилософские мировоззрения и картины мира |
19 |
2.1. Миф как исторический тип мировоззрения . . . . . . . . . . |
19 |
2.2. Религия как исторический тип мировоззрения . . . . . . . . |
22 |
Вопрос 3. Философия как рационально-теоретическая форма мировоззрения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
27 |
Вопрос 4. Природа философии. Своеобразие метода философии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
31 |
Вопрос 5. Философия как знание. Функции философии. Философия и гуманитарный рост |
33 |
5.1. Особенности философского знания . . . . . . . . . . . . . . . |
33 |
5.2. Функции философии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
35 |
Вопрос 6. Основной вопрос классической философии |
40 |
6.1. Онтологическая сторона основного вопроса классической философии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
40 |
6.2. Гносеологическая сторона основного вопроса классической философии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
42 |
ЛЕКЦИЯ 2. Античная философия |
45 |
Вопрос 1. Логика рождения и развития идей в досократовской философии, её специфика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
46 |
1.1. Характеристика досократического периода античной философии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
46 |
1.2. Милетская философская школа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
47 |
1.3. Пифагорейская философская школа . . . . . . . . . . . . . . |
50 |
1.4. Философия Гераклита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
53 |
1.5. Элейская (элеатская) философская школа . . . . . . . . . |
55 |
Вопрос 2. Сократический период античной философии. Сократовские школы |
60 |
2.1. Релятивизм (скептицизм) софистов. Относительная и абсолютные истины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
60 |
2.2. Общие принципы познания в философии Сократа . |
63 |
2.3. Сократические философские школы . . . . . . . . . . . . . . |
65 |
Вопрос 3. Философия Платона |
68 |
3.1. Краткие сведения о Платоне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
68 |
3.2. Учение об идеях (эйдосах) или идеи как бытие . . . . . . . |
68 |
3.3. Учение о душе, чувственном и интеллектуальном знании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
69 |
3.4. Социальная утопия или проекты «идеального законодательства» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
69 |
Вопрос 4.Философия Аристотеля |
71 |
4.1. Краткие сведения об Аристотеле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
71 |
4.2. Критика учения Платона, идеи и единичные чувственные вещи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
72 |
4.3. Материя, форма, сущность, четыре рода причин, космос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
72 |
4.4. Учение о душе, познании, методе . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
73 |
4.5. Этические и социально-политические воззрения Аристотеля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
75 |
Вопрос 5. Основные философские школы эллинизма. Эпикуреизм. Стоицизм. Скептицизм. Неоплатонизм |
76 |
5.1. Характеристика эллинистического периода античной философии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
76 |
5.2. Эпикурейская философская школа . . . . . . . . . . . . . . . |
76 |
5.3. Философская школа стоиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
77 |
5.4. Философская школа скептиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
78 |
5.5. Философская школа неоплатонизма . . . . . . . . . . . . . . . |
79 |
ЛЕКЦИЯ 3. Философия Средневековья |
81 |
Вопрос 1. Исторические условия возникновения христианства . . . |
82 |
1.1. Организация и структура ранней христианской церкви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
82 |
1.2. Зарождение монотеизма в Древнем Риме. Вселенская Церковь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
83 |
1.3. Специфика философии Средневековья . . . . . . . . . . . . |
86 |
Вопрос 2. Теоцентричность мышления как норма познавательного отношения к миру эпохи Средневековья . . . . . . . . . |
87 |
Вопрос 3. Апологетика и патристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
88 |
Вопрос 4. Номинализм и реализм в схоластический период (VII – XIV вв.) Средневековья. Учение о двойственности истины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
91 |
ЛЕКЦИЯ 10. Учение о бытии (онтология). |
97 |
Вопрос 1. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизации бытия. Понятия материального и идеального . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
98 |
Вопрос 2. Материя. Пространство. Время. Идея единства мира. Научная картина мира. Движение и развитие. Диалектика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
103 |
Вопрос 3. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
108 |
ЛЕКЦИЯ 11. Сознание. Мышление. Познание |
111 |
Вопрос 1. Природа сознания и антропосоциогенез . . . . . . . . . . . . . |
112 |
Вопрос 2. Сознание и самосознание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
116 |
Вопрос 3. Сознание и бессознательное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
117 |
Вопрос 4. Личность и творчество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
120 |
Вопрос 5. Вера и знание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
121 |
Вопрос 6. Проблема истины. Познание и практика . . . . . . . . . . . . . |
122 |
Вопрос 7. Понимание и объяснение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
122 |
Вопрос 8. Научное и вненаучное знание. Критерии научности . . . |
123 |
Вопрос 9. Структура научного познания, его методы и формы. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
125 |
Вопрос 10. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника . . . . . . . . . . . . . . . |
128 |
|
|
ФИЛОСОФИЯ (от греческого phileo – люблю и греческого sophia – мудрость) – форма общественного сознания, направленная на выработку мировоззрения, системы идей, взглядов на мир и на место в нём человека и исследующая познавательное, ценностное, этическое и эстетическое отношение человека к миру. Как мировоззрение философия, будучи обусловлена социальной действительностью, оказывает активное воздействие на социальное бытие, способствует формированию новых идеалов, норм и культурных ценностей.
Введение
Есть тонкие властительные связи
Меж контуром и запахом цветка
Желание понять суть неведомого склоняет нас к философствованию на бытовом уровне. В этом проявляется наша духовная потребность иметь целостное представление о мире, которое сообразовывается осмыслением разумной цели, определяемой ценностями нашей жизни, в соотнесении с личным опытом познания добра и зла. Связь между ними чрезвычайно тесна, например, печален тот факт, что разумное стремление людей уменьшить зло порождает так много нового зла. В обыденности совет, данный кому-либо в присутствии других людей, воспринимается как упрёк. Да и в целом, люди обычно мучают своих ближних под предлогом, что желают им добра.
Практически не достижимо в нашей жизни отделить добро от зла, как и жизнь от смерти.
Предметное размышление о сущности различных явлений и процессов позволило человечеству сформулировать для себя ряд абстрактных вопросов. Многообразие ответов на эти вопросы сводилось к одному: поискам начала, лежащего в основании, имеющего значение первоначала, вечной основы, сущности, первопричины – субстанции. В соотнесении с потребностью осмысления сущности природных и социальных процессов наше практическое отношение к миру приобретает уже мировоззренческий характер, обусловливая желание из-быть себя, познать свои пределы [о-предел-итьсЯ] в этом мире.
Мировоззрение
имеет для нас
регулятивную
функцию в повседневной жизни, определяя
целостность нашей эмоционально-чувственной
сферы такими
понятиями как
мироощущение
и мировосприятие
Для любой формы творчества необходимы условия. Необходимым условием философского творчества является чувство конкретного, национального языка. Ведь то, что выражается и преобразовывается в нём, является предметом наших интеллектуальных усилий. Самобытность философствования подобного рода обусловлена самим строем родного языка. И всё же, чем больше выражаем свои чувства в словах, тем чаще мы задумываемся о невыразимости логоса чувственной природы. Участь, которая нас постигает, можно выразить словами древнекитайского мудреца Лао-Цзы: «Знающий не говорит – говорящий не знает».
В повседневности
чувства имеют не только эмоциональную
противоречивую составляющую,
но и объединяющую
пониманием – рациональную.
Развитое чувство предполагает устойчивое отношение (творение), как определяемое, так и определяющее со-бытия[ми] нашей жизни, ведь люди сходные обстоятельства могут равно называть причиной ненависти, так и любви. Очарование и прелесть чувств – в их спонтанности, непроизвольности – в их внутренней свободе. Это стихия, прежде всего бессознательной психики, попадающей в сферу сознания лишь вторично и ускользающей от контроля разума. Вербальная невыразимость чувства подчёркивает то, – чтό мы делаем в процессе осознания своего эмоционального настроя, а именно, стремимся своё отношение наиболее полно утвердить в попытке его реализации.
С
действия начинается познание
структуры
своей
эмоциональной
организации.
Такая структура в процессе рефлексии объективируется в речевых актах. Фиксация подобной высвобожденной субъективности осуществлялась философами с помощью здравого смысла обыденного языка до попыток создания философской герменевтики.
Получаемая таким образом многозначность языка обусловлена, прежде всего, противоречием значений «выражений» с анализом понимания в достижении общественного консенсуса. Эксплицируя в обыденность, к примеру, высказывания такого типа – нравится, потому, что…, есть всё же не буквальное понимание того самого потому что…, а осуществлённый подбор жизненных обстоятельств, которые позволяют сделать возможным наше обоснование вопреки чему-то…. Жизненный опыт и подсказывает нам в итоге, что любят не за что, а вопреки…. Сила чувств – это сила и творчество самой природы.
Чувства – это
язык природы,
шифром, к которому
отнюдь
не
являются слова.
Стало быть, без подтверждения в практике язык обречён на распад.
Однако именно из-за эмоциональности Слово должно не объяснять, но предоставить нам возможность почувствовать, понять. Зачастую фонетическая сторона слов играет роль в большей степени, чем их значение, ибо позволяет нам почувствовать смысл, который видится нам в отношениях, связях между событиями и их выражениями, а потому способ выражения, задающий тип языка, может быть любым. И поскольку всё происходит на границе между вещами и предложениями, стало быть,
понимание
посредством слов
означает
осуществление попытки раскрытия
внутренней природы
вещей, сущего.
Сущее едино и его многосторонность представляется нам в обыденном языке как нечто устойчивое и постоянное, целое. Именно целостность чувства определяет сознательное мироощущение, благодаря чему человек воспринимает чувства естественным образом, более того, считается, что только в чувствах люди ведут себя естественно. Но что для нас значит вести себя естественно? Следовать примеру животных? Природы? Предписание слишком неопределённо, так как природа даёт разные примеры, да и сам человек создаёт вторую природу. Руководствоваться самоочевидным? Но многие органы полифункциональны. Аппеляция к естественности вызывает лишь затруднение, а не прояснение предмета, прикрывая его незнание. К сожалению, в подобных рассуждениях моральные нормы часто смешиваются с психическими или физиологическими, среднестатистические – с функциональными, количественные показатели – с качественными и т.п. Иными словами, интенсивность жизни измеряется иначе, чем степень получаемого от нее удовлетворения, и т.д.
Удовлетворение естественной потребности человека в эмоциональных контактах позволяет выявлять каждому из нас в наслаждении и страдании разные причины и в соответствии с личными опытом, страстями, взглядами… понимать под добром и злом разные вещи. Исполненность чувств фиксируется сознанием как некая соотнесённость, поэтому страдание относится скорее к разуму [размышлению], ибо чувство его не принимает и разговором отвергает. В этом и проявляется источник добра и зла – чувство и размышление. Именно в силу ограниченности нашего источника познания, добро и зло – лишь человеческие понятия, не выражающие ничего, кроме нашей способности оправдаться пред собой, друг пред другом, перед Богом наконец, зачастую оправдывая его пред нами [Теодицея]. Древние говорили: добро легко обратить во зло. О противостоянии зла и добра народный фольклор говорит нам, что зло побеждают добром, а наградой за доброе дело служит само деяние.
Рождение в себе
критерия добра происходит путем
подстановки себя в обстоятельства
жизни
другого.
Интерес к такому процессу возникает в детстве, когда ребёнок, не зная, что такое хорошо и что такое плохо, уже начинает делить мир на наших и не наших.
Целое становится единым, когда целостность чувства уже не ищет своего, и в этом смысле теряет изначальную мотивацию. Это своего рода прорыв от безличного «иметь» к личностному «Быть». Не разбираясь в чувствах, невозможно понять человека. Но знание, полученное не на основе собственного опыта, не может в полной мере выступать императивом, теряет свою значимость: «Я мудрости не знаю для других…». Появляется стремление к эксперименту, не без основания которого чувства воспринимаются нами как живое противоречие – то, что равно приносит добро и зло. Чувства настраивают нас на предмет, к которому мы испытываем устойчивое эмоциональное отношение (переживание), т.е. действуют как особый психологический усилитель восприятия и, потому, в глазах людей усиливают как хорошее, так и плохое. Вероятно, зависимость наших поступков от настроения позволяет нам полагать, что чувства нам что-то приносят, тогда, как на самом деле всё это уже есть в нас самих. Но без чувств, всё то позитивное, что есть в жизни, утрачивает свой смысл. Вместе с тем, наши чувства не становятся значительнее от частого проговаривания, ведь любое высказывание о чувстве есть в определенной мере его утрата. С другой стороны, проговаривание, возможно, есть некая компенсация за отсутствие полноты чувств, а может быть и целостности переживания.
Способность разделять испытываемые кем-то чувства – первейший признак познания, но чтобы разделить чувство, необходим способ выражения. Эмоционально окрашенная диалогическая речь не может адекватно представить целостность чувства, ибо по строю своему призвана расчленять представления, то есть быть члено-раздельной. В этом основной способ и главная трудность передачи смысла: мы фиксируем отдельные стороны единого, противопоставляя их друг другу, превращаем единое целое в ряд обособленных элементов.
Мыслевыражение
посредством слов выражает не мысли,
а их
обусловливание.
Речевой оборот «Ты меня понимаешь?» указывает не на невнимательность собеседника, а лишь подчёркивает смысловое многообразие всего того, что обсуждается. Синтаксические смещения и семантические сгущения позволяют нам в данном случае определять лишь направленность личности (интенцию) собеседника через моделирование особого состояния сознания – дискурса (речь, погруженная в жизнь).
Синтетическую
функцию выполняет миропонимание,
которое имеет отношение к
интеллектуально-понятийной
сфере,
обладает концептуальным единством и
дает картину единства мира, его всеобщих
свойств и законов
Один из способов опосредованного понимания предполагает описание образов вещей, независимых друг от друга, однако парадоксально единых в своей противоположности. Опосредованное, значит посредством чего-либо, в свете иного – просветлённого сознания. Поэтому смысл образов в таком состоянии сознания всегда двойной, исключающий возможность наличия только формального «здравого смысла» с его причинно-следственной логикой. Такая двусмысленность всегда обусловлена раздвоением цели при попытке закамуфлировать намерения. Стало быть, события никогда не являются причинами друг друга; скорее они вступают в отношения квазипричинности, некоей нереальной, призрачной каузальности, которая бесконечно вновь и вновь появляется в этих двух смыслах. В качестве каузального базиса интенциональности в обыденном диалоге мы можем отнести невербальные признаки общения (выражение глаз, мимику, положение тела в конфигурируемом пространстве и т.п.), поэтому интенциональность первична по отношению к языку, т.е. язык выводится из интенциональности.
Высказывания о
чувстве не есть само чувство, мы лишь
определяем свои возможности вложить
чувства в
слова.
Стало быть, к примеру, если по христианскому выражению «Бог есть любовь», то сама любовь не обязательно есть Бог. Противоречие форм выражения чувств, таким образом, не есть формальное [метафизическое] противоречие, а представляется нам диалектическим, связывающим факты и события мнимого не друг с другом, а бессознательным.
Здесь сущность является через свой знак, но помимо воли и желания самого субъекта. Знаковый характер того, что можно считать в данной ситуации знаком (или языком), субъекту дан лишь вторично – благодаря тому, как он понимается другими. Как ни парадоксально, здесь знак является первоначально знаком для других, и лишь в силу этого для меня самого. Наиболее адекватным способом рациональной формы отражения подобной целостности миропонимания, выражаемого посредством жизненного мира, является диалектика. Алгоритм диалектического истолкования усматривается нами во множестве способов передачи (указания) смысла (логоса), сплетённых из необозримого количества культурных кодов – символов, заимствований, реминисценций, ассоциаций, цитат, отсылающих к жизненному опыту. Однако при этом, ни говорящий, ни слушающий полностью не отдают себе отчёта в том, какие именно оттенки смыслов могут вспыхивать на каждой отдельной грани раздробленного отчуждаемого опыта. Осознание этого и позволяет фиксировать такие особые состояния сознания как дискурсы. Подобная речь, как и человеческая душа, нуждается в подробной расшифровке. Интерпретация данного феномена состоит в понимании того, как могли бы возможность, действительность и необходимость означаемого воздействовать на смысл. Ведь слово не умирает, а умирает лишь означаемое в слове. Признаваясь в любви или ненависти, мы влечемся к вдохновенному [логосу] и волей-неволей пытаемся уловить то выраженное словом событие, в котором мелькнула искра вдохновенности.
Понимание
смысла означает для нас, что сама
языковая структура заставляет нас
думать о различных способах выражения
одного и того же, предполагая уровни
изъяснения.
В то же время, различные чувственные впечатления могут обладать одним и тем же смыслом (логосом). Ведь в смыслах заключено больше, чем в созерцаниях. Например, вода в разных агрегатных состояниях производит разное впечатление, но для ноэматического смысла воды эти состояния (формы) – не более чем предикаты субъекта соответствующего высказывания. Этот субъект и возникает как ноэматическое ядро или определяемое единство. Таким образом, поиск истины, или как говорят, смысла жизни всегда предполагает рационализацию, отчуждение личного опыта в пространство нашего языка. Этот путь имеет обращение к чувственной природе человека – фундаменту человеческой жизни, – допредикативному опыту практического взаимодействия людей. Несмотря на возможность известной объективации опыта, всегда остаётся неотчуждаемый мир опыта любви в своем единстве индивидуального и социального, образующий для нас мир желаний и возможностей. Необходимо учитывать то обстоятельство, что доминирование роли естественного языка в его выражении обусловливается лишь изначальной инициацией на полноценный охват. Дело в том, что с помощью языка мы можем «выражать только то, что можно выразить»1. Причиной этому является неязыковый зазор реальности, который мы сохраняем, пытаясь преодолеть естественный язык как систему типизирующих схем познания. Строго говоря, посредством вербализации невозможно передать личный опыт, но доступно указать в опыте другого наличие того изначального измерения, внутри которого «человеческое существо вообще впервые только и оказывается в состоянии отозваться на бытие и его зов и благодаря этой отзывчивости принадлежать бытию»2. Новые переживания могут не совпадать с первоначальными, т.е. интерпретация будет меняться, но всем этим интерпретациям для одного и того же объекта интенциональности будет присущ одинаковый умопостигаемый смысл предмета, называемый эйдос [образ идеи].
Истолкование
чувственного самоопределения основывается
на переводе бессознательных содержаний
на запредельный для них язык сознания
посредством выражения скрытого знания,
воплощённого в нас как способ видения.
Связность организации мышления со смыслоопределением и смыслополаганием, определяемая на уровне события сознания формами и средствами понимания и выражения смысла, обусловливают потребность многих из нас в более непосредственном выражении. Это первый рациональный шаг не только к непониманию, но и к утрате социального интереса друг к другу. Учитывая то обстоятельство, что язык возникает из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми, чтобы быть понятым (формирующим потребность общения), человек обращается к допредикативному модусу своего существования, ограничиваясь демонстрацией образов, которые несут символическую культурную нагрузку, причем символическую – и в буквальном и переносном смысле. Полагаю, не все из нас задумываются над реальными последствиями употребления одних и тех же слов для выражения различных настроений.
Одинаковые слова
устраняют
вербальное
различение чувств, и такое скудное
выражение устраняет нашу индивидуальность.
По сути, отсутствие эмоционального различения ведёт к проявлению без-различия в нас. Безразличие не в смысле древнегреческой деятельной апатии [бесстрастия], а как утрата интереса, равнодушия. Последнее обстоятельство является одним из основных препятствий к пониманию.
Понимание же других с неизменностью предполагает в первую очередь необходимость понимания себя: «познай себя и ты познаешь весь мир…». Невозможно увидеть в другом человеке тех качеств, о которых не имеешь представления в себе.
Для того чтобы
понять,
прежде всего,
необходимо
воспроизвести в
себе познаваемый тип.
К примеру, сущность социального максимализма определяется личностной проекцией своего мнения (убеждённости в абсолютности личностного опыта): легче ненавидеть в других то, что не принимаешь в себе. Таков один из нюансов, благодаря которому мы, возможно, впервые сами задумываемся об изнанке своего бытия [то, что из нас усматривается].
Выявление изнанки
бытия
начинается с
понимания
структуры своего
видения.

Такое рефлексивное понимание в попытке овладения миропониманием возможно лишь в границах противоположностей чувств и знания, оконтуривая мысль берегами достоверного призрачностью зла в соотнесении с индивидуальным опытом.
При выделении
значимого в нашей жизни, целостность
мира
неизбежно
распадается на
культурные символы,
которые и
составляют инобытие
вытесняемых нами мотивов и переживаний,
формируя чувства.
И всё же задумаемся о том, каким же образом на полотне своей жизни помимо броскости отвлекающего жизненного мира мы имеем возможность увидеть незаметный ранее фон обыденности. В свете иного, краски ничтожных мелочей получают вдруг необыкновенную и неопровержимую значительность. Как видим, философ не довольствуется объективной картиной мира, он с необходимостью учитывает ценностные предпочтения человека, соотносит с ними целый мир. Подобная соотнесённость позволяет нам не только проникнуть в смысловой объём, но и пережить множественность его значений, увидеть как ре[чь]ка растворяется в межтекстовом пространстве коммуникации. Способность охватить в таком [переживании/размышлении] «альфу и омегу», являющихся своими противоположностями в диалектическом становлении, в умопостигаемом моменте единого [цело-мудрии] представляет собой метафизическую сущность переживаемого логоса. Перед достижением последнего смысловой объём будет формально бесконечно расслаиваться посредством пропозициональных предикатов на самостоятельные смысловые области, очерченные рамками пространственно-временной соотнесённости и внутреннего контекста. Таким образом, вербальная демонстрация подобной соотнесённости вытесняемых нами мотивов, формирующих чувства, в понимании собеседника представляются развёрсткой рекурсивно вложенных друг в друга смысловых объёмов. Вместе с тем, любое со-бытие усугубляется в стадии символического вхождения субъекта в поле речи других людей, вынуждая нас принимать тот смысл, который другие люди приписывают нашим поступкам.
Однако осознанное использование особых символов, признаков и знаков («стигматное» общение3) не предполагает раскрытие внутреннего мира участников коммуникативного акта, т.к. используется, скорее, для сокрытия или выключения из сферы общения собственно-личностных отношений, установок, чувств. В обыденности это затрудняет самоидентификацию субъекта, потенциально определяя неестественность нашего поведения.
Покорствуя
чужой речи, мы в последующие разы
выражаем свои желания уже в подсказанных
словах.
Мы всё меньше знаем о том, что говорим, и что мы хотим сказать другим людям; с другой стороны, не воспринимая мир таковым, каков он есть в действительности, мы выражаем своё представление о нём в понятиях употребляемого языка. Осознание этого – уже первый шаг к рефлексивному пониманию, рождающему философию.
Философия является
мировоззренческой
формой сознания, определяющего то, что
для человека ценно
и
наиболее важно.
Однако не всякое мировоззрение можно назвать философским, ведь полная рационализация чувства принципиально невозможна и только в исполненности чувств мы знаем больше, чем можем сказать…, поэтому сама вербализация означает для нас ещё и возможность овладения искусством оттенять истинные чувства, ибо то, что понято, имеет смысл, с необходимостью стремящийся к самовыражению: бытие ищет слова. Здесь «сущее вступает в несокрытость своего бытия»4, то есть бытие раскрывается сознанию и позволяет сознанию экстатически обладать переживанием бытия. Экстатическое настроение заставляет нас изумиться, то есть выйти из ума, захватывая бытийствованием в границах той области мира, в которой ощущаем себя, где мы, наконец, себя обретаем. Концентрируясь на опыте подобного переживания, в данных границах
человеческое
бытие становится разумным только в
целостности мироощущения, мировосприятия
и миропонимания.
Вместе с тем, формы его выражения определяют человеческое «Я» более не cogito, а как границы мира:
Мы мудрости во времени не знаем
а время в счастье мы не замечаем…
Гармонию не чувствуем в тиши,
когда мы - функция своей души.
Как страсть желает чувствам пира,
Сознание моё - границы Мира.
(А.К.)
Это уже свой мир, мир чистого присутствия, которое неделимо на твоё и моё; мир чистого признания, в котором только и возможно подлинное самосознание. И всё же ум является вершиной, а не корнем душевной жизни, ибо сердце придерживается своего порядка, а разум своего…, ведь никто не доказывает, что того-то мы обязаны любить, излагая по порядку причины любви: это было бы смешно… Порядок состоит в отступлениях на каждом шагу от порядка – чтобы постоянно иметь в виду цель»5.
ЛЕКЦИЯ 1