
- •14. (Начало в лекциях должно быть)
- •§ 27. Мир естественной установки: я и мой окружающий мир (в сокращении)
- •§ 28. Cogito. Мой естественный окружающий мир и идеальные окружающие миры (в сокращении)
- •§ 29. „Иные" субъекты я и интерсубъективный естественный окружающий мир (в сокращении)
- •§ 30. Генеральный тезис естественной установки
- •Альфред ШюТц Структура повседневного мышления
- •А. Шютц возвращающийся домой
- •Подход Гофмана: общая характеристика
- •«Я» и роль: общие положения
- •Исполнение роли
- •Ролевая дистанция
- •Фасад и кулисы
- •Взаимная игра
- •Рамочный анализ
- •Моральная карьера девианта
- •«Я» в тотальных институтах
- •V. Право на смерть и власть над жизнью (изложено в сокращении)
- •4. Бурдье о роли социолога и социологии в обществе
- •Что такое постмодерновая (постмодернистская) социология?
- •Символический обмен и смерть
- •В тени молчаливого большинства, или конец социального
- •Город и ненависть
1.
Чикагская школа: этапы.
Первый, подготовительный, этап охватывает период с 1892-го по 1915 г., т.е. с момента создания социологического факультета Чикагского университета до оформления центральных идей эмпирической социологии лидерами школы Р. Парком и Э. Бёрджессом на основном этапе ее деятельности. Несмотря на то, что на этом этапе не удалось создать единой исследовательской программы, без чего школы как таковой не существует, решались другие важные задачи ее формирования. Прежде всего, удалось собрать вокруг кафедры социологии и социологического факультета университета немало сторонников соединения теоретических и эмпирических исследований. Далее, начал выходить в свет с 1895 г. первый в мире социологический журнал ("American Journal of Sociology"), было создано в 1905 г. Американское социологическое общество (впоследствии Американская социологическая ассоциация). В 1894 г. А. Смолл и Дж. Винсент издали первый учебник по социологии в виде небольшой по объему брошюры.
Руководящую роль на подготовительном этапе деятельности школы играли А. Смолл (основатель социологического факультета), Ч. Хендерсон, Дж. Винсент, У. Томас. Заслуга этих отцов-основателей школы (их часто называют именно так потому, что большинство из них были раньше протестантскими проповедниками) заключалась в привлечении внимания американского общества к социологии, подготовке его к восприятию материалов эмпирических исследований, пропаганде возможностей и перспектив социологической науки. "Большая четверка" активно способствовала превращению либерализма и принципов свободы в основную идейную доктрину социологии в целом, социологического факультета Чикагского университета — в частности. На подготовительном этапе удалось решить проблему, институционализации социологии в США. Так, уже в самом начале XX в. курс социологии преподавался в 169 университетах и колледжах страны. Начали активно проводиться эмпирические исследования и пропагандироваться их результаты.
Второй этап развития Чикагской школы (1916—1935), который можно назвать основным, начинается с того времени, когда Р. Парк и Э. Бёрджесс постарались сформулировать центральные, принципиальные положения, касающиеся развития социологии и конкретных эмпирических исследований. Этап включает в себя проведение значительного количества исследований, публикацию десятков крупных работ, расширяющееся влияние на социологический мир в США и Европе. В это время создается мощное социологическое сообщество единомышленников во главе с признанными ими лидерами Парком и Бёрджессом. Этан завершается кризисом и распадом школы, прекращением ее глубокого влияния па развитие эмпирической социологии.
Разумеется, приведенные временные рамки являются условными, равно как и "функционирование" школы, потому что никаких организационных структур конституировано не было, разве что возникшее по инициативе Парка в 1920 г. "Общество социальных исследований". Однако оно имело неформальный характер и было создано для объединении интеллектуальных социологических сил в самом Чикагском университете и за его пределами, охватывая преподавателей, студентов и выпускников университета, работавших в иных городах и штатах страны. По сути дела, это был неформальный теоретический семинар и центр социологического творчества на протяжении 15 лет, вплоть до отъезда Парка из Чикаго в Нэшвилл в 1936 г., явившегося непосредственным формальным поводом для прекращения функционирования школы в том виде, в каком она просуществовала, по меньшей мере, с 1920 г.
Организационная деятельность А.Смолла
Категории конфликта, интереса, стремления, желания, разрабатываемые социологами в контексте их близости к обществу, социальной группе, человеку, связанным с биологическим миром, были достаточно характерны для социал-дарвинизма. Некоторые из этих узловых понятий, в первую очередь категории конфликта, интереса и желания, оказались центральными для творчества американского социолога Альбиона Смолла (1854— 1926), который испытал на себе влияние идей Ратценхофера (основная работа Смолла, "Общая социология", опубликована в 1905 г.). Именно эти категории, имевшие в первую очередь биологическую природу, выступали, по его мнению, как движущие силы социального поведения.
Интерес для Смолла был не чем иным, как "неудовлетворенной способностью", а в социологии он являлся такой же основной и неделимой клеточкой, какой в физике был атом. Смолл выделял шесть классов интересов, связанных со сферами здоровья, благосостояния, общения, познания, красоты, справедливости. Первый класс интересов касается пищи и сексуальных отношений, второй — богатства и владения вещами, третий — связей между людьми, четвертый — знания и науки, пятый — наслаждения эстетическим, шестой — правоты.
Каждый из этих классов (групп) интересов претендует на доминирование среди других, в результате возникает постоянный конфликт между ними, который проявляется в действиях людей. Строго говоря, конфликт, по Смоллу, имеет место не столько между самими интересами, сколько между людьми, которые стремятся удовлетворить собственные интересы за счет других индивидов. Ведь жизнь человека — это процесс приспособления и удовлетворения его интересов. Следует отметить, что идею конфликта интересов социолог заимствовал из социал-дарвинизма.
Однако конфликт для Смолла не был единственной и универсальной формой отношений между людьми и социальными группами. Он считал, что главное состоит в умении найти переход от социального конфликта к социальному согласию. В связи с необходимостью поиска такого перехода он подчеркивал значение социологии, которая, по его мнению, выступая не только теоретической, но и практической дисциплиной, должна быть использована в целях установления нормальных отношений (значит, отношений согласия) между социальными группами.
Социальные связи, отношения, процессы, конфликты Смолл тесно связывал с психическими проявлениями личности. Хорошо известен его знаменитый афоризм: "Нет ничего социального, что не являлось бы психическим". Как видно, в социал-дарвинизме уже начинает отчетливо прослеживаться линия на психологизацию социальных отношений, что выразилось наиболее полно в возникновении и развитии психологического направления в социологии (его детальному рассмотрению будет посвящена специальная глава).
Смолл известен в социологической науке не только как теоретик, работавший в рамках социал-дарвинистского направления и создавший важные предпосылки для утверждения психологического направления. С его именем связано появление одной из первых кафедр социологии в США — в Чикагском университете. Он был основателем и руководителем первого социологического факультета в стране как раз в этом университете, первого социологического журнала, автором первого учебника по социологии (совместно с Дж. Винсентом), одним из создателей Американского социологического общества, наконец, одним из отцов-основателей Чикагской социологической школы.
Труды Р.Парка
Роберт Парк (1864-1944) - основатель Чикагской школы социологии, организатор "Общества социальных исследований" (1920) определял социологию как науку о коллективном поведении. Центральными темами его социологических исследований были расовые отношения и городская среда.
Свое видение предмета социологии Р. Парк обозначил в написанной совместно с Э. Берджессом работе "Введение в науку социологии" (1921). Следуя методологии Баденской школы с ее делением наук на номотетические и идеографические, Р. Парк относил социологию к абстрактным наукам, связывая ее будущее развитие с движением по направлению к статусу экспериментальной науки. При этом он трактовал эксперимент не в позитивистском духе, а в смысле исследовательского интереса к социальному факту, гипотезе, идее, с целью не измерить, а понять природу и направление развития.
Концепцию социальной эволюции американский социолог представил как продукт взаимодействия природы индивида с окружающей его социальной и естественной средой. Согласно его представлению, общество помимо социального (культурного) уровня имеет биотический, лежащий в основе всего социального развития. Движущей силой этого развития он считал конкуренцию. В процессе продвижения общества от биотического к социальному уровню конкуренция может принимать различные сублимированные формы: от борьбы за выживание (через конфликт и адаптацию) до ассимиляции. Как считал Р. Парк, социальная эволюция проходит четыре стадии, отсюда любой социальный организм имеет четыре соответствующих порядка: экологический, экономический, политический, культурный.
По мере продвижения к культурному порядку усиливаются социальные связи (пространственные, экономические, политические и, наконец, моральные), ограничивая свободу конкуренции и сдерживая биотическую стихию. Общество в процессе эволюции достигает оптимальной "соревновательной кооперации" и "согласия". Конфликт и консенсус рассматривались в его концепции как взаимосвязанные и взаимодополняющие стороны единого эволюционного процесса. Как и у большинства социологов того периода, идеи эволюционизма у Р. Парка берут начало в натурализме, заложенном еще Г. Спенсером.
Соревнование рассматривалось Р. Парком как человеческая форма борьбы за выживание, характерная для всей жизни. Соревнование в его понимании было не социальным, а в значительной степени бессознательным и безличным. Первичной областью соревнования он признавал экономическую деятельность. Экономическое соревнование порождало тот вид порядка, который именовался им как экологический. Оно выступало у Р. Парка в качестве силы, создающей территориальное и профессиональное распределение населения, необходимое для разделения труда и организованной экономической взаимосвязи, в результате которого образуются города. Город, созданный в процессе экономического соревнования, имеет свою естественную среду для социальных групп, свои потенциалы для захвата пространства различными группами и типичную последовательную смену групп в данной местности. Конфликт же трактовался Р. Парком уже как социальное явление, поскольку здесь в процессе соревнования осознавались и учитывались другие лица.
При рассмотрении политического процесса Р. Парк демонстрирует, как соревнование может стать осознанным и принять форму конфликта. С его точки зрения, приспособление - это попытка индивидуумов и групп внутренне адаптироваться к ситуациям, созданным соревнованием и конфликтом. Когда это происходит, конфликт утихает. Ассимиляция завершает процесс благодаря глубокой трансформации личностей под влиянием интимных контактов.
Методологическая позиция Р. Парка, обусловленная пониманием им форм общественной эволюции: конкуренция - конфликт - приспособление - ассимиляция выступала в качестве принципа исследования миграционных процессов на Американском континенте. Особое внимание он уделял изучению выхода рас и народов из различного рода изоляции: географической, экономической и культурной. По его мнению, результатом этого глобального этносоциального процесса на индивидуальном уровне формируется новый тип личности - "маргинальная личность". Это новое для социологии понятие получило свое первое теоретическое обоснование именно у Р. Парка.
Маргинальная личность - это продукт естественного культурного процесса, расширяющегося взаимодействия культур. Этот тип личности появляется в том месте и в то время, где и когда из конфликта рас и культур начинают возникать новые сообщества, народы, культуры. Человек этих новых культур существует в двух мирах одновременно, поэтому для него характерен более широкий горизонт и более утонченный интеллект. Р. Парк считал маргинального человека более цивилизованным существом.
В 1930-е гг. Р. Парк, читая курс по социальной экологии, написал по данной теме ряд статей, из которых "Социальная экология" (1936) признается программной. В этой статье социолог обратил внимание на то, что помимо социальной организации существует система жизненных функциональных связей между людьми, которая может быть описана как "симбиотическая, или экологическая". В процессе научного исследования данной проблемы им были введены в научный обиход такие понятия, как "сеть жизни", "симбиоз", "биотическая основа общества", "социальное равновесие".
Исходным пунктом в построении Р. Парком социально-экологической концепции послужило его понимание общества как "глубоко биологического" организма, процесс социального изменения которого представляет движение от конфликта к согласию. Американский социолог утверждал, что кроме социального уровня, общество имеет еще уровень "биотический", лежащий в основе всего социального развития. При этом если на макроуровне биотические силы проявляются в экологическом порядке, пространственном размещении социальных институтов, то на микроуровне биотическая природа человека выражается в способности к передвижению в пространственном взаимодействии - миграции. Миграция как коллективное поведение образует экологический порядок общества, который является предметом исследования социальной экологии. А надстраивающийся над ним экономический, политический и культурный порядок представляет собой в совокупности "организацию контроля" посредством экономических законов, права, нравов, обычаев.
По мнению Р. Парка, существование и развитие общества зависят от того, насколько успешно оно передает от одного поколения к другому свои обычаи, нравы, навыки и идеалы, которые как элементы культуры могут быть определены одним понятием - "согласие". Основой разнообразия, тесноты социальных связей, консенсуса, социального приспособления выступает свобода передвижения. Иерархия степеней свободы индивида выстраивается по степени убывания от экологического порядка к культурному порядку. Так, индивиды чувствуют себя более свободными на экономическом уровне, чем на политическом, а на политическом - более свободны, чем на моральном.
Наиболее фундаментальная свобода, необходимая для существования любой формы жизни - это "свобода передвижения", которая позволяет "осваивать и видеть мир. За ней следуют свобода конкуренции за "место в общей экономике", свобода конкуренции за место и статус в социальной иерархии" (политическая свобода) и "свобода самосовершенствования", где основным ее ограничителем являются традиции и моральные нормы.
Вводя понятие "статус", отражающий общий индивидуализм американской социологии, Р. Парк делает акцент в социальных исследованиях на межличностные отношения и личность. Понятием "статус" он обозначает личное положение индивидуума в группе по отношению к другим. В качестве осознания различия между людьми выступает расовое самосознание, которое препятствует интимности и пониманию, поддерживает дистанцию и определяет социальный статус. Р. Парк, как впоследствии и его ученики, обращая внимание на такие личностные характеристики маргиналов, как беспокойство, агрессивность, честолюбие, чувствительность, стесненность, эгоцентричность.
В соответствии с представлениями Р. Парка о личной свободе, наиболее свободный тип личности - маргинальный человек, так как он не связан полностью ни с одним из видов традиций, моральных норм, ни с одной культурой. Если следовать логике социолога, то общество представляет собой совокупность нравов, обычаев, "согласия", а социальные изменения связаны, прежде всего, с изменением моральных норм, индивидуальных установок.
Р. Парк подчеркивал, что "изменение установок индивидов в обществе - это "своего рода барометр", указывающий на изменения, которые могут произойти в социальных институтах и привычках. Таким образом, социальные изменения вызваны эволюционным преобразованием человеческой природы и индивидуальных установок, а уже потом - и социальных институтов. По его мнению, характер изменения общества обусловлен биотически.
Социология, утверждал Р. Парк, должна продуцировать знание, полезное для разрешения социальных проблем, а не строить его исходя из "должного" представления об обществе, связанного с воображаемым социальным идеалом. Он пытался представить социальное изменение как серию проблем, стоящих перед отдельными "акторами". Для него была характерна двойственность гносеологической позиции, выражающейся в "метании" между "номинализмом и реализмом".
ПАРК Р.Э. ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО КАК ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И МОРАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК.
Рост города заключает в себе не просто прибавление численности, но и все те сопутствующие изменения и движения, которые неизбежно сопряжены с попытками каждого индивида найти себе место в обширных хитросплетениях городской жизни. Рост новых районов, увеличение числа профессий и родов занятий, непредсказуемое возрастание цен на землю, вызываемое расширением города, — все это включено в процессы роста города и может быть измерено через изменение положения индивида по отношению к другим индивидам и по отношению к сообществу в целом. Цены на землю, например, можно рассчитать через мобильность населения. Самые высокие цены на землю существуют в тех местах, где в течение двадцати четырех часов проходит наибольшее количество людей.
Одним из побочных результатов роста сообщества являются социальный отбор и сегрегация населения, а также создание, с одной стороны, естественных социальных групп и, с другой стороны, естественных социальных ареалов. Мы осознали этот процесс сегрегации в случае иммигрантов, и особенно в случае так называемых исторических рас, т. е. народов, которые — независимо от того, иммигранты они или нет, — отличаются от всех других расовыми признаками. Чайнатауны, Маленькие Сицилии и прочие так называемые "гетто", с которыми хорошо знакомы исследователи городской жизни, представляют собой особые разновидности естественных ареалов, которые неизбежно создаются условиями и тенденциями жизни города.
Такие сегрегации населения происходят, во-первых, на основе языка и культуры и, во-вторых, на основе расы. В пределах иммигрантских колоний и расовых гетто неизбежно происходят процессы отбора, которые порождают сегрегацию, базирующуюся на профессиональных интересах, интеллекте и личных амбициях. В результате более проницательные, энергичные и амбициозные люди быстро покидают свои иммигрантские колонии и гетто и переезжают в ареал второго иммигрантского поселения или, возможно, в многонациональный район. По мере того как узы расы, языка и культуры все более и более ослабевают, удачливые индивиды со временем находят себе места в бизнесе или в профессиях, оказываясь среди старейшей группы населения, переставшей отождествляться с каким-либо языком или расовой группой.
В границах территории, ограниченной с одной стороны центральным деловым районом, а с другой стороны пригородами, город имеет тенденцию принимать форму ряда концентрических кругов. Эти разные районы, расположенные на разных относительных расстояниях от центра, характеризуются разными уровнями мобильности населения.
Типичное городское сообщество в действительности гораздо сложнее, чем видно из этого описания, а разным типам и размерам городов свойственны свои особые вариации. Главное, однако, состоит в том, что повсюду сообщество тяготеет к соответствию некоторому образцу (pattern), и этот образ неизменно оказывается констелляцией типичных городских ареалов, все из которых могут быть географически локализованы и пространственно определены.
Естественные ареалы являются средами обитания естественных групп. В больших городах расхождения в манерах поведения, жизненных стандартах и общих взглядах на жизнь в разных городских ареалах часто прямо-таки поражает воображение. Половозрастной состав, являющийся, пожалуй, самым важным показателем социальной жизни, удивительно различается в разных естественных зонах. Есть в городе такие районы, в которых почти нет детей, например, районы, занятые гостиницами. Есть районы, в которых число детей относительно велико; в трущобах; в жилых пригородах среднего класса, куда обычно переезжают молодожены после того, как проведут медовый месяц в комфортабельных апартаментах в центре города. Есть и другие ареалы, почти целиком занятые молодыми неженатыми юношами и незамужними девушками. Есть районы, где люди почти никогда не приходят голосовать, кроме как на общенациональных выборах; районы, где уровень разводов выше, чем в любом штате, и другие районы в том же самом городе, где разводов почти не бывает. Есть районы, кишащие подростковыми бандами и спортивными и политическими клубами, в которые отдельные члены этих банд или банды в полном составе нередко вступают. Есть районы, где выходит за все мыслимые пределы уровень суицидов, районы, в которых, согласно статистике, повышенный уровень юношеской делинквентности; и районы, где всего этого почти нет.
Все это подчеркивает значение местоположения, позиции и мобильности как показателей, необходимых для измерения, описания и объяснения социальных феноменов.
Биотический и культурный уровни в жизни сообществ.
Концепция человеческой природы включает следующие антропологические посылки: Человек есть двойственное существо, одновременно биологическое и культурное. — Как биологическое существо («организм»), человек вписан в «биотический» порядок существования, наряду с другими живыми существами (растениями и животными). — Как культурное существо («персона»), он вписан в «культурный» порядок. — Эти две стороны человеческого бытия отделимы друг от друга только аналитически: человек, как он есть, представляет собой сплав «биотического» и «культурного». — Целостное видение человека не может игнорировать ни ту, ни другую из его сторон.
Модель территориальной экспансии города Э.Бёрджесса.
Экспансия города с точки зрения городского планирования, зонирования и региональных обследований рассматривается почти всецело в терминах его физического роста. Транспортные исследования сосредоточились на проблеме развития транспорта в ее связи с распределением населения по всему городу. Обследования, проводившиеся Телефонной компанией Белла и другими общественными службами, пытались предсказать направление и скорость роста города, дабы предвидеть будущий спрос на расширение их услуг. В городском планировании размещение парков и бульваров, расширение проезжей части улиц, забота об административном центре города осуществляются в интересах будущего контроля над физическим развитием города.
… Изучение экспансии как процесса еще ни разу не предпринималось, хотя материалы для такого исследования и проявления разных аспектов этого процесса содержатся в городском планировании, зонировании и региональных обследованиях. Типичные процессы экспансии города, наверное, лучше всего можно проиллюстрировать серией концентрических кругов, которые можно пронумеровать, дабы обозначить как последовательно идущие зоны городского расширения, так и типы районов, дифференцирующихся в процессе экспансии.
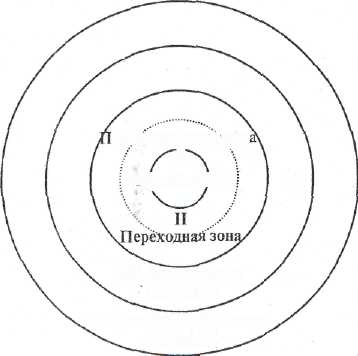
На этом рисунке представлена идеальная конструкция свойственных маленькому или большому городу тенденций к радиальному расширению из центрального делового района (на карте он помечен цифрой 1). Центральную часть города обычно окружает переходная, или транзитная, зона, в которую проникают бизнес и легкая промышленность (II). Третью зону (III) населяют промышленные рабочие, бежавшие из зоны запустения (II), но желающие жить поближе к месту своей работы. За пределами этой зоны находится "спальная зона" (IV), образуемая комфортабельными многоквартирными домами или закрытыми районами частных домов, принадлежащих отдельным семьям. Еще дальше, за пределами самого города, располагается зона пригородов и городов-спутников, находящихся в получасе-часе езды от центрального района.
Рисунок ясно показывает основной факт экспансии, а именно, тенденцию каждой внутренней зоны расширять свою территорию путем проникновения в следующую внешнюю зону. Этот аспект экспансии можно назвать сукцессией, или последовательностью; данный процесс был подробно изучен в экологии растений.
Помимо расширения и последовательности общий процесс экспансии в городском росте заключает в себе антагонистические, но вместе с тем взаимно дополняющие друг друга процессы концентрации и децентрализации. Во всех городах имеется естественная тенденция к схождению линий внутренних и внешних транспортных перевозок в центральном деловом районе. В центре каждого крупного города мы ожидаем найти большие универмаги, высотные офисные здания, железнодорожные станции, большие гостиницы, театры, музей изобразительных искусств и городской концертный зал. Вполне естественно и почти неизбежно экономическая, культурная и политическая жизнь сосредоточиваются именно здесь.
В последнее время в лежащих за пределами города зонах выросли подчиненные деловые центры. Эти "центры-спутники", по-видимому, представляют собой вовлечение нескольких локальных сообществ в более широкое экономическое единство. Вчерашний Чикаго, бывший скоплением сельских поселков и иммигрантских колоний, претерпевает процесс реорганизации и превращения в централизованную децентрализованную систему локальных сообществ, срастающихся в подчиненные деловые районы, над которыми зримо или незримо преобладает центральный деловой район.
Экспансия связана с физическим ростом города и с расширением технических служб, которые сделали городскую жизнь не только сносной, но и удобной, даже приятной. Некоторые из этих основополагающих потребностей городской жизни возможны лишь благодаря колоссальному развитию коммунального существования. Три миллиона людей, живущих в Чикаго, зависят от единой системы водоснабжения, одной гигантской газовой компании и одной огромной электростанции. Между тем, как и большинство других аспектов нашей коммунальной городской жизни, это экономическое сотрудничество представляет собой пример кооперации, в которой нет и доли того "духа сотрудничества", который обычно в ней предполагают. Крупные муниципальные службы являются частью механизации жизни в больших городах и почти или вовсе не имеют значения для социальной организации.
В ходе экспансии города происходит процесс распределения, который просеивает, сортирует и передислоцирует индивидов и группы по разным местам проживания и родам занятий.
Эта дифференциация на естественные экономические и культурные группировки придает городу его форму и характер. Ибо сегрегация предлагает группе, а тем самым и индивидам, которые эту группу составляют, место и роль в целостной организации городской жизни. Сегрегация ограничивает развитие в некоторых направлениях, но освобождает ему дорогу в других. Эти ареалы тяготеют к акцентировке определенных черт, привлечению и развитию своего особого типа индивидов и, тем самым, к углублению дифференциации.
Разделение труда в городе также иллюстрирует дезорганизацию, реорганизацию и возрастающую дифференциацию. Иммигрант из сельских сообществ Европы и Америки редко привозит с собою экономический навык, имеющий ценность в нашей промышленной, коммерческой или профессиональной жизни. Вместе с тем, произошел профессиональный отбор на основе национальности, в результате которого мы имеем ирландских полисменов, греческие кафе-мороженое, китайские прачечные, негров-носильщиков и бельгийских привратников. Этот отбор можно объяснить скорее расовым темпераментом или обстоятельствами, нежели экономическими традициями тех миров, в которых эти иммигранты прежде жили.
Исследования Х.Зорбо.
Золотой Берег", вытянутый вдоль Северной набережной от Ист-Чеснут-стрит до Линкольн-парка и простирающийся за запад до Норт-Стейт-Парквэй, — это место, где живут лидеры чикагских "четырехсот семей". Четыреста семей — это те, кто "добились успеха". Они образуют группу, обладающую самосознанием. У них имеются свои особые нравы; "хороший тон" и разные мелочи жизни чрезвычайно для них важны. Они живут в совершенно ином мире, нежели остальное население города, гражданами которого они являются. В этом мире они ведут стремительную жизнь, которая вращается вокруг фешенебельных отелей на Набережной, престижных мест отдыха, "мелкой благотворительности", игры в гольф и верховой езды, не говоря уже о бридже и званых обедах. Здесь мы находим наибольшее сосредоточение богатства в Чикаго.
По большей части, жизнь Золотого Берега складывается из постоянного выставления себя напоказ. По сути, это борьба за статус и престиж, за положение и влияние. Она включает в себя искусство публичного существования, преподнесения себя и расточительности в расходах; результатом становится такая известность человека, которая больше нигде в городе не обнаруживается.
В районе Золотого Берега, как и везде в городе, человек не знает своих соседей. На одном из чаепитий в этом районе, когда предметом обсуждения стала тема добрососедских отношений, все дружно говорили: «Нет, мы не знаем наших соседей». Одна женщина, живущая на Озерной набережной, сказала, что не знакома с женщиной, которая живет по соседству, хотя живет с ней бок о бок уже больше двадцати пяти лет. Другая женщина, рассказала, что однажды увидела дым, идущий из дома по ту сторону улицы, и обзвонила всю округу в тщетной попытке выяснить, кто в этом доме живет. Опрошенные мужчины говорят то же самое.
Следовательно, Золотой Берег вряд ли можно назвать сообществом. Это всего лишь престижное место для размещения собственного городского дома, где человек проводит светский сезон.
Кварталы доходных домов
На задворках Золотого Берега расположен ареал болезненно однообразных" улиц со старыми, покрывшимися копотью домами, не отличающимися чистотой аллеями и ветхой атмосферой респектабельности. Проходя дом за домом по этим улицам, можно увидеть на окнах вывески со словами; «Сдается в аренду». Ибо это мир меблированных комнат, один из наиболее характерных миров, вносящих свою лепту в жизнь большого города.
Этот мир, как и всякий район доходных домов, имеет долгую и извилистую историю. Типичный доходный дом никогда не строится целенаправленно; он всегда оказывается адаптацией былого частного дома — дома, который видел лучшие дни. На первом этапе его истории как доходного дома это может быть очень высококлассный доходный дом. Затем, по мере того как фешенебельный жилой район перемещается к окраине города, а бизнес подступает все ближе и ближе, уровень этого заведения падает, пока оно наконец не превращается в "отель для бездельников" или в распутный дом.
Доходный дом — это, как правило, большой жилой дом старого образца, хотя многие многоквартирные дома также превращены в доходные. Население этих доходных домов составляет, как правило, группа, которую профсоюзные лидеры называют «белыми воротничками»: мужчины и женщины, занимающие различные клерковские позиции. Это бухгалтеры, стенографистки, всякого рода конторские работники. Есть также студенты из многочисленных музыкальных школ. Большинство живет на грани бедности, и здесь они могут жить дешево и достаточно близко к Петле, чтобы иметь возможность ходить на работу и возвращаться с работы.
Постоянные прибытия и убытия обитателей - самая важная характеристика мира меблированных комнат. Каждые четыре месяца его население полностью меняется. На окнах постоянно вывешиваются таблички, оповещающие о том, что комнаты свободны, но этим табличкам редко удается провисеть до вечера, поскольку по улицам все время ходят люди в поисках комнат. Держатели доходных домов меняются почти так же быстро, как и их постояльцы. По крайней мере половина держателей этих домов проживала по своим нынешним адресам шесть месяцев или меньше.
Держатель доходного, дома не имеет личных контактов с постояльцами и не испытывает к ним никакого интереса. Он довольствуется тем, что собирает с них плату за жилье и этим зарабатывает себе на жизнь. Поэтому среднестатистический держатель доходного дома не обращает особого внимания на то, кто снимает комнаты в его доме и что в нем происходит, пока это не причиняет беспокойства другим постояльцам.
Доходный дом — место анонимных отношений. Человек никого не знает и его никто не знает. Он приходит и уходит, когда пожелает, делает то, что ему захочется, и до тех пор, пока он не причиняет никому беспокойства, к нему не возникает никаких вопросов.
Трущобы
К западу от Уэллс-стрит и к югу от Чикаго-авеню, достигая Раш-стрит, а далее, южнее Гранд-авеню, сливаясь с расположившимся вдоль реки районом оптовых складов и промышленных предприятий, тянутся трущобы. Мы уже знаем, что этот западный и южный ареал Ближнего Норт-Сайда давно стал трущобой. Земля в районе реки всегда низко котировалась. Эта низина издавна обозначала границу между фешенебельным жилым районом и трущобой; песчаные отмели в устье реки и низину к западу от них населяли более бедные элементы. Пожарный лимит позволял возводить дешевые деревянные постройки в этом западном районе, но требовал более основательного строительства к востоку от него, увековечивая тем самым это разделение. В конце концов, улицы в западном районе были подняты на высоту от четырех до восьми футов, отчего цокольные этажи зданий стали темными и сырыми, и это благоприятствовало сдаче их внаем.
Одна чужая группа за другой претендовали на этот трущобный ареал. Его по очереди занимали ирландцы, немцы, шведы, сицилийцы. Сейчас в него вторгается мигрантская волна негров с Юга. Остатки различных сукцессии наложили на этот район отпечаток, который одновременно характеризует и запутывает его жизнь. Если раньше трущоба тесно примыкала к реке, то с ростом города она расползлась на восток и ныне грозит перекинуться через улицу Ла-Саль и поглотить большую часть ареала меблированных комнат.
Трущоба — типичный ареал дезинтеграции и дезорганизации. Это ареал, в котором проникающий в него бизнес придает земле спекулятивную ценность. Между тем арендная плата здесь низкая; ведь при вхождении в ареал мелкого бизнеса он перестает быть желательным для проживания. Это ареал ветхих жилых построек, многим из которых владельцы, дожидаясь, когда землю можно будет выгодно продать под коммерческие нужды, позволяют ветшать и дальше, запрашивая за их аренду ровно столько, чтобы хватило на покрытие налогов.
Трущоба — это ареал свободы и индивидуализма. На всем протяжении трущоб люди не знают друг друга и не доверяют своим ближним. Если не брать немногие семьи, оказавшиеся в безнадежном положении, значительная часть местного населения находится здесь временно: это проститутки, преступники, изгои, странствующие рабочие. Также здесь находятся ареалы первого поселения иммигрантов — иностранные колонии. И здесь же сосредоточены «нежелательные» чужие группы, такие как китайцы и негры.
Очевидно, что трущоба — нечто большее, чем экономический феномен. Это еще и социологический феномен. Базируясь на сегрегации, возникающей в ходе экономического процесса, она, тем не менее, демонстрирует характерные установки и социальные паттерны, отличающие ее от прилегающих ареалов. Именно этот аспект жизни трущоб особенно значим с точки зрения общностной организации. Трущоба накладывает отпечаток на тех, кто в ней живет, дает им установки и поведенческие проблемы, специфичные именно для нее.
Трущоба — запутанный социальный мир для тех, кто в нем вырастает. С одной стороны, это обусловлено тем, что мы назвали выше космополитической природой трущобы, т.е. отсутствием в ней общих социальных определений и наличием многочисленных конфликтующих определений, проистекающих из ее различных культур. Но еще больше это обусловлено тем, как функционируют в трущобе семья и сообщество.
«Нормальное» сообщество обычно обеспечивает своим членам выход из кризисных ситуаций. «Нормальная» семья делает то же самое. Но трущобное сообщество и трущобная семья этого не обеспечивают. Во всем ареале трущоб, во всем ареале дешевого съемного жилья нет ничего похожего на сообщество. Люди и семьи, снимающие здесь жилье, сегрегируются здесь в силу того, что им по той или иной причине больше нигде не удалось приспособиться. Многие из здешних семей разрушены; другие — дезорганизованные; третьи — просто неэффективные.
Ребенок сознает, хотя и смутно, эту неспособность семьи и сообщества помочь ему приспособиться. Здесь кроется значимость того факта, что существует экология «шайки». Мальчишеская шайка — это приспособление, проистекающее из неспособности семьи и сообщества решить проблемы ребенка. Эта неспособность особенно характерна для иностранных семей и сообществ, которые в силу экономической необходимости сегрегируются в трущобе. А потому именно трущоба, особенно трущоба иностранная, является территорией банд (gangland). Ибо территория банд — всего лишь результат создания подростком такого социального мира, в котором он мог бы жить и найти удовлетворение своих желаний.
2.
Р.Парк о маргиналах.
В его теории маргинальный человек предстает как иммигрант; полукровка, живущий одновременно "в двух мирах"; христианский новообращенный в Азии или Африке. Главное, что определяет природу маргинального человека — чувство моральной дихотомии, раздвоения и конфликта, когда старые привычки отброшены, а новые еще не сформированы. Это состояние связано с периодом переезда, перехода, определяемого как кризис. "Без сомнения, — отмечает Парк, — периоды перехода и кризиса в жизни большинства из нас сравнимы с теми, которые переживает иммигрант, когда он покидает родину, чтобы искать фортуну в чужой стране. Но в случае маргинального человека период кризиса относительно непрерывный. В результате он имеет тенденцию превращаться в тип личности" . И далее он замечает, что в природе маргинального человека "моральное смятение", которое вызывают культурные контакты, проявляет себя в более явных формах; изучая эти явления там, где происходят изменения и слияние культур, мы, поясняет ученый, можем лучше изучать процессы цивилизации и прогресса.
В описании "маргинального человека" Парк часто прибегает к психологическим акцентам. Американский психолог Т. Шибутани обращал внимание на комплекс черт личности маргинального человека, описанный Парком. Он включает следующие признаки: серьезные сомнения в своей личной ценности, неопределенность связей с друзьями и постоянную боязнь быть отвергнутым, склонность избегать неопределенных ситуаций, чтобы не рисковать унижением, болезненную застенчивость в присутствии других людей, одиночество и чрезмерную мечтательность, излишнее беспокойство о будущем и боязнь любого рискованного предприятия, неспособность наслаждаться и уверенность в том, что окружающие несправедливо с ним обращаются .
В то же время Парк связывает концепцию маргинального человека скорее не с личностным типом, а с социальным процессом. Он рассматривает маргинального человека как "побочный продукт" процесса аккультурации в ситуациях, когда люди различных культур и различных рас сходятся, чтобы продолжать общую жизнь, и предпочитает исследовать процесс скорее не с точки зрения личности, а общества, в котором он является частью .
Парк приходит к выводу о том, что маргинальная личность воплощает в себе новый тип культурных взаимоотношений, складывающихся на новом уровне цивилизации в результате глобальных этносоциальных процессов. "Маргинальный человек — это тип личности, который появляется в то время и том месте, где из конфликта рас и культур начинают появляться новые сообщества, народы, культуры. Судьба обрекает этих людей на существование в двух мирах одновременно; вынуждает их принять в отношении обоих миров роль космополита и чужака. Такой человек неизбежно становится (в сравнении с непосредственно окружающей его культурной средой) индивидом с более широким горизонтом, более утонченным интеллектом, более независимыми и рациональными взглядами. Маргинальный человек всегда более цивилизованное существо" .
Таким образом, первоначально рассмотрение проблем маргинальности связано с "культурологическим подходом" Роберта Парка, давшим немало плодотворных идей современным исследователям.
Маргинальная личность - это продукт естественного культурного процесса, расширяющегося взаимодействия культур. Этот тип личности появляется в том месте и в то время, где и когда из конфликта рас и культур начинают возникать новые сообщества, народы, культуры. Человек этих новых культур существует в двух мирах одновременно, поэтому для него характерен более широкий горизонт и более утонченный интеллект. Р. Парк считал маргинального человека более цивилизованным существом.
Изучение У.А.Томасом и Ф.Знанецким феномена польской иммиграции в США. Методы исследования. Проблемы адаптации.
Из социологического наследия польско-американского социолога Флориана Знанецкого и американского социолога Уильяма Томаса наибольший научный интерес представляет их совместная работа "Польский крестьянин в Европе и Америке" (в 5 т., 1918-1921). Начало над исследованием этой темы было положено в 1908 г. Работа включает теоретическую часть "Методологические заметки" и первичные эмпирические материалы, разбитые на группы и сопровожденные комментариями. Авторы исследовали польских эмигрантов, прибывших из Европы в Америку, и выявили зависимость их поведения в новой социальной среде от национальных традиционных норм и ценностей.
Впоследствии американские социологи рассматривали исследование Ф. Знанецкого и У. Томаса как первый и яркий образец эмпирического социологического исследования, связанного с использованием биографии и личных документов в качестве важнейшего метода, внедренного в социологию. Всего было использовано 8 тыс. документов. Хотя исследователи не претендовали своей работой основать новую социальную теорию, однако она знаменовала собой разрыв со спекулятивной социологией и вступление в период эмпирического развития.
Предметом изучения Ф. Знанецкого и У. Томаса были семьи польских крестьян, которые после переселения в Америку вступили в полосу перехода (адаптации) от старых форм социальной организации к современным формам жизни. Было выделено восемь главных проблем:
1) проблема соотношения типа социальной организации и индивидуализма;
2) проблема индивидуальной и социальной активности;
3) проблема "анормальности";
4) проблема профессий;
5) проблема взаимоотношения между полами;
6) проблема социального счастья;
7) проблемы борьбы рас и культур;
8) проблема оптимальной организации культурной жизни.
Все поставленные проблемы исследовались строго эмпирически. Так, например, почти полностью два тома из пяти представляют собой опубликованную без каких-либо комментариев переписку 28 польских семей. Первичный анализ этой переписки был сгруппирован особым образом. Так, например, в одну группу была выделена переписка между мужьями и женами, в другую - письма девушек, ушедших из семей в связи с замужеством в другую семью. Также были выделены в группы церемониальные, информационные, чувственные, литературные, деловые и т.д.
Другой прием исследования, принятый авторами, - это изучение автобиографий. Весь третий том составляет автобиография некого Владика Вишневского из Люботина, который эмигрировал в Америку. Ф. Знанецкий и У. Томас пытались проследить эволюцию взглядов человека в зависимости от изменений условий его социальной жизни. Приводимые в исследовании личные документы имели большую фактическую достоверность, что позволяло выявить динамику мотиваций конкретных людей. Эта информация способствовала построению типологии универсальных социальных характеров.
Анализируя письма и дневники, Ф. Знанецкий и У. Томас открыли множество мотивационных и поведенческих реакций на социальную среду, а также реакций, отражающих эмоциональную и событийную сторону индивидуальной адаптации. Ученые пришли к выводу о том, что общество представляет собой универсальный ряд социальных характеров: "Philistine" - мещанский, "Bogemian" - богемный, "Creative" - активный или творческий.
Эти три характера, с их точки зрения, несут в себе единый механизм приспособления, который представлен следующими ступенями:
- детерминация характера врожденным темпераментом;
- конструирование организации личной жизни, которое завершает процесс объективации различных отношений, составляющих характер;
- адаптация характера к требованиям общества и ближайшего окружения;
- адаптация индивидуальной жизненной организации к конкретной социальной организации.
Предложенная Ф. Знанецким и У. Томасом типология трех универсальных социальных характеров возникла на основе изучения информации, содержавшейся в личных документах. В исследовании показано, что представители мещанского типа социального характера ориентированы в сознании и поведении на стабильность. Их психика с трудом воспринимает требования изменяющейся ситуации, а сама жизнь мещан связана с традиционными ситуациями и они формируются как конформисты. Однако, с другой стороны - они проявляют способность к сопротивлению, давлению изменений во внешней среде.
Представители богемного типа социального характера отличаются спонтанностью поведенческих реакций и неспособностью к формированию стабильных моделей поведения. Как отмечали Ф. Знанецкий и У. Томас, "богемианы" склонны демонстрировать определенную степень адаптивности к новым условиям, но она не ведет к новой целостной модели организации жизни. Исторические корни данного характера порождены переходным состоянием общества, при которых не успели сложиться постоянные социальные ориентиры.
Представители "креативного" типа социального характера в наибольшей степени социально эффективны. Они строят свою жизнь, исходя из тенденции к модификации и разнообразию, преследуя собственные цели. Они постоянно расширяют контроль над социальной средой и адаптируют к ней свои желания. У них приспособление идет через механизм активной деятельности. Люди креативного типа характера образуют динамическое ядро социальных систем. Хотя они и составляют меньшинство в любом обществе, но их деятельность наиболее продуктивна.
Таким образом, все типы социального характера являют собой результат сплава темперамента и социально-исторических условий формирования личностей. Эта исследовательская тенденция оказалась в американской социологии очень устойчивой, она получила серьезную подпитку в теоретическом и методологическом плане от европейской социологии в лице Э. Фромма и Т. Адорно. Одним из значимых вариантов решения сходной проблемы на американской почве явилась работа Ф. Рисмена "Одинокая толпа. Исследование американского характера" (1950).
Теоретические воззрения У.А.Томаса.
Социологическая теория Уильма Томаса - профессора Чикагского университета (1893-1918) и президента Американского социологического общества (1927) неоднородна и не представляет целостной концепции. Она являет собой переход от сугубо психологической точки зрения на поведение людей к ситуативной, связанной с исследованием установок (ценностей) индивидов и групп.
Так, в работе "Пол и общество" (1907) в основе мотивов поведения людей он усматривает четыре "желания": нового опыта, безопасности, признания и господства. Позже желание трактуется им как явление отчасти биологическое и социальное. В 1920-е гг. У. Томас рассматривает социальное поведение уже с точки зрения "ситуативного" подхода, т.е. мотивы поведения не устанавливаются заранее как "желания" (инстинкты), в соответствии с которыми затем описывается поведение, а обнаруживаются в ходе наблюдения и сравнения поведения в различных ситуациях.
Рассматривая социологическую концепцию У. Томаса, нельзя не отметить влияния на формирование его взглядов теории З. Фрейда (1856-1939) и появившегося в 1920-е гг. в США психоанализа. У. Томас объяснял различные формы поведения, исходя из своей концепции четырех желаний. Он не принял фрейдовское "либидо", а заменил его "четырьмя желаниями".
У. Томас утверждал, что человек стремится к поискам удовлетворения и что его стремления или желания находятся в непрерывном конфликте друг с другом и с окружающей средой. Некоторые желания, например, желания нового опыта и безопасности относятся к индивидуальной стороне личной эволюции.
Желания же признания и господства - к социальной стороне. Согласно его представлению, индивидуальные и социальные силы личности ведут конкурентную борьбу за господство внутри нее, а также ради получения удовлетворения борются с внешним миром. В конце концов в каждом индивидууме устанавливается некое равновесие между этими силами, хотя внезапные изменения социальной ситуации требуют новых видов приспособления и нового равновесия.
Установки.
Под социальной установкой (аттитюдом) понимается процесс индивидуального сознания, определяющий реальную или возможную активность индивида в социальном мире. Это психический процесс, трактуемый как изначально проявляющийся в соотнесенности с социальным миром и взятый прежде всего в связи с некоторой общественной ценностью. Психический процесс остается всегда главным образом состоянием кого-то; установка остается всегда главным образом установкой на что-то. Проще говоря, социальная установка – это внутреннее отношение человека к кому-то или чему-то. Установки проявляются в индивидуальных действиях, но наиболее распространенные из них – еще и в более или менее явных правилах поведения. Эти правила могут вызывать уважение сами по себе и быть аналогичны любым другим ценностям. Действия, соотнесенные с правилами поведения, лежат в основе социальных институтов.
Ситуации.
Все, что происходит в обществе, имеет причину, но социальные причины включают в себя как субъективный, так и объективный моменты, как ценности, так и установки. Социальная деятельность планируется и оценивается исходя из социальной ситуации, элементами которой являются: 1) объективные условия, воздействующие на сознание (включая ценности); 2) предшествующие установки, в данный момент оказывающие влияние на поведение; 3) определение ситуации (более или менее ясная концепция условий и осознание установок). Социальные процессы – это ни что иное, как последовательное преобразование одних социальных ситуаций в другие. Разрешение любой социальной ситуации значит образование новой и т. д. А разрешается ситуация действующими лицами в зависимости от условий, установок и определения ситуации. Определение ситуации – одна из важнейших категорий в социологии. Она отражает тот факт, что для действующих лиц важны не столько условия действия и установки партнеров, сколько представления о них. Если действующий субъект неправильно представляет то, что происходит, действия могут быть неуспешными и потребовать «переопределения ситуации». Однако эти действия могут привести к новой ситуации, вполне соответствуюшей первоначальным представлениям индивида. «Теорема Томаса» гласит: если ситуации определяются как реальные, они реальны по своим последствиям. Например, человек может заблуждаться в отношении того, что окружающие относятся к нему враждебно. Но если он, отталкиваясь от этого заблуждения, будет сам враждебно относиться к окружающим, может разгореться вполне реальный конфликт.
Теорема Томаса.
Теорема У. Томаса - феномен социального взаимодействия. Если человек определяет ситуацию как реальную, то станет реальной по своим последствиям. Например, если вкладчики боятся, что их банк прогорит и поэтому забирают свои деньги, то банк действительно прогорит.
3.
Истоки символического интеракционизма.
Символический интеракционизм опирается на труды американских социологов Джорджа Мида (1863-1931) иЧарлза Кули (1864-1929). которые разработали исходные принципы этого социологического направления. Сам термин«символический интеракционизм» был введен в научный оборот в 1937 г. учеником Дж. Мида Гербертом Блумером (1900- 1987).
Основные положения символического интеракционизма сводятся к следующему:
люди взаимодействуют друг с другом, руководствуясь прежде всего символическими значениями, которые они придают тем или иным объектам;
сами символы являются продуктом социального взаимодействия (интеракции) между людьми;
символические значения возникают и изменяются посредством интерпретации и переопределения символов.
Представители интеракционизма утверждают, что индивид создает свои объекты на основе тех значений, которые он им придает. С точки зрения Мида, люди обретают свою человеческую природу благодаря тому, что взаимодействуют с помощью символов, важнейшие из которых представлены в языке. Именно язык является первейшим и основным фактором человеческого взаимодействия, «все люди создаются в разговорах», — считают интеракционисты, если нет языкового общения, то нет и человека. При общении индивиды как бы обмениваются символами. Чтобы интеракция (общение) продолжалась, каждый вовлеченный в нее должен еще и интерпретировать намерения других с помощью принятия роли, т.е. поставить себя на место партнера. Само же общение есть обмен взаимопонятных символов с целью достижения практических результатов в совместной деятельности.
Общество, группы и личность в представлениях Ч.Х.Кули.
Творчество американского социолога, профессора Мичиганского университета Чарльза Хортона Кули (1864–1929) явно недооценено следующими поколениями ученых-психологов. Их внимание сосредоточилось лишь на небольшом количестве переменных, которые впоследствии оформились в то, что мы знаем теперь под названием «малой группы» [3]. Кули внес огромный вклад в дело становления социальной психологии США как самостоятельной дисциплины в конце XIX – начале XX века.
Свой подход Кули называл «органическим», но не в смысле биологического органицизма, а потому, что он исходит из признания изначального единства личности и общества [1, с. 100]. «Органический подход подчеркивает как единство целого, так и собственную ценность индивида, объясняя одно через другое» [2, с. 34].
Концепция Кули во многом была направлена против инстинктивистских и механистических интерпретаций, признавая невозможность рассматривать инстинкты как универсальные мотивы социального поведения, с одной стороны, а также интерпретировать личность с помощью принципа «подражания» – с другой.
Признаком истинно социального существа Кули считает способность выделять себя из группы, сознавать свое Я, свою личность. Но непременное условие развития самосознания – общение с другими людьми и усвоение их мнений на свой счет. «Не существует чувства Я... без соответствующего ему чувства Мы, или Он, или Они» [1, с. 110]. Сознательное действие, по Кули, есть всегда действие социальное. А действовать социально – значит сообразовывать свои действия с теми представлениями о своем «Я», которые складываются у других людей.
Социально-психологическая теория Кули в основе своей имеет результаты наблюдений за процессом детского развития, в частности самопрезентации детей. Кули ставил себе целью рассмотрение данных наблюдений в тесной связи с миром социальных форм и процессов, с социологической точки зрения [4, p. iv].
Кули приводит центральный тезис своей теории о неразделимости индивидуального и социального в жизни человека. «Личность» и «общество» – не две разные сущности, а разные аспекты изучения живого процесса человеческого взаимодействия, который можно рассматривать либо со стороны личности, ее самосознания, динамики социального Я, либо со стороны общественных институтов и фиксированных типов общения.
В работах Кули берут свое начало многие аспекты современных социально-психологических проблем. Среди них такие явления, как социализация, конформизм и нонконформизм, лидерство, личная власть.
Конформизм Кули рассматривает как один из механизмов подражания, наряду с соперничеством и идолопоклонством. Рассматривая понятие «лидерство», Кули считал его синонимом термина «личное влияние». Также стоит отметить, что Кули рассматривал явления лидерства, личной власти и личного влияния параллельно, в тесной взаимосвязи друг с другом. По сути дела, Кули пытался разработать социально-психологическую теорию лидерства, стремясь выяснить, «что делает лидерство возможным для одних и недоступным для других» [2, с. 228].
Кули выделял два вида наследственности: природная и социальная. Социальная наследственность передается через язык, взаимодействие и образование. Главную основу социальной наследственности индивида, которая закладывается в нем только путем взаимодействия с другими людьми, составляют «сантименты», такие как осознание себя самого по отношению к другим, желание одобрения, соперничество, чувство чести, чувство социальной справедливости и несправедливости и т. п.
Проблема первичных групп и связанная с ней проблема социализации представляются наиболее значимыми для современной социальной психологии в творчестве Кули.
Первичной группой Кули называет кооперацию и ассоциацию индивидов, непосредственно взаимодействующих друг с другом лицом к лицу. Именно первичная группа является основой для формирования социальной природы индивидуума, его идеалов [5, p. 23]. Примеры первичных групп: детский игровой коллектив, семья, соседство. Первичная группа является первичной в том смысле, что именно она дает индивиду самый ранний и самый доскональный опыт социального единства (групповой принадлежности) [5, p. 26].
Кули вплотную подходит к пониманию структуры коммуникации (общения), включая сюда не только процесс интеракции – межличностного взаимодействия, но и факт перцепции – восприятия людьми друг друга. В качестве примеров Кули приводит многие факты взаимного влияния индивидов или группы на поведение и суждения человека.
В рамках первичных групп происходит и социализация индивида. С одной стороны, Кули рассматривает процесс социализации как результат социального взаимодействия, а с другой – как процесс усвоения индивидом социального опыта. Усвоение идеалов, моральных норм индивида происходит в ходе коммуникации.
Принимая за процесс социализации процесс развития «Я» индивида, Кули выделяет следующие стадии социализации: «чувство «Я» (selffeeling), «чувственные состояния» (felling states) и «представления» (imaginations). Социализация «измеряется» Кули посредством рассмотрения возникновения «образов» (персональных представлений) в сознании. Последние переходят в «социальные чувства», социально подкрепляемые образцы и нормы поведения. Можно сказать, что социализация происходит в ходе восприятия индивидом других людей. Восприятие индивида как субъекта будет зависеть от того, каким образом его воспринимают другие. В этой связи Кули развивает теорию, которая вошла в историю под названием теории «зеркального Я».
Таким образом, в своих работах Кули выступил как один из основоположников социальной психологии, обозначил круг проблем, которые на долгие годы стали предметом социально-психологических исследований. Однако отсутствие опоры на эмпирические данные, ограниченность методологии и сведение всех социально-психологических явлений к непосредственному взаимодействию индивидов делали теорию Кули уязвимой для критики.
«Зеркальное Я».
Ч.Кули предполагал, что “зеркальное Я” представляет собой постоянный ментальный процесс, для которого характерны три фазы. Во-первых, мы представляем себе, как мы выглядим в глазах других людей. Например, мы можем решить, что поправляемся и становимся “жирными”. Во-вторых, мы воображаем, как другие люди будут оценивать нашу внешность. Мы прекрасно знаем, что обычно окружающие рассматривают тучных людей как непривлекательных. В-третьих, мы вырабатываем некий тип внутреннего самоощущения, например, чувство гордости или стыда, на базе которого создаем для себя представления о том, что думают о нас прочие люди. В нашем случае мы, скорее всего, будем испытывать беспокойство или неловкость, связанные со своей воображаемой тучностью.
Процесс зеркального отражения собственного Я является субъективным процессом и не обязательно соответствует объективной реальности. Самый обычный ребенок, усилия которого оценены и вознаграждаемы, будет ощущать чувство уверенности в своих силах и собственном таланте, в то время как способный и талантливый ребенок, усилия которого воспринимаются ближайшим окружением как неудачные, испытывает чувство некомпетентности и его способности могут быть практически парализованы. Именно через отношения с другими, через их оценки каждый человек устанавливает, умный он или глупый, привлекательный или некрасивый, достойный или никчемный.
Развиваясь, личность становится не только более строгой при выборе группы личностей, выполняющих роль социального зеркала, но и осуществляет отбор образов, оказывающих на нее влияние. Человек всегда оказывает больше внимания одним мнениям и меньше другим, он может даже вообще игнорировать некоторые мнения и реакции по поводу своего поведения. При этом существует возможность неправильного истолкования мнений, или искаженного зеркала. Мы, например, часто поддерживаем приятные высказывания о себе, которые на поверку оказываются просто лестью, или можем отнести брань начальника к неумению или неспособности, в то время как это просто служит проявлением его плохого настроения.
Понятие “зеркального Я” не подразумевает, что наше представление о самих себе обязательно радикально изменяется всякий раз, когда мы сталкиваемся с новым человеком или новой ситуацией. В связи с этим следует провести грань между собственными воображаемыми образами, так называемыми само-имиджами, и представлением о себе. “Само-имидж” – это наш внутренний собственный образ, обычно относительно кратковременный; он изменяется по мере того, как мы переходим из одной ситуации в другую. Представление о себе – это более стабильный взгляд на самого себя, вневременное ощущение самого себя – “истинное Я”, или “Я такой, какой есть на самом деле”. “Само-имиджи” слой за слоем обычно накапливаются с течением времени и оказывают влияние на относительно устойчивое представление о самом себе. В целом можно сказать, что последовательность “само-имиджей” скорее корректирует, чем вытесняет наше более ясно выкристаллизовавшееся представление о самом себе, или самоидентичность.
4.
Развитие бихевиоризма Дж.Г.Мидом.
Эту свою концепцию Мид противопоставил классическому бихевиоризму Джона Уотсона (который тоже работал в Чикагском университете и с которым Мид дружил). — Основная идея, лежащая в основе этой концепции: человеческое поведение, поскольку оно является осмысленным, не может быть адекватно описано с помощью схемы «стимул–реакция». — Эта идея роднит Мида с другими адептами «понимающей социологии».
Отвергая бихевиористскую объяснительную схему «стимул–реакция», Мид продолжает оставаться в рамках общей прагматистской системы координат, основополагающей для поведенческого подхода в психологии: это система координат «организм–среда».
В этой системе координат упор делается на рассмотрение «опыта», взаимодействия «организма» (или «живой формы») со «средой» («окружением»), в которой, помимо всего прочего, присутствуют другие «организмы». — «Поведение», рассматриваемое как «взаимодействие», трактуется как первичное (в конечном счете) по отношению к субъективным состояниям, в том числе «разуму» (mind), «сознанию», «идеям» и т.д.; «сознание» истолковывается как всего лишь аспект (или «фаза») поведения, который можно истолковать только в контексте поведения в целом, включающего также и другие аспекты («фазы»). — Процесс жизнедеятельности «организма» (или «живой формы») есть процесс непрерывного взаимодействия со средой, в ходе которого он непрерывно приспосабливается и переприспосабливается к этой среде.
Вместо понятия «поведения», в его строгом бихевиористском смысле, Мид предлагает понятие акта, имея в виду прежде всего рефлексивное, осмысленное поведение. — Это понятие является одним из центральных в философии Мида и используется им отнюдь не только в социологических и социально-психологических целях (Rf.: «Философия акта»). Вместе с тем его можно считать основополагающим для его социально-психологической концепции: схема «акта» заменяет схему «стимул–реакция» как схема, устанавливающая специфичность осмысленного человеческого поведения по сравнению с неосмысленным реагированием животного на свою среду.
Роль символов как проводников социального взаимодействия.
Рассматривая различные виды жестов, особое внимание Мид уделяет анализу голосового жеста и превращению его в значимый символ взаимодействия. Совокупность и взаимосвязь голосовых жестов рассматривается им как речь.
Американский ученый постоянно подчеркивает, что социальный мир человека и человечества формируется в результате процессов социальных взаимодействий, в которых большую роль играет "символическое окружение". Согласно Миду, общение между людьми осуществляется при помощи особых средств — символов, к которым он относит жест и язык. Символическое окружение человека оказывает на него решающее влияние, поскольку способствует формированию сознания личности и человеческого Я. Жест — это начальный, незавершенный элемент человеческого поведения. Жест и реакция на него опосредуется значением, которое как бы "располагается" между жестом и воспринимающим его человеком. Смысл жеста вызывает (если он понятен) инстинктивную реакцию. Мид пишет: "Жест выражает некое результирующее социального действия, результирующее, на которое имеется определенный отклик со стороны вовлеченных в это действие индивидов: таким образом, смысл дается или формулируется в терминах отклика" [От жеста к символу. 1996. С. 221].
Но жест не имеет социально закрепленного значения. Зато его имеет язык. Как указывает социолог, "решающее значение языка для развития человеческого сознания заключается в том, что этот стимул обладает способностью воздействовать на говорящего индивида так, как он воздействует на другого"
По мере трансляции символов индивид передает партнеру и ряд стимулов к поведению. На этой основе межличностное взаимодействие сводится к процессу "перенимания ролей". В результате своеобразного копирования действий социального партнера происходит передача определенной социально значимой информации.
Мид о самости (Self), «значимом другом» и «обобщенном другом».
Самость – чисто социальное качество. Оно не только отсутствует у животных, но не является врожденным и у самих людей. Развитие самости у ребенка, по Миду, проходит две стадии (см. рис.).
1. Стадия ролевых игр (Play). В отличие от животных, которые тоже способны играть, человеческий ребенок, подрастая, начинает в играх воспроизводить самые разные социальные роли, изображать разных людей (мать, учителя, продавца, военного и т.д.). В процессе всех этих игр ребенок учиться оценивать себя с точки зрения конкретных других людей.
2. Стадия коллективных игр (Game). Если раньше ребенок примерял на себя роли отдельных людей, то в групповых играх ему приходится ставить себя на место каждого участника игры. Такого рода игры развивают в ребенке способность действовать в организованной группе. К таким играм можно отнести футбол, прятки и т.д. Ребенок учится оценивать себя не просто глазами отдельного человека, а с точки зрения обобщенного другого, то есть целого сообщества. Эта стадия самости подразумевает, что ребенок становится членом некоего сообщества и руководствуется общими для этого сообщества установками.

По мере взросления ребенка он становится членом самых разнообразных групп, приобретая вследствие этого и самые разнообразные самости. По набору самостей один человек отличается от другого. Формирование каждой конкретной самости происходит в индивидуальном порядке, поэтому люди не являются похожими друг на друга клонами, а обладают ярко выраженными индивидуальными чертами.
В структуре самости Мид выделял два компонента – me и I (эти мидовские термины обычно используются без перевода).
Первый компонент, me («ми», в буквальном переводе – «меня») – это совокупность установок, ценностей и норм, которыми руководствуется человек. Этот набор усваивается человеком в процессе принятия роли обобщенных других. Другими словами это осознанные, но некритически усвоенные, принятые на веру правила поведения в том или другом сообществе. Me гарантирует устойчивость и стабильность в обществе, обеспечивая соблюдение общепринятых, ожидаемых норм поведения. В целом можно сказать, что me – это социальная стороны личности.
Второй компонент, I («ай», в буквальном переводе – «я»), представляет непосредственную реакцию индивида на других. Это непредсказуемый и в то же время творческий элемент личности каждого человека. I привносит в социальные процессы элемент новизны, способствует самореализации каждого человека, а также содержит в себе все важнейшие ценности. Iотражает индивидуальность и своеобразие человека.
Любое действие человека, полагает Мид, может быть рассмотрено через призму взаимодействия I и me. Me предлагает набор стандартизированных реакций, а I отвечает за выбор какой-либо из них.
I и me – это две половинки одного целого (Self = I + me). Me позволяет человеку комфортно существовать в социальном мире, а I предохраняет общество от застоя. Компонент me преобладает у людей-конформистов, а компонент I – у творческих личностей и харизматических лидеров, изменяющих историю. Социальный контроль можно рассматривать как доминирование me над I, а общественное развитие – как постепенное увеличение доли I в структуре личности (в примитивных обществах у людей преобладает me, в то время как в современном обществе большее значение получает элемент I).
5.
Символический интеракционизм Г.Блумера
Герберт Блумер (1900—1987) родился в г. Сент-Луисе (штат Миссури), изучал социологию в Чикагском университете. В 1925—1952 гг. преподавал в Чикагском университете, с 1952 г. — в Калифорнийском университете (Беркли). Здесь он был сначала профессором и руководителем кафедры, а с 1959 г. — директором Института социальных наук. С 1942-го по 1953 г. работал редактором журнала "American Journal of Sociology". Будучи представителем Чикагской школы, Блумер опирался на работы Ч. Кули, Дж. Дьюи, У. Томаса, став учеником и последователем Дж. Мида. Именно Блумеру социологическая наука обязана введением в широкий научный оборот термина "символический интеракционизм".
Как и Мид, он выделяет два уровня взаимодействия — несимволический и символический. Различия между ними Блумер видит, прежде всего, в том, что несимволическое взаимодействие характерно для живой природы, тогда как символическое, определяемое наличием коммуникации между участниками интеракции посредством использования символов, присуще только человеческому обществу.
При этом суть феномена символического взаимодействия обусловлено символической природой языка как основного фактора человеческой интеракции. В процессе общения язык порождает одинаковую реакцию разных людей на языковые конструкции. В то же время любое слово (как символ) обладает частным значением, возникшим в результате взаимодействия и договора между людьми об этом значении. Опираясь на прагматизм, Блумер исходит из того, что значение объекта определяется не присущими ему свойствами, а его ролью в повелении. Объект — это то, что он значит в ожидаемом и реальном социальном взаимодействии.
Значения возникают в процессах социального взаимодействия, причем под последними Блумер понимал исключительно микропроцессы. Сами значения выступают как способ неразрывной связи и между индивидами, и между явлениями (объектами) в рамках символического взаимодействия. Люди приписывают значения символам, т.е. интерпретируют их, вследствие чего объекты, с которыми они взаимодействуют, наделяются смыслом. Поэтому не случайно ученый уделяет большое внимание анализу интерпретации. Благодаря ей становится понятным, как стремится взаимодействовать с объектом индивид. На основании интерпретации может быть переопределена (определена по-новому) ситуация действия.
Здесь обязательно и необходимо принять во внимание то обстоятельство, что описанный процесс (именно процесс, а не взятое само по себе какое-либо статичное состояние) касается не отдельного индивида, а как минимум (простейший случай) двух взаимодействующих людей. Следовательно, речь идет о процессе взаимной интерпретации, на основании которой и рождается взаимное понимание. В таком случае в процессе совместной, обоюдной, взаимной интерпретации символов происходит своеобразное "конструирование социальной реальности" (об этом подробнее мы будем говорить в следующей главе, посвященной (частично) феноменологической социологии и анализу взглядов П. Бергера и Т. Лукмана). Оно есть не что иное, как принятие и приписывание значений, которые и образуют символическую среду жизни, отношений, взаимодействий, коммуникации, общения индивидов.
В первой главе одной из главных работ — "Символический интеракционизм: перспектива и метод" (1969) — Блумер следующим образом излагает основные положения своей теории: а) человеческая деятельность осуществляется в отношении объектов на основании тех значений, которые индивиды им придают, б) сами значения выводятся из социального взаимодействия, в которое люди вступают между собой, т.е. являются продуктом социальной интеракции между индивидами; в) значения изменяются и применяются посредством интерпретации — процесса, используемого каждым индивидом в отношении знаков (символов), его окружающих.
Рассуждения Блумера можно конкретизировать на следующем простом примере: белый лист на столе является тем, на чем человек может записать свои мысли, яблоко — тем, что можно съесть. Другими словами, люди действуют в отношении вещей (объектов) на основе смыслов, которыми располагают о них. Однако смыслы не присущи вещам самим по себе и не являются чем-то индивидуальным. Они возникают в процессе взаимодействия и вписываются в него, поэтому по своей природе смыслы являются социальным феноменом. Но вместе с тем эти смыслы задаются и преобразуются благодаря процессу их интерпретации людьми. Следовательно, одной из главных задач социологии является исследование способов практического осуществления людьми интерпретации смысла объектов в рамках их повседневной социальной жизни.
Таким образом, у социолога действующий человек перестает быть простым исполнителем каких-то внешних требований. Наоборот, главным оказываются творческие результаты деятельности субъектов взаимодействия, проявляющиеся в процессе интерпретации ими символов, знаков, значений тех или иных объектов. Принятие данного положения способствовало развитию символического интеракционизма на пути его социологического "вторжения" в сферу анализа микропроцессов и использования для этого эмпирических методов исследования. Наиболее привлекательными областями такого исследования были и продолжают оставаться криминальные формы отклоняющегося поведения, процессы внутрисемейной интеракции, формирования различных субкультур.
Будучи последователем Мида, Блумер считал большим вкладом последнего в социологию постановку им проблемы социального взаимодействия в качестве взаимодействия символического. С социологической точки зрения общество является, по Блумеру, символической интеракцией. Отсюда центральной проблемой социологии является изучение социального взаимодействия и коллективного поведения как символических построений на основе их интерпретации социологом.
Рассматривая символическое взаимодействие как процесс интеракции, Блумер подчеркивает возможность применения этого понятия к характеристике деятельности (действий) отдельного индивида, что может быть достигнуто с помощью обычного эмпирического наблюдения. Вот как выражает эту мысль сам американский социолог в названной выше книге "Символический интеракционизм: перспектива и метод" в главе под названием "Общество как символическая интеракция": "Каждому из нас знакомы такого рода действия, когда человек сердится на самого себя, противопоставляет себя себе, гордится сам собой, спорит сам с собой, старается сохранить свое мужество, говорит самому себе, что он должен сделать то или иное дело, ставит перед самим собой цели, вступает с самим собой в компромиссы и планирует, что он должен для этого сделать. То, что человек действует в отношении самого себя такими или сотнями иных способов, подтверждается обыкновенным эмпирическим наблюдением
6.
Методология социологии в трудах П.Ф.Лазарсфельда
Лазарсфельд, его коллеги и ученики (Э. Кац, Дж. Коулмен и др.) одними из первых разрабатывали процедуру выборки, которая получила в социологии название "снежного кома". Суть ее состояла в том, что респондентов, опрашиваемых в связи с изучением различных проблем (впервые в исследовании электорального поведения входе президентской выборной кампании в США в 1940 г.), просили назвать тех, кто определенным образом повлиял на процесс принятия ими решения. Это позволяло увеличивать численность респондентов в исследовании данной проблемы — по аналогии с катящимся снежным комом, на который налипает все новый снег.
Большое внимание Лазарсфельд уделял не только методике, но и методологии социологического исследования (но мнению некоторых аналитиков его творчества, даже большее, чем методике). Сам он постоянно подчеркивал их единство, говоря о том, что это не две разные сферы социологии, но взаимосвязанные, переходящие одна в другую линии социологического исследования. Он стремился оценить методы и процедуры эмпирического исследования, выявить смыслы и значения используемых понятий. При этом основным критерием истинности научного знания у него выступал принцип верификации, состоявший в сопоставлении гипотез исследования с реальными фактами. По существу, речь шла о выявлении истинности теоретической модели путем ее опытной проверки, что означало эмпирическое сравнение с реальной действительностью. Принцип верификации является типичной принадлежностью позитивизма (неопозитивизма), в парадигме которого постоянно работал Лазарсфельд.
Изучая радиоаудиторию, Лазарсфельд широко использовал детальные интервью с открытыми вопросами, с тем чтобы раскрыть субъективный опыт и мотивацию респондентов. В тех же целях он настаивал на применении метода контент-анализа для достижения более точного измерения природы стимулов. Его интерес к разработке методики связан с выбором исследуемых проблем — фундаментальные выводы его исследований указывали на необходимость дальнейшего поиска новых, еще более совершенных методов и процедур.
Одним из крупных достижений Лазарсфельда в области методики является создание им панельного метода. Изучая радиоаудитории, он заметил их тенденцию к самоизбирательности. Следовательно, для того, чтобы выявить причинно-следственные связи воздействия СМИ и отделить их от таких проблем, как влияние установок на типы восприятия, требовалось выработать метод изучения временного порядка переменных. Результатом стало создание панельного метода, в котором выборочная совокупность респондентов многократно интервьюируется с интервалом во времени. По своей сути панельный метод является полевым экспериментом, в котором изучается скорее «естественная», нежели экспериментальная популяция.
Изучение общественного мнения П.Ф.Лазарсфельдом.
Наиболее значительным исследованием Лазарсфельда в первом — венском институте был проект, посвященный социальным и психологическим последствиям безработицы, который он предпринял по совету друга дома, лидера социал-демократической партии Отто Бауэра. Местом проведения стал городок Мариенталь, основными методами — включенное наблюдение, анализ биографий и различные неискаженные измерения последствий безработицы. Например, исследователи замеряли скорость, с которой ходят люди. Вывод: мужчины ходят медленней, чем женщины, поскольку у них больше свободного времени, которое надо убить. Исследователи, в частности, заметили, что с повышением уровня безработицы снижается распространение газеты социалистической партии, но возрастает тираж газеты, посвященной спорту и развлечениям. Это интерпретировалось как степень ухода от участия в политических делах. В библиотеках упало количество читаемых людьми книг почти наполовину, несмотря на отмену платы за пользование книгами. Этот индикатор интерпретировался как показатель растущей апатии.
В 1933 году П. Лазарсфельд, его первая жена Мария Ягода и Ганс Цейзель выпустили книгу «Мариенталь», содержащую основные выводы по этому проекту и ставшую классической работой в истории социологии благодаря интегративному использованию количественных и качественных наблюдений. Так, супруги Линд в другой классической работе «Средний город в процессе перемен» (1937) постоянно цитируют методы и результаты «Мариенталя». Эта книга была запрещена нацистами с их приходом к Власти, но с 1978 г. она является обязательной для изучения на социологических факультетах австрийских университетов. В 1979 г. группа молодых исследователей провела здесь панельное исследование, использовав методы Лазарсфельда и прибавив к ним новый — видеозапись.
Собственной тематикой Лазарсфельда было сравнительное изучение воздействия на аудиторию радио и прессы. Результаты были опубликованы им в соавторстве с Робертом Мертоном в работе «Массовая коммуникация, популярные вкусы и организованное социальное действие» (1948). В работе проанализированы социальные функции, выполняемые СМИ, отмечается, что они, обладая высоким статусом, утверждают и закрепляют социальные нормы и одновременно вызывают «наркотизирующие дисфункции». В работе делается вывод о том, что воздействие СМИ эффективно по отношению к социальным проблемам, находящимся на периферии общественного внимания, и что СМИ на самом деле не имеют такой степени власти и способности изменять общественное мнение, как это иногда им приписывается. За пятьдесят два года своей активной исследовательской деятельности Лазарсфельд внес значительный вклад в развитие четырех важнейших областей: социальные последствия безработицы, средства массовой коммуникации, поведение избирателей и социология высшего образования. Эти области не были частью заранее составленной программы, но явились результатом исторической случайности. Последствия безработицы в австрийском поселке в начале 30-х годов он стал изучать потому, что Отто Бауэр высмеял его планы об изучении свободного времени; он изучал в конце 30-х годов влияние радио потому, что как иммигрант он нуждался в работе как средстве существования; его исследование президентских выборов 1940 г. выросло из заказанной Министерством сельского хозяйства США оценки влияния радиопрограмм на американских фермеров. Всю жизнь он интересовался университетскими делами, но главное его исследование в области высшего образования — как преподаватели университетов и колледжей США отреагировали на «маккартизм» — было проведено в начале 50-х годов потому, что тогдашний президент Фонда за республику Роберт Хатчинс попросил его об этом.
Теория двухступенчатой волны коммуникации.
Модель двухступенчатой коммуникации была разработана П. Лазарсфельдом, Б. Берельсоном и Г. Годэ при исследовании массовых коммуникаций. Исследования показали, что информация, поставляемая СМИ, усваивается массовой аудиторией не непосредственно и не сразу, а в два этапа. На первом этапе передаваемая информация достигает особойкатегории влиятельных и активных людей — «лидеров мнений» — через формальные каналы коммуникации — СМИ. На втором этапе лидеры передают послание дальше в межличностном общении. Последующие исследования привели к модификации данной теории и созданию концепции многоступенчатого потока информации, так как выяснилось, что «лидеры мнений» имеют в свою очередь собственных «лидеров мнений» и обращаются к ним за информацией
7.
П.А.Сорокин. Работы российского периода, посвященные морфологии и анатомии общества.
Одной из важных социологических проблем, рассматриваемых исследователем в "Социальной аналитике", является структура общества, говоря его терминами, "населения". Он сравнивал общество с куском слюды, который расслаивается на отдельные слои. Так же как в слюде слои часто непрочно соединены друг с другом, в обществе может быть много групп и структур, не связанных между собой, в отличие от конкретного слоя, где существует взаимное тяготение индивидов. Отсюда Сорокин делает вывод, что единого общества быть не может, а есть совокупность конкретных обществ, проживающих на одной территории.
Весьма значимые для социологии проблемы поставлены в "Социальной механике". Среди них доминирующее место занимает анализ социального поведения индивидов в условиях социальных перегруппировок населения (потом Сорокин введет для обозначения этого процесса термин "социальная мобильность"). Социолог говорит о трех типах перегруппировок. Он пишет о перемещениях индивидов из одних групп в другие, о появлении одних — гомогенных (однородных) групп и исчезновении других, об исчезновении целого агрегата и замене его новой группировкой. По существу, это раннее изложение концепции социальной мобильности, окончательно сформулированной им в 1927 г. в книге "Социальная мобильность". Социолог приходит к важному выводу, что никакого социального равенства достичь не удастся в исторически обозримом будущем, поскольку его обеспечение требует уничтожения всех видов социального расслоения, а это невозможно.
Рассуждения социолога о социальных перегруппировках базируются на его различных классификациях строения (структуры) населения. Один из вариантов выглядит так. Существуют: а) элементарное, или простое, коллективное единство (элементарная социальная группа); б) кумулятивное коллективное единство (кумулятивная социальная группа); в) сложный социальный агрегат (население в целом). В одном случае группа образуется на основе одного признака (профессионального, религиозного, полового, возрастного, партийного и др.). В другом — возникают более сложные образования на основе двух и более признаков (класс, сословие, нация и т.д.).
Еще одна классификация, предложенная социологом, включает выделение закрытых, открытых и промежуточных групп. Сорокин называет "закрытыми" группы, членство в которых от человека не зависит, поскольку он рождается и живет с соответствующими признаками (раса, пол, возраст). Далее он выделяет открытые группы, членство в которых определяется волей и желанием человека (партия, ассоциация и др.). Наконец, могут иметь место промежуточные группы, в которых сочетаются свойства закрытых и открытых групп (класс, сословие, вторая семья).
В связи с анализом проблемы типологии социальных групп вызывает интерес трактовка Сорокиным национальности и нации. Он считает, что ее неправомерно рассматривать как элементарную группу, поскольку она характеризуется несколькими признаками сразу. Чаще всего имеется в виду кумуляция трех признаков: языка, территории, государственности. Иногда к ним социолог добавляет религию. Исходя из этого, он считает, что национальности как единого социального элемента нет, стало быть, нет и особого национального вопроса. Реальной же проблемой, по его мнению, является социальное неравенство.
Немаловажное значение для социологии представляет предложенная Сорокиным социально-групповая структура населения "культурно развитых" стран, включающая в себя 13 видов: расовую, половую, возрастную, семейную, государственную, языковую, профессиональную, имущественную, правовую, территориальную, религиозную, партийную, идеологическую. Этот подход Сорокина к социальному структурированию общества лег затем в основу его концепции социальной стратификации и был широко и позитивно воспринят во всем мировом сообществе социологов. Кстати, следует специально отметить, что термины "социальная стратификация" и "социальная мобильность" предложил для использования в социологии и ввел в широкий научный оборот именно российский ученый.
Предпосылки теории социального поведения были сформулированы Сорокиным еще в книге "Преступление и кара, подвиг и награда". Они связаны с проблемами социальной мотивации. Было доказано, что кары и награды (а они рассматриваются как санкции) становятся решающим фактором поведения людей и его трансформации. Одна и та же кара или награда тем сильнее влияет на человека, чем ближе момент ее осуществления, чем больше человек нуждается в награде и страдает от отнимаемого у него карой. В упомянутой книге Сорокин рассматривает большое количество явлений, которые регулируются в обществе с Помощью кар и наград. Эти явления систематизируются социологом в виде трех типов действий: дозволенных, запрещенных, рекомендуемых..
Дозволенные (дозволенно-должные) действия — это поступки, связанные с осуществлением прав и обязанностей, соответствующие, таким образом, представлениям о должном. Запрещенные (недозволенные) действия — это поступки, противоречащие представлениям о должном поведении. Рекомендуемые действия — это поступки, не только не противоречащие представлениям о должном, но и превышающие необходимый минимум "доброго" поведения. Кроме того, эти действия всегда желательны и по своей природе добровольны.
Трем названным типам действий соответствуют три формы реагирования на них. Дозволенные действия воспринимаются как соответствующие норме, отсюда — должная реакция на них. Запрещенные действия (преступления) воспринимаются с чувством вражды, ненависти, желания наказать, отомстить, отсюда в качестве реакции выступает наказание, кара. Рекомендуемые действия (подвиг) воспринимаются с благодарностью, отсюда реакцией выступает награда. Больше всего внимания в книге уделено двум последним действиям и реакциям на них, поскольку именно они определяют динамику социального поведения с учетом принятых в обществе социальных норм.
В российский период творчества Сорокиным разрабатывались проблемы социальной генетики, причем под сильным влиянием идей М.М. Ковалевского и Л.И. Петражицкого. Одна из центральных проблем этого раздела системы социологии — проблема прогресса. Общую тенденцию прогрессивной эволюции социолог видит в понижении стимулирующей роли внешних санкций и усилении влияния внутреннего регулирования поведения личности на основе осознания ею своего долга. Прогрессивным ученый считает общество, в котором возрастает роль знания" усиливается личная ответственность, повышается заинтересованность человека- в общем деле, смягчаются внешние санкции и растет социальная солидарность. Идеалом является создание обществе", в котором не будет преступлений, кар и наград.
Вначале Сорокин верил в возможность быстрого достижения успеха на этом поле деятельности. Молодой социолог полон оптимизма, навеянного Февральской революцией 1917 г., отменившей все сословные, национальные и вероисповедные ограничения; свергнувшей царизм, провозгласившей свободу слова и печати. Ему казалось, что до решения проблемы социального равенства "рукой подать". Основой его он считал равенство людей в труде, базирующееся на свободном выборе формы деятельности в этой сфере каждым человеком. Большое внимание он уделял проблемам новой педагогики, которая сумеет, по его мнению, правильно поставить дело обучения и воспитания, благодаря чему будет достигнуто интеллектуальное равенство людей. В этой связи он утверждал, что идеальной является та система воспитания, при которой нет кар и наград.
Однако такой оптимизм, связанный с реальной возможностью утверждения подобного общества, постепенно покидает ученого. Довольно скоро он начинает понимать, что в основе ожидаемого общества должно лежать социальное равенство, однако в обозримом будущем о нем не может быть и речи при наличии многих линий социального расслоения и неравенства между группами. Само социальное равенство Сорокин трактует уже по-другому — как пропорциональность социальных благ в соответствии с заслугами людей. От достижения такого состояния современное ему общество, по его мнению, находится весьма далеко.
Российский социолог рассматривает социальную эволюцию как процесс замирения, в котором главное место занимает нормативное регулирование. Любое общество, любая социальная группа выступают как "замиренная среда", которая характеризуется наличием определенной организации, норм и шаблонов поведения. Конечно, в группе, как и в обществе в целом, всегда имеются отклонения, инакомыслящие и инакодействующие люди, но чаще всего их подчиняют интересам группы (общества) посредством принуждения, в том числе и с помощью методов насилия.
Сорокина никогда не оставляла равнодушным проблематика этического характера, касавшаяся человеческих страданий (особенно от голода и войны), проявления альтруизма, будущего устройства государства и общества. Его волновали проблемы контраста между бедностью и богатством и пути его преодоления. В основе такого интереса лежал вопрос о возможностях социологии, о том, что она может и должна сделать для совершенствования человеческих отношений.
Определение социологии
Определение социологии Социология представляет науку, которая изучает жизнь и деятельность людей, живущих в обществе себе подобных, и результаты такой совместной деятельности, - таково общее определение социологии. Остановимся на этом определении. Социология изучает жизнь и деятельность людей. Наблюдая свою собственную жизнь и жизнь других людей, мы видим, что она состоит в непрестанной деятельности. Мы постоянно действуем, постоянно что-то делаем. То мы делаем одну работу, то другую; то отдыхаем, то трудимся; временами мы смеемся, временами плачем; временами помогаем и любим кого-нибудь, иногда - враждуем и ненавидим. Каждый человек с момента своего рождения непрестанно действует. Одни из его действий сознательны, другие — бессознательны; одни поступки обдуманы, другие - нет; одни хороши, другие — плохи. Но пока человек живет, - он действует. Только в часы сна напряжение этого действия ослабевает. Только в эти часы шумное море человеческих действий затихает на время. В остальные же часы человеческие поступки похожи на бурный и стремительный водопад, кипящий, бурлящий, бьющий ключом. В таком непрестанном действии и состоит человеческая жизнь. Рядом с этим мы видим и другое. Видим, что поступки или действия разных людей не одинаковы. Крестьянин большую часть жизни трудится над землей; рабочий - на фабрике; чиновник - в канцелярии; купец - в магазине. Одни люди властвуют и правят, другие - подчиняются. Одни богаты, другие - бедны. Одни живут хорошо, ведут себя честно, другие совершают преступления и попадают в тюрьму. Вот и встает вопрос: почему же деятельность людей такова, а не иная? Почему у одних жизнь сложилась .одним образом, у других - иначе? Почему они действуют не одинаково? Вместе с этим мы знаем, что не только отдельные люди, но и целые группы людей, целые народы по своей жизни и истории отличаются друг от друга. Английский народ не похож на русский, оба отличны от японцев и т.д. Характер, образ жизни, религия, язык, нравы, обычаи этих народов отличны друг от друга. Несходны также их история и исторические судьбы. И здесь снова встает тот же вопрос: чем объяснить это различие? Почему жизнь англичан сложилась одним образом, а жизнь китайцев — другим? Социология и ставит своей главной и конечной задачей объяснить жизнь, поведение и судьбу отдельных людей и целых народов. Но ясно, что эта задача очень трудная. Для того, чтобы решить ее, нужно изучить ряд других вопросов, которые связаны с этой главной загадкой. Чтобы уметь считать миллионы, нужно предварительно знать, как складываются, вычитаются, умножаются и делятся единицы, десятки, сотни и тысячи. То же и тут. Какими условиями определяется поведение людей.
Чтобы понять жизнь и деятельность людей, судьбу как отдельных лиц, так и целых народов, нужно знать те условия, от которых зависит эта судьба. Каковы же эти условия?
Зависимость поведения человека от его строения
Первым из них является строение человеческого организма и его свойства. Движения всякой машины ближайшим образом определяются ее строением. Самовар не может вертеться и шить материю, швейная машина не может кипятить воду, а веялка не может тащить вагоны, потому что так действовать не позволяет им их строение. Корова не может быстро бегать, свинья - доить молоко, а лошадь - летать, потому что их строение не дает им возможности так поступать. То же применимо и к человеку. Его действия и поступки ближайшим образом зависят от его анатомического строения. Если бы у нас было иное устройство гортани, мы не могли бы говорить; если бы у нас не было таких членов, как руки и ноги, мы не могли бы двигаться и делать тысячи постоянно выполняемых нами тонких и сложных движений. Если бы у нас не было мозга или развитой нервной системы, мы не могли бы мыслить. Если бы наши пищеварительные и питательные органы были устроены так, как они устроены у коровы или овцы, тогда мы могли бы питаться травой и пастись подобно этим животным. Но они устроены у нас иначе, потому и пища иная и добывать ее мы должны иным способом. Значит, чтобы понять поведение людей и характер их деятельности, мы должны знать анатомическое строение человеческого организма и его жизненные (физиологические) свойства. Эти знания дают нам науки о жизни, в частности анатомия и физиология человека. Социология берет их готовыми у этих наук. Отсюда следует, что успешное усвоение социологии требует хотя бы элементарного знакомства с этими науками. Если бы, однако, поведение или деятельность людей зависели и объяснялись только их анатомическим и физиологическим строением, то дело обстояло бы сравнительно просто. Тогда не нужно было бы и социологии. Анатомия и физиология человека тогда нам объяснили бы все. Но дело обстоит иначе. Ежедневное наблюдение показывает нам, что люди, имеющие более или менее одинаковое строение, ведут себя самым различным образом. Бедняк по своему строению не больше отличается от богача, чем от бедняка. Между тем, жизнь и деятельность богача и бедняка совершенно различны. Один и тот же человек, не меняющий своего строения, иногда в течение одного, двух месяцев или годов резко меняет свое поведение. Сегодня он - царь, окружен почетом, все перед ним преклоняются; все ему подвластно. Завтра - он ничто, пленник, который не может выйти из своего дома, которого никто не слушает, которым командует первый приставленный к нему солдат или стражник. Такова, например, была судьба Николая Романова. И обратно. Сколько мы видим людей, которые в короткое время из бедняков делались богачами, из незаметных лиц - героями, из подчиненных - начальством. Вместе с изменением их положения изменялась и вся их жизнь, все их поведение. Их анатомо-физиологическое строение оставалось тем же самым, а поведение и жизнь коренным образом менялись. Такие факты наблюдает и знает каждый. Значит строение человека не объясняет еще его поведения. В чем же дело? Зависимость поведения человека от других людей Дело в том, что жизнь и судьба человека зависит не только от него самого, но и от других людей. В поговорке: "каждый человек кузнец своего счастья" - только половина истины, а не вся. Если бы люди жили уединенно, одиночками, если бы они не встречались друг с другом, если бы они похожи были на Робинзона, попавшего на необитаемый остров, тогда, быть может, дело и обстояло бы так. Но мы знаем, что люди жили и живут не уединенно, а в среде других людей. Дома их построены рядом. Скопления таких домов образуют деревни, села, города. В последних на небольшом клочке земли бок о бок живут целые тысячи, сотни тысяч и миллионы людей. Иными словами, люди живут не уединенно, а в обществе себе подобных, ведут они не одиночную, а общественную жизнь. Постоянно встречаются друг с другом, разговаривают, совместно работают. Совместно веселятся или горюют, борются или помогают друг другу и т.д. При такой общественной жизни поведение и деятельность человека зависят не только от него самого, но и от других людей. Мы влияем на жизнь и судьбу других людей, и другие люди влияют на нас самих. Не все зависит от нашей воли и желаний, но многое зависит и от воли других. Часто мы ставим себе определенную цель и думаем ее достигнуть, но вмешиваются люди, встают "поперек нашей дороги", препятствуют нам, и наша цель оказывается неосуществленной. Иногда бывает и наоборот: то, что не под силу нам одним, оказывается возможным и осуществимым благодаря помощи других людей. Один крестьянин не может купить много товару и не может бороться с купцом, но много крестьян, соединившись в одно кооперативное общество, эту задачу решают успешно. Один человек не может построить громадный дворец, но много людей совместными силами строят громаднейшие дворцы, огромные города, прорывают туннели, засыпают реки и т.д. Но влияние людей друг на друга такими фактами не исчерпывается. Оно гораздо больше и глубже. Поясним, в чем дело. Каждый человек, с момента своего рождения, оказывается в среде других людей. С этого же момента начинается их влияние на каждого из родившихся. Вольно или невольно, сознательно или бессознательно, они начинают формировать вновь появившегося человека по своему образу и подобию. Каковы будут окружающие ребенка люди, таковым становится и он сам. Язык, на котором будет говорить этот ребенок, будет языком тех, кто его окружает. Родившийся в среде русско-говорящих людей, будет говорить по-русски, в среде немепко-говорящих — по-немецки. Религия, которую он будет исповедовать, будет религией тех, кто его окружает. Дети православных становятся обычно православными, католиков - католиками, евреев евреями. Взгляды и убеждения ребенка определяются опять-таки взглядами и убеждениями окружающих людей. Он будет считать злом то, что считают злом его окружающие, добром - то, что называют добром последние. Его одежда, его манеры, образ жизни, занятия, нравы, привычки будут такими, какими привьют их ему окружающие. Манеры "барчука" - одни, крестьянского ребенка - другие. Занятия первого одни, второго — другие. От окружающих же людей будет зависеть и дальнейшее образование характера и склонностей молодого мальчика. Его семья определяет, чем он будет: поступить ли в школу или нет. Если поступить, то в какую. Школа, учитель и сотоварищи ребенка продолжают дальнейшую его переделку. От первых в значительной мере будет зависеть: что будет знать ребенок, какие черты в нем будут воспитываться, к чему он будет готовиться. Дети англичан получают в школе одно образование и воспитание, дети турок - другое. Дети русских - третье, дети дикарей не учатся совсем и выходят невеждами. Если различна эта среда людей, окружающих и влияющих на ребенка, - различными будут и дети, различные люди из них и вырастут. И действительно, англичанин не похож на русского, тот и другой на индуса, все три - на самоеда. И язык, и религия, и нравы, и вкусы, и понятия о добре и зле, и весь образ жизни у них - несходны. Какова окружающая ребенка, а затем взрослого, человеческая среда, такими выходят и люди. Если она хороша, то хорошим становится и выпускаемый ею на житейский базар человеческий товар. Если она похуже - неважными оказываются и бывшие у нее в переделке люди. Сказанное объясняет, что влияние других людей на нас огромное, решающее. Мы мыслим, чувствуем, живем, веруем, любим, ненавидим, делаем то и так, что и как "привили" нам окружающие и окружавшие нас сочеловеки. Каждый родившийся (кроме детей совершенно больных, калек, уродов и т.п.) похож на мягкий воск; что из этого воска получится - "богу ли свечка или черту кочерга", православный или язычник, земледелец-хлебороб или чиновник, монархист или социалист, образованный или невежда, "работяга" или "лентяй", русский или американец, честный или преступник, - все это зависит от того, каковы были окружающие человека люди, какие убеждения, верования, нравы они ему "привили", как его "формировали", как воспитывали. Дети преступников обычно становятся преступниками, русских - русскими, магометан - магометанами, крестьян — хлеборобами, чиновников - чиновниками, социалистов - социалистами, монархистов — монархистами и т.п. Таким образом, жизнь и деятельность каждого человека, весь его характер, весь его умственно-нравственный уклад коренным образом определяется другими людьми, тем "обществом", которое его окружало и окружает (семья, товарищи, школа, земляки и все люди, с которыми он встречался в жизни) с первых дней рождения и в течение всей жизни. Теперь легко понять, почему одно анатомо-физиологическое строение человека не может объяснить жизни и деятельности людей. Мы видим, что наряду с этим строением приходится учитывать и характер того общества, в среде которого родится и живет человек. Таково второе основное условие, необходимое для понимания поведения и жизни как отдельных лиц, так и целых народов. Вот это-то условие и является важнейшим предметом изучения социологии. Жизнь и деятельность любого человека мы не можем понять, не изучивши жизни и деятельности других людей, их взаимных влияний, их взаимоотношений, их совместного существования. Вот почему социологии приходится изучать жизнь и деятельность не отдельного, одиноко живущего человека, а жизнь и деятельность многих совместно живущих и совместно действующих людей, оказывающих взаимное влияние на поведение друг друга. Без такого изучения мы не можем понять ни жизни, ни поведения отдельного человека.
Явление, когда люди взаимно влияют на поведение друг друга, будем для краткости называть взаимодействием (взаимным действием). Так, если А ударил В и, благодаря этому, В ответил ударом, то между А и В, согласно сказанному, существует взаимодействие: без влияния (поступка) Л, В не ударил бы его. Если А готов дать В фунт сахару за то, что В дает ему пять фунтов муки, то мы опять скажем: А и В взаимодействуют; их поступки взаимно обусловлены. Если при виде своего ребенка мать бросилась к нему и стала его целовать, мы опять должны сказать, что ребенок и мать находятся в состоянии взаимодействия, ибо не будь ребенка, - мать не стала бы целовать и ласкать его. И обратно: Понятие взаимодействия и общества между мной, напр., и китайцем, живущим в Китае, нет такого взаимодействия: он не влияет на мои поступки, я не влияю на него. Отсюда ясно, что взаимодействие людей существует всюду, где один или одни люди влияют на поведение других или другого; и обратно, взаимодействия нет, если поведение одного или одних людей не зависит от поведения другого или других. Всякая совокупность совместно живущих людей, которые влияют друг на друга или взаимодействуют друг с другом, называется социальной группой или обществом. Их совместная жизнь называется общественной жизнью. Их взаимные отношения - общественными или социальными отношениями. И общество, и общественную жизнь, и общественные отношения будем называть социальными явлениями. Изучение общества (населения), общественной жизни и общественных отношений и является фактически главной задачей социологии. Изучив их, мы многое поймем в жизни и поведении каждого отдельного человека. И обратно, не зная ничего об обществе и общественной жизни, мы не сумеем объяснить и жизнь отдельных людей. Теперь легко понять и само слово "социология". Оно означает в переводе на наш язык - "слово об обществе". В нашей науке человек рассматривается не как уединенно живущее существо, а как "сообщественник", socius4*, живущий в среде других людей и взаимодействующий с ними, т.е. влияющий на поведение других и, в свою очередь, обусловливаемый в своем поведении другими людьми. Таким образом мы пришли к следующим выводам. Конечной и главной задачей социологии является понимание поведения и деятельности людей. Но так как люди живут не уединенно, так как поведение и судьба любого человека зависит от поведения других людей, то для решения этой задачи нужно изучить совместную жизнь многих людей, нужно понять общество, общественные отношения и общественную жизнь: нужно рассматривать человека не как одинокое существо, а как " сообщественника", socius'a, живущего в среде себе подобных.
Сорокин об организации общества: индивиды-группы-страты.
Первым необходимым элементом социальной деятельности являются живые человеческие индивиды–субъекты деятельности, с которыми связаны её пусковые и регуляторные механизмы. Несмотря на то, что человек представляет целый и целостный “микрокосмос”, он является элементом деятельности, т.е. её простейшим, далее неделимым образованием.
Вторым элементом является объект социальной деятельности. Объекты социальной деятельности можно разделить на два класса:
Вещи, “орудия” с помощью которых люди оказывают воздействие на окружающий их реальный мир. С помощью этих вещей люди осуществляют адаптивную деятельность, приспосабливаясь к среде путем её вещественно–энергетической переделки, целенаправленного преобразования.
Символы, знаки (книги, картины, иконы, и др.). Эти предметы служат не непосредственному изменению реальности, а изменению наших представлений о мире. Они воздействуют на наше сознание, стремления, цели, и через них, опосредованно, воздействуют на отличную от сознания реальность. Функция символов: воплощать в себе особым образом закодированную информацию, служить средством её хранения, накопления, передачи, позволяющей людям согласовывать цели своей коллективной деятельности. Необходимость символов связана с тем, что любые идеи, образы, чувства, призванные повлиять на поведение людей, могут сделать это, и лишь в том случае обретут некоторую “телесную оболочку” становясь материальными проводниками, “перевозчиками смысла”.
Если вещи служат прямым орудием адаптации, то символы обеспечивают целенаправленность человеческой деятельности.

“Интегральная концепция” П. Сорокина исходит из идеи безусловного сознания в общественной жизни людей, характер социальных предметов и процессов определяется идеями, целями, а не вещественно–энергетическими средствами, используемыми для их воплощения. Духовное всецело определяет материальное в жизни общества.
В учении о строении общества П.А.Сорокин пишет: “Прежде чем перейти к описанию строения населения или общества в том сложном виде, в каком они существуют, мы должны изучить их в простейшем виде”. Он показывает, что простейшей моделью социального явления служит взаимодействие двух индивидов. Во всяком явлении взаимодействия имеются три элемента: индивиды, их акты, действия; проводники (световые, звуковые, тепловые, предметные, химические и т.д.). Главными формами взаимодействия социальных групп являются
1)взаимодействия двух, одного и многих, многих и многих
2)взаимодействие сходных и несходных лиц
взаимодействие одностороннее и двухстороннее, длительное и мгновенное, организованное и неорганизованное, солидарное и антагонистическое, сознательное и бессознательное
Всё человеческое население распадается на ряд более тесных групп, образующихся из взаимодействия одного с одним, одного со многими и одной группы с другой. Какую бы социальную группу мы не взяли - будет ли ею семья или класс, или государство, или религиозная секта, или партия - всё это представляет собой взаимодействие двух или одного со многими или многих людей со многими. Всё бесконечное море человеческого общения составляется из процессов взаимодействия, односторонних и двусторонних, временных и длительных, организованных и неорганизованных, солидарных и антагонистических, сознательных и бессознательных, чувственно-эмоциональных и волевых.
“Весь сложнейший мир общественной жизни людей распадается на очерченные процессы взаимодействия”. “Группа взаимодействующих людей представляет своего рода коллективное целое или коллективное единство... Тесная причинная взаимозависимость их поведения и дает основание рассматривать взаимодействующих лиц как коллективное целое, как одно существо, составленное из многих лиц. Подобно тому, как кислород и водород, взаимодействуя друг с другом, образуют воду, резко отличающуюся от простой суммы изолированных кислорода и водорода, так и совокупность взаимодействующих людей резко отлична от простой их суммы.” “Всякую группу людей, взаимодействующих друг с другом, мы будем называть коллективным единством или короче коллективом”.
Затем подробно рассматривает условия возникновения, сохранения и распада коллективных единств. Условия их возникновения, существования и распада он делит на три группы:
1. космические или физико-химические
2. биологические
3. социально-психические
Далее указывает два основных способа (сознательный и бессознательный) установления организации группы и обычные приемы поддержания и сохранения этой организации. “Общественная жизнь представляет не что иное, как непрерывный поток возникающих, длящихся и исчезающих коллективных единств”. “Коллективное единство перестает существовать только тогда, когда прекращается взаимодействие между частью или всеми его членами”. “Прекращение коллективного единства ведет к исчезновению его организации. Но падение одной организации и замена её другой вовсе ещё не означают исчезновения и распада коллективного единства, а означают только, что форма, порядок и организация последнего изменилась!”
Затем рассматривает строение и расслоение населения. Он подчеркивает, что “население расслаивается на ряд групп, что оно составлено из множества коллективных единств, а не представляет чего-то цельного, единого, все члены которого одинаково связаны друг с другом”. Из множества групп , на которые распадается население, важнейшими простыми расслоениями последнего будут расслоения:
а) по семейной принадлежности
б) по государственной
в) по расовой
д) по профессиональной
е) по имущественной
ж) по религиозной
з) по объемно-правовой
и) по партийной
Из сочетаний простых расслоений (группировок) образуются сложные группы. Сложные группы бывают:
а) типичные и не типичные для данного населения.
Из типичных важны класс и национальность.
б) внутренне антагонистические и внутренне солидарные. “Судьба любого населения и ход истории определяются не борьбой или согласованием, каких либо одних групп, а взаимоотношениями всех указанных простых и сложных социальных коллективов”. Для объяснения исторических процессов “приходится учитывать взаимоотношения и поведение всех этих групп”.
Далее делает переход к изучению деятельности людей, факторов поведения и механики общественных процессов. “Все силы, влияющие на поведение людей и определяющие собой характер их совместной жизни, могут быть сведены к трем основным разрядам:
1.разряду космических (физико-химических) сил
2.разряду сил биологических
3.разряду сил социально-психических
К разряду космических сил П.А. относит простые раздражители, такие как свет, звук, температура, цвет, влажность и т.д., и сложные, такие как климат данного места, состав и характер почвы, смена времен года, чередование дня и ночи.
К главным биологическим силам (раздражителям) относит следующие:
1.потребность питания
2.потребность половая
3.потребность индивидуальной самозащиты
4.потребность групповой самозащиты
5.бессознательное подражание
6.потребность движения
другие физиологические потребности (сна, покоя, игры и т.п.)
Социально-психические факторы делятся на простые и сложные. К простым он относит:
1.идеи
2.чувства-эмоции
волнения людей
К сложным относятся:
1.материальная культура, окружающая человека
2.духовная атмосфера социальной среды
3.Общественно-политическая организация групп, явления власти, богатство и деньги, разделение труда и т.д.
В своей работе П.А. подробно показывает степень влияния всех этих факторов на поведение человека и общественную жизнь. “Человек, как и все явления мира не изъят из-под действия законов необходимости, что “абсолютной свободы воли” нет... Зависимость от внешних (космических и биологических) условий воспринимается и переживается нами как отсутствие свободы... Зависимость нашего поведения от социально - психических раздражителей воспринимается нами как отсутствие зависимости, как “свобода воли” и поведения!... Рост влияния социально-психических факторов “на наше поведение будет восприниматься нами как рост нашей свободы, как уменьшение нашей зависимости от условий, посторонних и чуждых нашему “я”. Вот почему социально-психологические раздражители поведения кажутся нам освобождающими. Этот субъективно-неизбежный факт и послужил поводом для появлений теорий “свободной воли”. Единственный смысл, который может иметь “свободная воля”, означает объективно уменьшение зависимости нашего поведения от условий космических и биологических и рост нашей зависимости от условий социально-психических, - зависимости, субъективно переживаемой нами как свобода, как отсутствие стеснения... С ходом истории влияние социально-психических сил растет, поэтому растет и наша “свобода”. Так кажется нам субъективно и таково единственно приемлемое понятие “свободы воли”. “Каждый из нас, рождаясь в свет, несет с собой лишь биологическую организацию, биологические импульсы и ряд наследственных черт. Багаж - небольшой, фигура - неопределенная. Что выйдет из нее, гений или невежда...- это определяется совокупностью воздействий социальной среды. Она формирует человека как социально-психическую индивидуальность”.
Сорокин выдвигает два уровня организации: уровень культурных систем (совокупность взаимосвязанных идей) и уровень собственно социальных систем (совокупность взаимосвязанных людей). Причем второй уровень всецело подчиняется первому. Сорокин различает отношения субординации между культурным и материальным уровнями и отношения координации (взаимовлияния) между важнейшими составляющими Культуры.
В истории существуют, попеременно сменяя два основных вида мировоззрения – “духовный” и “чувственный”, каждому из которых соответствует свой тип общественного устройства (“социокультурная суперсистема”).
Люди, которые живут в обществах первого типа, исходят из убеждения в том, что окружающая их реальность имеет духовное, божественное происхождение. Соответственно смысл своего существования они видят в подчинении божественному абсолюту, с презрением или снисхождением относясь ко всему мирскому, переходящему. Поэтому материальное производство в таких обществах имеет по существу поддерживающий характер. Основным объектом воздействия считается не природа, а человеческая душа, которая должна стремиться к слиянию с Богом.
Прямо противоположные характеристики свойственны обществам второго типа, основанным на материалистическом восприятии мира, акцентирующие чувственные стороны человеческого бытия. Наконец Сорокин допускает существование промежуточного типа социокультурной организации идеалистического, стремящегося гармонично сочетать принципы духовности и чувственности “даже общая культура индивида (как самого маленького культурного ареала) не является полностью интегрированной в одну причинно-смысловую систему. Она представляет собой сосуществование множества культурных систем частично гармонирующих друг с другом, частично нейтральных и частично противоположенных друг другу - плюс, сосуществование множества скоплений, каким-то образом попавших в общую культуру индивида и осевших там”
Историческое развитие человечества автор книги “Социологические теории современности”рассматривает как постоянную циклическую смену “социокультурных суперсистем”. Причину постоянной смены систем Сорокин видит в неспособности найти идеальный баланс ценностей существования, который мог бы обеспечить гармоничное развитие общества.
Социальные перегруппировки в обществе.
Весьма значимые для социологии проблемы поставлены в "Социальной механике". Среди них доминирующее место занимает анализ социального поведения индивидов в условиях социальных перегруппировок населения (потом Сорокин введет для обозначения этого процесса термин "социальная мобильность"). Социолог говорит о трех типах перегруппировок. Он пишет о перемещениях индивидов из одних групп в другие, о появлении одних — гомогенных (однородных) групп и исчезновении других, об исчезновении целого агрегата и замене его новой группировкой. По существу, это раннее изложение концепции социальной мобильности, окончательно сформулированной им в 1927 г. в книге "Социальная мобильность". Социолог приходит к важному выводу, что никакого социального равенства достичь не удастся в исторически обозримом будущем, поскольку его обеспечение требует уничтожения всех видов социального расслоения, а это невозможно.
Рассуждения социолога о социальных перегруппировках базируются на его различных классификациях строения (структуры) населения. Один из вариантов выглядит так. Существуют: а) элементарное, или простое, коллективное единство (элементарная социальная группа); б) кумулятивное коллективное единство (кумулятивная социальная группа); в) сложный социальный агрегат (население в целом). В одном случае группа образуется на основе одного признака (профессионального, религиозного, полового, возрастного, партийного и др.). В другом — возникают более сложные образования на основе двух и более признаков (класс, сословие, нация и т.д.).
Еще одна классификация, предложенная социологом, включает выделение закрытых, открытых и промежуточных групп. Сорокин называет "закрытыми" группы, членство в которых от человека не зависит, поскольку он рождается и живет с соответствующими признаками (раса, пол, возраст). Далее он выделяет открытые группы, членство в которых определяется волей и желанием человека (партия, ассоциация и др.). Наконец, могут иметь место промежуточные группы, в которых сочетаются свойства закрытых и открытых групп (класс, сословие, вторая семья).
8.
Зарубежные исследования Сорокина по социальной стратификации и мобильности.
Питирим Сорокин в числе первых социологов вводит понятие "социального пространства". Под социальным пространством он понимает своего рода вселенную, которая состоит из людей, населяющих планету Земля. В этой вселенной каждый индивид занимает определенное место, положение которого измеряется в горизонтальном и вертикальном направлении. Такое положение человека, Сорокин называет социальным положением человека. Выделяется также движение каждого человека в данном пространстве, которое в свою очередь подразделяется на горизонтальную и вертикальную мобильность. Движение вверх принято называть социальным восхождением, а движение вниз наоборот социальным спуском. Определив данные положения, Сорокин приступает к определению социальной стратификации. С его точки зрения, социальная стратификация – это разделение какой-либо совокупности населения по классовой принадлежности, причем такое разделение происходит в иерархическом порядке. Сорокин отмечает существование высших и низших слоев. Основу стратификации по Сорокину составляет различие в распределении привилегий и прав. Также Сорокин твердо убежден в том, что не стратифицированного общества не может существовать. Он использует многомерную стратификацию, разделяющуюся на три основных направления – это экономическое, политическое и профессиональное. Отсюда следует, что в обществе надо различать людей по таким критериям, как уровень дохода, по степени влияния индивида на членов общества, а также по критерию успешности исполнения той или иной социальной роли. Выше были описаны только базисные характеристики стратификации. Сорокин выделяет также и дополнительные или не базисные характеристики. К основным таким характеристикам относятся: 1.Наличие или отсутствие семь у индивида. 2.Принадлежность индивида к какому-либо государству. 3.Расовая принадлежность 4.Владение той или иной профессией 5.Владение или не владение имуществом 6.Причисление себя к определенному вероисповеданию 7.Партийная принадлежность Из этих простых с точки зрения Сорокина расслоений рождаются более сложные группы. Они делятся на типичные и не типичные, и на антагонистические или солидарные внутри. Сорокин согласен с Максом Вебером в том, что индивид, занимающий определенную позицию в экономической конструкции общества, будет иметь такую позицию и в профессиональном и политическом направлении. Группа людей может падать или наоборот подниматься в экономической сфере общества. Также, экономическая стратификация может сокращать свой рост внутри определенной группы. Это два основных типа изменений в экономическом статусе группы. Сорокин считает, что если экономическое положение индивидов в обществе неодинаково, а также, если среди них есть имущие и неимущие, то экономическое расслоение в обществе будет выражаться в степени доходов, различии уровня жизни. Политическая стратификация по Сорокину различается своей постоянностью и универсальностью. В данной стратификации огромную роль играет размер “политического организма”. Профессиональная стратификация выделяет разделение общества на группировки людей по их занятиям и роду деятельности. Одни профессии всегда считаются более престижными, чем другие. В обществе не существует неизменной тенденции к всеобщему равенству или, наоборот, дифференциации. На вершине социальной пирамиды находятся наиболее привилегированные слои, а в основании, наоборот. Когда пирамида слишком вытягивается, вверх, то с помощью революций и переворотов ее вершину обрезают, и получается трапеция. Но затем снова появляются силы, которые заставляют пирамиду расти. Эти процессы в обществе повторяются циклически.
Под социальной мобильностью понимается любой переход индивида или социальной группы из одной социальной позиции в другую. Существует два основных типа социальной мобильности: горизонтальная и вертикальная. Под горизонтальной социальной мобильностью подразумевается переход индивида из одной социальной группы в другую, расположенную на одном и том же уровне. Перемещение некоего индивида из баптистской в методистскую религиозную группу, из одного гражданства в другое, из одной семьи в другую, с одной фабрики на другую, при сохранении своего профессионального статуса, — все это примеры горизонтальной социальной мобильности. Во всех этих случаях "перемещение" может происходить без каких-либо заметных изменений социального положения индивида в вертикальном направлении. Под вертикальной социальной мобильностью подразумеваются те отношения, которые возникают при перемещении индивида из одного социального пласта в другой. В зависимости от направления перемещения существует два типа вертикальной мобильности: восходящая и нисходящая. В соответствии с этим есть нисходящие и восходящие течения экономической, политической и профессиональной мобильности. Восходящие течения существуют в двух формах: проникновение индивида из нижнего пласта в более высокий пласт; или создание такими индивидами новой группы и проникновение всей группы в более высокий пласт на уровень с уже существующими группами этого пласта. Соответственно и нисходящие течения также имеют две формы: первая заключается в падении индивида с более высокой социальной позиции на более низкую, не разрушая при этом исходной группы, к которой он принадлежал; другая форма проявляется в деградации социальной группы в целом, в понижении ее ранга на фоне других групп или в разрушении ее социального единства. В первом случае "падение" напоминает нам человека, упавшего с корабля, во втором — погружение в воду самого судна со всеми пассажирами на борту или крушение корабля.
Случаи индивидуального проникновения в более высокие пласты или падения с высокого социального уровня на низкий привычны и понятны. Они не нуждаются в объяснении. Вторую форму социальною восхождения, опускания, подъема и падения групп следует рассмотреть подробнее.
Следующие исторические примеры служат в качестве иллюстраций. Историки кастового общества Индии сообщают, что каста брахманов не всегда находилась в позиции неоспоримого превосходства, которую она занимает последние два тысячелетия. В далеком прошлом касты воинов, правителей и кшатриев не располагались ниже брахманов, они стали высшей кастой только после долгой борьбы. Если эта гипотеза верна, то продвижение ранга касты брахманов через все другие этажи является примером второго типа социального восхождения. Возвысилась вся группа в целом. До принятия христианства Константином статусы христианского епископа или христианского служителя культа были невысокими среди других социальных рангов Римской империи. В последующие несколько веков социальная позиция и ранг христианской церкви поднялись. Вследствие этого возвышения представители духовенства также поднялись до самых высоких страт средневекового общества. И наоборот, падение авторитета христианской церкви в последние два столетия привело к понижению социальных рангов высшего духовенства среди прочих рангов современного общества. Престиж папы или кардинала еще высок, но он, несомненно, ниже, чем был в средние века. Занимать высокое положение при дворе Романовых или Габсбургов до революции означало иметь самый высокий социальный ранг. "Падение" династий привело к "социальному падению" связанных с ними рангов. Большевики в России до революции не имели какого-либо признанного высокого положения. Во время революции эта группа преодолела огромную социальную дистанцию и заняла самое высокое положение в русском обществе. В результате все ее члены были подняты до статуса, занимаемого ранее царской аристократией. Подобные явления наблюдаются и в экономической стратификации. Так, до наступлений эры "нефти" или "автомобиля" быть известным промышленником в этих областях не означало быть промышленным и финансовым магнатом. Широкое распространение отраслей сделало их самыми важными промышленными сферами. Соответственно, быть ведущим промышленником — нефтяником или автомобилистом — значит быть одним из самых влиятельных лидеров промышленности и финансов.
9.
Изучение П.А.Сорокиным социокультурной динамики.
Сдвиг в изучении "что" социокультурных изменений.
1. XIX век. Наши сегодняшние представления о социокультурной динамике значительно отличаются от представлений, бытовавших в XVIII и XIX веках. Мы до сих пор пользуемся термином О. Конта "социальная динамика", но подразумеваем под этим нечто отличное от того, что имели в виду Конт и представители общественных и гуманитарных наук в XIX веке. В социологии, общественных и гуманитарных науках XX века по сравнению с общественными и гуманитарными науками двух предшествующих столетий произошел значительный сдвиг в изучении "что", "как" и "почему" социокультурных изменений и их единообразия.
Социокультурное изменение представляет собой сложный многоплановый процесс. Оно имеет множество различных аспектов, каждый из которых может стать самостоятельным предметом исследования социальной динамики, и внимание исследователей может быть сосредоточено то на одном, то на другом его аспекте. Аспекты социокультурного изменения, находящиеся в центре внимания сегодня, уже не те, что интенсивно изучались в XVIII и XIX веках. Общественно-научная мысль XVIII и XIX веков была занята большей частью изучением разнообразных линейных тенденций развития, разворачивающихся во времени и в пространстве. Она оперировала главным образом понятием человечества вообще и стремилась отыскать "динамические законы эволюции и прогресса", определяющие магистральное направление человеческой истории. Сравнительно мало внимания уделялось социокультурным процессам, повторяющимся в пространстве (в разных обществах), во времени или в пространстве и во времени. В противоположность интересу, доминировавшему в XVIII и XIX веках, главный интерес философии общественных и гуманитарных дисциплин в XX веке сместился в сторону изучения социокультурных процессов и связей, остающихся неизменными везде и всегда или повторяющихся во времени и пространстве или во времени и в пространстве ритмов флуктуаций, осцилляций, "циклов" и их периодичности. Таково главное отличие в изучении "что" социокуль-турного изменен в XX веке по сравнению с предыдущими двумя столетиями. Попытаемся кратко прокомментировать этот сдвиг.
В XVIII и XIX веках подавляющее большинство ученых, философов, представителей общественных и гуманитарных наук твердо верили в существование вечных линейных тенденций изменения социокультурных явлений. Основное содержание исторического процесса заключалось для них в развертывании и все более полной реализации этой "тенденции прогресса и эволюции", стабильной "исторической тенденции" и "закона социокультурного развития". Одни изображали эти тенденции в виде прямой линии, другие - в виде "спирали", третьи - в виде волнообразной линии разветвления с небольшими временными возвращениями в исходное положение. Это все лишь разновидности концепции поступательного развития как основы социокультурного процесса (*). Поэтому главной целью и главной заботой естествоиспытателей, философов, представителей общественных и гуманитарных наук в эти столетия были отыскание и описание этих "вечных законов прогресса и эволюции" и разработка основных стадий, или фаз, которые проходит этот процесс, все более полно реализуясь во времени. На отыскании, описании и подтверждении существования тенденций и соответствующих им стадий были сосредоточены усилия биологии и социологии, философии, истории, социальной философии и других общественных и гуманитарных наук XIX века. Хотя, например, в истории эти тенденции занимают сравнительно немного места, в самом изложении исторических событий, однако, они служат как бы путеводной звездой, принципом обоснования при упорядочении и интерпретации конкретного фактического материала. В этом смысле вся общественная мысль XVIII и XIX веков отмечена верой в линейные законы эволюции и прогресса.
(* О четырех разновидностях линейных концепций социокультурного изменения см. мою книгу: Social and Cultural Dynamics. N. Y., 1937. Vol. I. Chap. 4.*)
В физико-химических науках эта вера выразилась в появлении и быстром утверждении принципа энтропии Карно-Клаузиуса как вечного и необратимого направления изменения в любой термодинамической системе (*), включая Вселенную.
(* Об энтропии см.: Clausius R. Le second principe Fondamental de la theorie mecaniqu de chaleur // Revue des cours scientifique. Paris, 1868. P. 158; Duhem P. L'evolution de la mecanique. Paris, 1902; Poincare H. Thermodynamique. Paris, 1892. *)
В биологии господство этой точки зрения проявилось в открытии и всеобщем понятии "закона эволюции", почти единодушно толкуемого как линейная тенденция в прямолинейной, спиралевидной, разветвляющейся и других разновидностях прогрессивного нарастания дифференциации и интеграции; перехода от простого к сложному, от "низшего к высшему", от "менее совершенного к более совершенному", "от амебы к человеку", от рефлексов и инстинктов к рассудку и разуму, от отдельного индивида к семье, племени, современному государству; и также в убеждении, что несмотря на узколобых и реакционных политиков, не мы, так наши потомки увидят весь человеческий род объединенным в "Сообщество наций", "Всемирную федерацию". "Весь ход эволюции характеризуется непрерывным исчезновением менее приспособленных и выживанием более приспособленных ... устранением антисоциального и ростом специализации и кооперации" (*). Линейная интерпретация биологической и социальной эволюции была до сих пор и остается (пусть и не столь явной сегодня) главной догмой биологии.
(* Conklin P. The Direction of Human Evolution. N. Y. 1925. P. 15, 17, 75, 78. Теория биосоциальной эволюции Конклина вполне типична для концепции биологической эволюции, преобладавшей в XIX и частично в XX веке. Так же линейно, но, правда, не столь антропоморфно биологическая эволюция понималась и рядовыми биологами XIX века. Согласуются с таким пониманием и формулы эволюции Милн-Эдвардса, К. фон Баэра, Герберта Спенсера и Э. Геккеля. Близки к ним и теории биологической эволюции Дж. А. Томпсона, Дж. С. Хаксли, С. Л. Моргана, сэра А. С. Вудворда и даже многих биологов XX века. Они не только являются линейными, но и отождествляют эволюцию с прогрессом. Ср.: Haeckel E. Prinzipen der generellen Morphologie. Tuebingen, 1906; Smuts J. С. Holism and Evolution. N. Y., 1925; и материалы двух симпозиумов по эволюции: Creation by Evolution. N. Y., 1928 и Evolution in the Light of Modern Knowledge. N. Y., 1925. *)
То же самое справедливо в отношении концепции социокультурного изменения, господство-вавшего в философии, социальной философии, философии истории XVIII и XIX веков. Типичны в этом смысле концепции Гердера, Фихте, Канта и Гегеля. И Гердер и Кант видели главную тенденцию исторического процесса в прогрессивном сокращении насилия и войн, стабильном расширении сферы мира и росте справедливости, разума и нравственности (*). Для Фихте человеческая история в целом представляет собой последовательность 5 стадий - все более полную реализацию свободы, истины, справедливости и красоты. По Гегелю, основное направление исторического процесса заключается в прогрессирующем росте свободы: от свободы для никого на заре человеческой истории, через стадии свободы для одного, свободы для некоторых и кончая свободой для всех (**).
(* Herder I. Outlines of a Philosophy of the History of Man. London, 1803; Kant I. The Idea of a Universal History on a Cosmo-Political Plan. Hanover, 1927. *)
(** Fichte I. Characteristics of the Present Age. 1804; Hegel G. Philosophy of History. New York; London, 1900. **)
Для социологии и социальной философии XIX века показательны общие теории социальной динамики Тюрго, Кондорсе, Бурдена, Сен-Симона, Конта и теория эволюции Герберта Спенсера. Для Конта весь исторический процесс есть последовательный переход человеческого мышления, культуры и общества от теологической стадии к метафизической и затем к позитивной. Поэтому "социальная динамика" Конта вряд ли может иметь дело с какими-либо повторяющимися социокультурными процессами, она целиком посвящена выведению и подтверждению его "закона трех стадий". "Социальная динамика" Спенсера представляет собой простое приложение его формулы эволюции-прогресca, согласно которой весь социокультурный универсум переходит со временем из состояния неопределенной бессвязной однородности в состояние определенной согласованной разнородности с растущей дифференциацией и интеграцией человеческой личности, культуры и общества (*).
(* Conte A. Cours de philosophie positive. Vol. 1. Paris, 1877. P. 8, ff и остальные тома; о теориях его предшественников см.: Мathis R. La loi des trois etats. Nancy, 1924. См. также: Spencer H. First Principles. London, 1870. Chap. 22 et passim; Principles of Sociology. London, 1885. 3 Vols. Несмотря на то что спенсеровская формула эволюции-прогресса включает и противоположный эволюции процесс разложения, Спенсер опускает этот аспект при рассмотрении социокультурной эволюции-прогресса. Такое пренебрежение этим противоположным процессом весьма симптоматично для всего направления. *)
Находясь во власти таких линейных представлений о социокультурном изменении, большинство социологов и ученых-обществоведов XIX века сводили изучение динамики социокультурных явлений даже в чисто фактографических исследованиях главным образом к выявлению и определению различных линейных тенденций, последовательных стадий развития, исторических тенденций и законов эволюции исследуемых явлений. В результате большинство открываемых ими "единообразий изменения" приобретало линейный характер. Вот лишь несколько тому примеров (*). Теория Фердинанда Тенниса, согласно которой человечество со временем переходит от объединений типа Gemeinshaft (**) к объединениям типа Gesellschaft (***), является линейной теорией. Теория постепенной эволюции от общества, основанного на "механи-ческой" солидарности, сопровождающейся заменой "репрессивного" права "реституитивным", тоже линейная теория. К разряду линейных относится и социальная динамика Лестера Ф. Уорда, постулирующая нарастающий с течением времени телеологический, кругообразный, искусствен-ный, самонаправляющийся и самоконтролирующийся характер человеческой адаптации; и динамика "убывающего влияния физических законов и возрастающего влияния психических законов" Г. Т. Бокля; и законы перехода обществ от "простых" к "составным" ("двух-", "трехсоставным" и т. д.) Герберта Спенсера и Дюркгейма. Не менее линеен и сформулированный Д. Новиковым закон эволюции борьбы за существование: от самых ранних форм кровавого "физического истребления" к менее кровавой "экономической" борьбе, а затем к политической борьбе и от нее к последней бескровной форме чисто "интеллектуального" соревнования; и разделяемая десятками обществоведов точка зрения на историю как на прогрессивное увеличение сферы мира и сокращение сфер войны; сформулированный А. Костом закон пяти стадий эволюции социальных структур от "Burg" к "City", "Metropolis", "Capitol" и, наконец, к "World Center of Federation" и "закон высоты" П. Мужеля, согласно которому наиболее крупные поселения и города основываются со временем на все меньших и меньших высотах; и подобные представления об исторических тенденциях движения цивилизаций на запад, на восток или на север, разделяемые разными авторами; и утверждаемое А. Гобино историческое движение от чистых и неравноценных рас к смешанным и равноценным с вырождением "человеческого стада, застывшего в своем ничтожестве"; и конец человеческой цивилизации как последний пункт этого движения; и сформулированный Л. Винарским закон социальной энтропии, ведущей ко все большему социокультурному выравниванию каст, социальных групп, классов, рас и индивидов и в конце концов - к безжизненному социокультурному равновесию и концу человечества; и извечная тенденция ко все более глубокому и полному равенству, понимаемая как положительное направление истории (в противоположность ее пониманию как смерти общества и культуры), отстаиваемая множеством социологов, антропологов, политологов, этиков, философов и историков. Даже теории социальной динамики Е. де Роберта и Карла Маркса были не вполне свободны от этого линейного "наваждения" XIX века: если сам Маркс не дал ясно очерченной теории последовательных стадий социальной эволюции, то тем не менее он постулировал одно-единственное эсхатологическое направление истории: тенденцию к социализму как конечной стадии социального развития человечества. Его последователи, начиная с Энгельса, Бебеля и Каутского и кончая Г. Куновым и целым легионом менее выдающихся марксистов, изобрели целый ряд исторических законов эволюции - экономических, политических, ментальных, религио-зных, семейных и других социокультурных явлений с соответствующими стадиями развития.
(* Библиографию работ всех упоминаемых авторов см. в моих кн.: Contemporary Sociological Theories. N. Y., 1928, Social and Cultural Dynamics (все четыре тома). Воспроизведение такой обширной библиографии в этой короткой статье заняло бы слишком много места. *)
(** Общность (нем.). **)
(*** Общество (нем.). ***)
Как и Маркс, Е. де Роберти и некоторые другие ученые не слишком стремились изобретать разнообразные извечные тенденции и стадии развития, но даже они считали основной тенденцией исторического процесса рост концептуальной мысли в одной из четырех ее форм (научной, философской или религиозной, эстетической и рационально-прикладной), как их сформулировал Е. де Роберти. Г. де Гриф, как и многие другие политологи, исходил из тенденции политической эволюции, направленной от ранних режимов, основанных на силе, к общественной организации, основанной на свободных договорных отношениях. Направление движения от "состояния войны" к "культурному состоянию, указанное Г. Ратценхофером и Албионом Смоллом, или противоположное, как у П. Лиленфельда, - от раннего типа децентрализованных и неуправляемых политических групп к режимам централизованного, автократического и организованного политического контроля; или направление социального развития, по Л. Т. Хобхаузу: общество, основанное на родстве; общество, основанное на власти, и, наконец, конечная стадия - общество, основанное на гражданстве; или у Ф. Гиддингса: "зоогеническая, антропогеническая, этногени-ческая и демогеническая" стадии социокультурного развития (последняя стадия в свою очередь делится на несколько линейных подстадий: военно-религиозную, либерально-легальную и экономико-этическую - все эти теории являются разновидностями концепций линейного развития, большое число которых было предложено обществоведами XIX и начала XX века. К ним вполне могут быть отнесены десятки описанных социологией и антропологией, историей и правом тенденций эволюции семьи, брака и родства - все эти отношения имеют однообразные стадии развития: от промискуитета "первобытных" половых отношений к моногамной семье (проходя 3, 4 или 5 стадий в зависимости от воображения таких авторов, как Дж. Бахофен, Дж. Ф. Макленнап, сэр Джон Люббок, Ф. Энгельс, А. Бабель, Л. Г. Морган и многие другие); от патриархальной семьи - к родственной семье, основанной на равенстве полов; от патрилинейной к матрилинейной системе наследования и родства или наоборот; от равенства к неравенству полов или наоборот - предлагались все возможные направления развития.
В этих и других общественных и гуманитарных науках громогласно "открывались" все новые и новые вечные исторические тенденции и их стадии развития: от фетешизма или тотемизма к монотеизму и иррелигиозности; от религиозных и магических суеверий к рациональному научному мышлению; от этической дикости к разумному нравственному человеку; от первобытного уродства к возрастающей и совершенствующейся красоте и т. д. и т. п. Ученые, работавшие в области политических наук, без колебаний формулировали целый ряд разнообразных "законов прогрессивной политической процесс-эволюции": от "автократических монархии к демократической республике" или наоборот (в зависимости от политических симпатий ученого); от прямой демократии к представительной демократии или наоборот; от первобытной анархии к централизованному управлению или наоборот; от "правительства силы к правительству общественного служения"; и каждое направление - с последовательными промежуточными стадиями, определенным образом сменяющими друг друга в более или менее единообразной последовательности. И в экономике многие выдающиеся мыслители были заняты экономическими тенденциями развития и стадиями, которые должны проходить, как они полагали, все народы. Стадии экономического развития, по Ф. Листу: варварская, пастушеская, земледельческая, земледельческо-промышленно-коммерческая; теория трех стадий Б. Хилдебранда: Naturalwirtschaft (*), Geldwirtschaft (**), Creditwirtschaft (***), закон 3 стадий Карла Бучера: натуральное хозяйство, город и национальная экономика; теория 5 стадий Густава Шмоллера - все они могут служить типичными примерами таких линейных "экономических динамик". Экономическая наука прошлого века также линейно рассматривала и экономическую эволюцию от коллективного сельского хозяйства к индивидуальному или наоборот; от первобытного коллективизма к капиталистическому индивидуализму или наоборот и т. д., вплоть до еще более частных тенденций, якобы имеющих место в процессе экономического изменения.
(* Природно-хозяйственная (нем.). *)
(** Денежно-хозяйственная (нем.). **)
(*** Кредитно-хозяйственная (нем.). ***)
Такая же линейная концепция исторического изменения господствовала в археологии и истории. Если в фактологических работах при непосредственном изложении исторических событий обсуждение тенденций, направлений и законов эволюции-прогресса не занимало много места, то такие тенденции и законы (разделяемые социологами и историками) служили путеводными звездами и полномочными принципами организации хаотического материала и особенно его интерпретации. Археологический и исторический "закон технологической эволюции" с его стандартизированными стадиями - Палеолит, Неолит, Медный, Бронзовый, Железный и Машинный век - лишь один из линейных законов, которым историки руковод-ствуются как фундаментальным принципом при упорядочении материала. Другим таким принципом является и сама линейно истолкованная идея прогресса, послужившая действительным основанием для большой части исторических трудов XIX века. От этой идеи не были свободны даже авторы явно описательных работ, открыто выступавшие против "философствования" в истории. Типичным примером тому служит "Кембриджская Новая история", на одной из первых страниц которой, несмотря на антипатию ее авторов и редакторов ко всякой философии истории, мы читаем: "Мы хотим открыть непреходящие тенденции. ... Мы принимаем прогресс в человеческих отношениях как научную гипотезу, в соответствии с которой должна быть написана история. Этот прогресс неизбежно должен быть направлен к какой-то цели" (*). Вряд ли стоит добавлять, что и в других якобы чисто фактологических повествованиях историки XIX века, начиная с Моммзена, Л. фон Ранке, Ф. де Куланжа, Ф. Гизо и кончая авторами "Кембриджской Новой истории", действительно сформулировали множество линейных законов эволюции во всех областях социальной и культурной жизни (**).
(* Cambridge Modern History. Pop. ed. N. Y., 1934. Vol. 1. P. 4. Эта работа, заметьте, была написана в XIX веке. Современный пример, Fischer H. History of Europe. London, 1905, где заявление: "на страницах истории черным по белому написано "прогресс" (Vol. 1. P. VII), противоречит провозглашенному неприятию исторических генерализаций. *)
(** Так, в уже цитированной выше "Кембриджской Новой истории" читаем: "Практическое применение научных знаний будет расширяться и... грядущие века станут свидетелями безграничного роста власти человека над природными ресурсами и разумного использования их на благо человеческого рода" (Vol. XII. Р. 791). **)
Итак, социологии, другим общественным, философским и даже естественным наукам XIX века центральная проблема физической, биологической и социокультурной динамики казалась очень простой - следовало лишь отыскать и описать линейные тенденции, которые якобы разворачиваются во времени. В области социокультурных изменений задача упростилась невероятно: все было сведено к построению главной линии развития - прямой, волнообразной, ветвящейся или спиралеобразной, ведущей от "первобытного" человека, общества, культуры к современным. Вся история была расписана как школьная программа, по которой "первобытный" человек или общество - первоклассник заканчивает начальную школу, затем среднюю (или проходит другие ступени, если их в классификации больше 4) и, наконец, оказывается в выпускном классе, который называется "позитивизм", или "свобода для всех", или еще как-нибудь в зависимости от фантазии и вкусов автора.
2. XX век. Уже в XVIII и XIX веках изредка раздавались голоса, остро критиковавшие эту догму и предлагавшие иные теории социокультурной динамики. В XX веке эти голоса умножились и, наконец, возобладали. Первым результатом этого изменения стала все расширяющаяся критика положений линейной теории социокультурного изменения и линейных законов, сформулированных биосоциальными науками прошлого столетия. Эта критика имеет под собой как логическую, так и фактологическую почву.
Критиковавшие логику линейных теорий показали, что, во-первых, линейный тип изменения лишь один из многих возможных; во-вторых, для того чтобы линейное движение или изменение было возможно, изменяющийся объект должен либо находиться в абсолютном вакууме и не испытывать воздействия внешних сил, либо действие этих сил на протяжении всего процесса изменения должно быть скомпенсировано, т. е. эти силы должны находиться в таком "замечательном равновесии", чтобы они могли нейтрализовать друг друга в каждый момент времени и, таким образом, позволить изменяющемуся объекту двигаться в одном направлении, будь движение прямолинейным, спиралеобразным или колебательным.
Очевидно, что реализовать обе эти предпосылки практически невозможно; даже "материальная точка" в механике никогда не движется ни в абсолютном вакууме, ни под действием полностью компенсирующих друг друга сил; даже материальные тела находятся под влиянием хотя бы двух сил: инерции и гравитации, которые силой инерции превращают их прямолинейное и единообразное движение в круговое или криволинейное. Это также верно и в отношении нематериальных объектов. А если принять во внимание тот факт, что человек, общество и культура - гораздо более сложные "тела", что они подвержены постоянному влиянию неорганических, органических и социокультурных сил, то их линейное изменение на протяжении всего исторического времени становится еще менее вероятным. Прибавьте к этому и тот неоспоримый факт, что каждая из этих "единиц изменения" сама постоянно изменяется в процессе своего существования и таким образом может изменять направление социокультурного изменения, и тогда утверждение о вечной линейности потеряет всякий смысл.
В силу этой и других подобных причин теория вечных линейных тенденций все чаще отвергалась и заменялась другой, которую можно было бы назвать принципом предела в линейной тенденции изменения. Согласно данному принципу, линейно развиваются лишь некоторые социокультурные явления на протяжении ограниченных отрезков времени, которые различны для разных социокультурных единиц. Из-за постоянных изменений самих единиц, изменения и непрекращающегося воздействия огромного числа внешних по отношению к ним сил временно линейный характер их движения нарушается и сменяется "поворотами и отклонениями"; в результате глобальный процесс социокультурного изменения приобретает нелинейный характер (*).
(* Систематический анализ нелинейных форм развития см. в моей кн.: Social and Cultural Dynamics. Vol. I. Ch. 4; Vol. IV. Ch. 12-16 et passim в остальных томах. *)
В-третьих, многие другие предположения, лежащие в основе линейных теорий, такие как спенсеровский принцип "нестабильности однородного", оказались необоснованными - логически и фактологически.
В-четвертых, было показано, что логическая структура линейных теорий внутренне противоречива. Например, теория Спенсера утверждает, что высшим проявлением единообразия всех видов изменения, начиная с движения материальных тел и кончая социокультурными процессами, является ритм, в котором чередуются фазы эволюции и разложения, интеграции и дезинтеграции, дифференциации и де-дифференциации. Если последовательно применить эту теорию к изменению социокультурного явления, то она будет противоречить любой неограниченной линейной теории эволюции. Она предполагает, что "эволюция" и ее направление должны смениться "разложением" с направлением, противоположным или хотя бы отличающимся от направления "эволюции". Находясь во власти линейной концепции, Спенсер пренебрегает этим требованием своей собственной теории и, выделяя лишь направление эволюции, не только противоречит своим собственным принципам, но и сталкивается с целым рядом других трудностей (*). То же самое с небольшими поправками можно сказать практически обо всех линейных теориях изменения.
(* См. об этом мою: Dynamics, vol. IV, р. 670-693 et passim. *)
В-пятых, в линейных теориях уязвимо для критики оперирование "человечеством" как единицей изменения. Большинство этих теорий прослеживает соответствующую линейную тенденцию в истории человечества в целом. Линейные теории, не касающиеся важнейшего вопроса о том, может ли "человечество", ни в коей мере не объединенное в какую-либо реальную систему в прошлом, рассматриваться как единица изменения, происходящего с "начала человеческой истории по настоящее время", вряд ли имеют какое-либо реальное значение. Очевидно, что такая тенденция не может реализоваться и в жизни-истории каждого человека, потому что миллионы людей в прошлом жили и умирали, не достигая позднейших ступеней заданного пути и не проходя всех его якобы необходимых этапов. Таким же образом подавляющее большинство человеческих сообществ существовало и исчезало, находясь на начальных стадиях того или иного направления развития, а тысячи современных обществ до сих пор находятся на самых ранних ступенях развития. В то же время многие сообщества никогда не проходили начальных стадий развития, а возникали уже с характеристиками более поздних этапов.
Далее, огромное число обществ и групп прошли в своем развитии не те этапы, которые описываются соответствующими "законами эволюции-прогресса", и в отличной от предписанной этими "законами" временнОй последовательности. Иные группы показали регресс от более поздних стадий к более ранним. И, наконец, в жизни каждого индивида, группы и человечества в целом в каждый данный момент времени можно обнаружить сосуществование множества стадий развития - от самых ранних до наиболее поздних. Если теперь из "человечества", к которому предположительно относится этот закон, исключить всех индивидов и все группы людей, развитие которых отклоняется от направления "закона эволюции" с его стадиями, то останется (если вообще что-нибудь останется) совсем небольшая группа, "историческое изменение" которой подчиняется так называемым универсальным тенденциям и законам линейного развития. Одного этого довода достаточно, чтобы считать эти тенденции и законы в лучшем случае частными закономерностями, относящимися лишь к очень небольшой части человечества, а никак не универсальными законами социокультурной эволюции.
К этой и аналогичной логической критике положений и принципов разнообразных линейных теорий социокультурного изменения может быть добавлена не менее существенная фактологическая критика. Суть этой критики в подборе обширного фактического материала, явно противоречащего провозглашенным тенденциям и законам. Социологи, психологи, философы, историки, этнографы и другие ученые показали, что эмпирические процессы жизни-истории индивидов и групп людей не соответствуют воображаемым тенденциям развития и не проходят соответствующих этапов развития. Факты явно противоречат утверждениям о существовании каких-либо универсальных и вечных линейных тенденций или каких-либо универсальных стадий эволюции, относящихся ко всему человечеству, к любым группам и индивидам.
Результатом логической и фактологической критики линейной динамики на протяжении двух последних столетий стал наблюдаемый в XX веке спад энтузиазма открывателей таких тенденций и законов. Попытки продолжить создание таких динамик конечно, не исчезли полностью, но их становится все меньше и меньше и они все чаще ограничиваются отдельными обществами временными и многими другими рамками и оговорками.
Находя теории социальной динамики линейного толка мало продуктивными, исследователи сосредоточились на других аспектах социокультурного изменения, и прежде всего на его постоянных и повторяющихся чертах, силах, процессах, взаимосвязях, проявлениях единообразии.
Внимание социологии и других общественных наук к постоянным чертам социокультурного изменения проявлялось по-разному.
Во-первых, тщательно изучались постоянные силы, или факторы, социокультурного изменения и постоянные проявления социокультурной жизни и организации. Сторонники механической и географической школ, например, исследовали с этой точка зрения различные формы энергии (В. Оствальд, Е. Солвэй, Л. Винарский, В. Бехтерев и др.) или особые космические силы климат, солнечные пятна и другие географические факторы (Э. Ханингтон, В. С. Дживанс, Г. Л. Мур и др.), и описали их постоянные воздействия на социальные и культурные явления, начиная с экономических изменений и кончая подъемом и падением наций. Приверженцы биологической и физиологической школ в социологии и общественных науках брали в качество таких постоянных сил наследственность, расу, инстинкты, рефлексы, различные физиологические порывы, жизненные процессы, эмоции, чувства, желания, "резидуи", идеи и пытались доказать постоянное социокультурное действие каждой биопсихологической переменной (Зигмунд Фрейд, психоаналитики, сторонники теории наследственности, такие как Ф. Гальтон, Карл Пирсон и др., Г. С. Чемберлен, О. Аммон, В. де Лапуж, К. Ломброзо, Е. А. Хутон и другие представители расово-антропологической школы; биохевиорист Джон Б. Уотсон; психологисты Уильям Мак-Дугалл, Ч. А. Эллвуд, Е. А. Росс, Е. Л. Торндайк, У. И. Томас, Вильфредо Парето, Л. Петражицкий, Г. Блюхер, Уильям Троттер, Грэхем Уоллес, Лестер Ф. Уорд, Уильям Грэхем Саммер, Габриэль Тард, Торстейн Веблен и др.). Другие социологи пытались выявить действие на остальные социокультурные явления таких разнообразных условий, как плотность и численность населения, "изобретательность", "экономический" или "религиозный" и другие факторы вплоть до "мобильности", "моральной плотности", "общественной аномии". Во всех этих исследованиях делались попытки высветить постоянную роль каждого из этих "факторов-переменных" в поведении людей, в социальной структуре и культурной жизни, постоянное действие каждого из этих факторов и, наконец, объяснить "как" и "почему" колебаний и изменений самих этих факторов.
Во-вторых, внимание к постоянным и повторяющимся чертам социокультурного изменения проявилось в глубоком изучении постоянных и всегда повторяющихся процессов в социокультурном универсуме. Значительное место в социологии XX века занимают исследования таких всегда повторяющихся процессов, как изоляция, контакт, взаимодействие, амальгамация, культивация, изобретение, имитация, адаптация, конфликт, отчуждение, дифференциация, интеграция, дезинтеграция, организация, дезорганизация, диффузия, конверсия, миграция, мобильность, метаболизм etc., с одной стороны, а с другой стороны - исследования этих повторяющихся процессов, поскольку они касаются вопросов групповой динамики, того, как общественные группы возникают, организуются, обретают и теряют своих членов, как распределяют их внутри группы, как они меняются, дезорганизуются, как они умирают и т. д. (Габриэль Тард, Георг Зиммель, Леопольд фон Визе, Роберт Е. Парк, Эрнст У. Берджесе, Е. А. Росс, Эмори Богардус, Коррадо Джини, П. Карли, Питирим Сорокин и авторы почти всех учебников социологии). Таким образом, в социологии XX века был проведен тщательный анализ основных социокультурных процессов, постоянно повторяющихся в жизни-истории любого общества в любое время.
Третьим проявлением внимания к повторяющимся процессам было интенсивное изучение устойчивых и повторяющихся значимо-причинно-функциональных связей между различными космосоциальными, биосоциальными и социокультурными переменными, как они выступают в постоянно изменяющемся социокультурном мире. Несмотря на то что эти отношения изучались уже в XIX веке, в наше время их исследование необычайно углубилось. Основные условия географической, биологической, психологической, социологической и механической школ в социологии XX столетия были направлены как раз на отыскание и описание причинно-функциональных или причинно-значимых единообразии во взаимосвязях между двумя или несколькими переменными: между климатом, мышлением и цивилизованностью; между солнечными пятнами, деловой активностью и уровнем преступности; между наследственностью и той или иной социокультурной переменной; между технологией и философией или изобразительным искусством; между плотностью населения и идеологией; урбанизацией и преступностью; формами семьи и формами культуры; общественным разделением труда и формами солидарности; общественной аномией и числом самоубийств; состоянием экономики и преступностью, душевными расстройствами, внутренней напряженностью, беспорядками или войнами; между формами религии и формами политической и экономической организации и т. д. и т. п., начиная с самых узких и кончая предельно широкими. Эти исследования дали множество формул причинно-функциональных и причинно-значимых единообразии, повторяющихся в развитии различных обществ и в каждом обществе в различные периоды. Проверив многие подобные обобщения, сделанные ранее, ученые нашли их либо совершенно ложными, либо нуждающимися в серьезных исправлениях.
Наконец, четвертым проявлением внимания к устойчивым и повторяющимся аспектам социокультурного изменения стало изучение постоянно повторяющихся ритмов, осцилляций, флуктуаций, циклов и периодичностей в ходе социокультурного процесса. Занятые поисками линейных тенденций, социология и все общественные науки XIX века уделяли мало внимания этим повторяющимся чертам социокультурного изменения. За небольшим исключением (Гегель, Тард, Феррара, Данилевский и некоторые другие), обществоведы и социологи прошлого века пренебрегали богатой традицией китайских и индийских мыслителей, традицией Платона, Аристотеля и Полибия, Ибн Хальдуна и Дж. Вико, сосредоточивших свои исследования социальной динамики на повторяющихся циклах, ритмах, осцилляциях, периодичностях, а не на вечных линейных тенденциях. XX век подвел итоги работы этих мыслителей и энергично их продолжил.
Самые первые в общественных и гуманитарных науках XX века и наиболее глубокие исследования циклов, ритмов, флуктуаций и периодичностей появились в теории и истории изобразительного искусства, а затем в экономике, в исследованиях промышленных циклов. Большинство же социологов и других представителей общественных и естественных наук несколько отстали в изучении повторяющихся единообразии, так как они с опозданием обратились к новой области исследований. Даже сегодня многие социологи не отдают себе отчета в том, что произошел решительный отход от линейных тенденций и что научный интерес сместился на повторяющиеся ритмы и периодичности. Раньше или позже, но во всех общественных, философских и даже естественных науках произошла или происходит смена исследовательского интереса. Со значительным опозданием осознали это естественные науки, и теперь даже открыт Институт изучения циклов в области физико-химических и биологических явлений. Что касается всей совокупности философских, общественных и гуманитарных дисциплин XX века, то они уже дали значительное число научных работ, посвященных социокультурным ритмам, циклам и периодичностям в изобразительном искусстве и философии, этике и праве, экономике, политике, религии и других социокультурных процессах. Одно только перечисление всех единообразий ритма и темпа, типов и периодичности флуктуаций и других важных результатов этих исследований заняло бы несколько сотен страниц, как это произошло в моей "Динамике" (*). Целый ряд ритмов с двумя, тремя, четырьмя и большим числом фаз, периодических и не периодических, коротких и продолжительных, в узких и широких, простых и сложных социокультурных процессах выявили и проанализировали: в искусстве - У. М. Ф. Петри, О. Г. Кроуфорд, П. Лигети, Г. Вельфлин, Ф. Мантре, Дж. Петерсен, Е. Уэкслер, У. Пиндер, П. Сорокин и многие другие; в философии - К. Джоел, П. Сорокин и другие; в экономических процессах - большая группа экономистов, начиная с М. Туган-Барановского и кончая Уэсли Митчелом и Джозефом Шумпетером; в политических процессах - О. Лоренц; в культурных образцах - А. Л. Кребер; в жизни-истории функционирования обширных социокультурных систем и суперсистем - Л. Вебер, Альфред Вебер, Освальд Шпенглер, Арнольд Дж. Тойнби, Сорокин и многие другие. Линейная последовательность стадий, или фаз, социокультурного процесса во времени тоже получала более надежную основу благодаря изучению ритма и последовательности фаз. Оставив охоту за какими-то странными и сомнительными последовательностями стадий линейного процесса, проходящего через всю человеческую историю, которой занимались в XIX веке, и сосредоточившись на изучении повторяющихся процессов, исследователи XX века смогли показать существование многих ритмов с определенной повторяющейся временной последовательностью фаз. Наконец, эти работы значительно расширили наши познания в области периодичности и длительности разнообразных социокультурных процессов.
(* Видимо, наиболее полный и сжатый обзор и анализ, основных исследований социокультурных ритмов, циклов, периодичностей и единообразий темпов дан в моей работе "Social and Cultural Dynamics". Vol. IV. Ch. 6-11. et passim во всех ее четырех томах. Как уже отмечалось, большинство социологов с опозданием обратили должное внимание и направили свои усилия на изучение этих явлений. Несмотря на всевозрастающее в XX веке количество монографической литературы, посвященной ритмам, циклам, флуктуациям, периодичностям, в социологии, общественных, гуманитарных, философских и естественных науках, в большинстве социологических работ, даже самых современных, эти вопросы либо просто обходятся, либо им уделяется слишком мало внимания. *)
Итак, социология и все общественные науки XX века нашли изучение ритмов, циклов, темпов и периодичностей более продуктивным, дающим более богатые и определенные результаты, чем поиски извечных исторических путей развития, которыми они занимались в XIX веке. Не остается сомнений, что ритмы и повторяющиеся процессы будут изучаться еще тщательнее, усерднее, интенсивнее в последующие десятилетия и, по всей вероятности, на этом пути общественные науки ждут гораздо большие достижения, чем в XIX веке.
Таковы вкратце основные изменения в изучении "что" социальной динамики, происшедшие в социокультурной мысли XX века в сравнении с XIX.
II
Новое в изучении "почему" социокультурного изменения. Параллельно с обрисованным выше сдвигом в рассмотрении "что" социокультурного изменения ряд изменений произошел и в изучении "почему" и "как", его причин и механизмов. Опять-таки данные изменения не представляют собой нечто абсолютно новое, совершенно неизвестное социологии и общественным наукам XIX века. Они скорее явились результатом смещения основного исследовательского интереса и смены господствующей модели мышления, дальнейшим прояснением того, что было недостаточно ясно в XIX столетии, и более отчетливой дифференциацией того, что было тогда недостаточно дифференцировано.
Во-первых, сегодня придается больше веса социокультурным переменным как факторам социокультурного изменения. Несмотря на то что теории, в которых подчеркивается важная роль географического, биологического и психологического факторов в социокультурном изменении, продолжают развиваться, они вряд ли добавили что-либо к тому, что уже было сказано ими в прошлом веке. Основные достижения и основной взгляд принадлежат социологическим теориям, которые рассмотрели различные социальные и культурные факторы как главные движущие силы социокультурного изменения. Тщательные исследования изменения числа самоубийств и преступлений, экономических колебаний, войн и революций, смены политических режимов, стилей в изобразительном искусстве или динамики обширных культурных и социальных систем со всевозрастающей надежностью подтверждают догадку о том, что основные факторы этих изменений находятся в самих социокультурных явлениях и тех социокультурных условиях, в которых они происходят и функционируют. Оказывается, что внешние по отношению и ним географические и биологические силы являются второстепенными факторами, способными облегчить движение социокультурной системы или подорвать и даже сокрушить ее, но, как правило, не определяющими ее нормальное развитие, взлеты падения, основные качественные и количественные изменения в ее жизни-истории. Направление факторного анализа получило свое естественное завершение в ряде систематических теории имманентного социокультурного изменения, согласно которым каждая социокультурная система несет в себе семена своего собственного изменения и гибели. Таким образом, в нашем столетии возродились и развиваются старые теории имманентного изменения Платона и Аристотеля, Полибия и Вико, Гегеля и Маркса, Момзена и Конта, которыми так или иначе пренебрегали в прошлом веке (*).
(* Об этих теориях и принципах имманентного изменения см. мою "Dynamics" (vol. IV, ch. 12, 13), в которой дан, вероятно, самый полный в социологической литературе обзор и анализ этого вопроса. *)
С развитием этих теорий в социологической мысли нашего века произошло второе изменение, состоявшее в придании все большего значения и особой роли имманентным, или внутренним, силам каждой данной социокультурной системы в ее жизнедеятельности и в придании меньшего веса и лишении особого значения факторов, внешних по отношению к данной социокультурной системе (*). Господствующим направлением факторного анализа социального изменения в XIX веке было объяснение изменения каждого данного социокультурного явления будь то семья или деловое сообщество, литература или музыка, наука или право, философия или религия - посредством изучения внешних по отношению к данному явлению факторов (географических, биологических и других социокультурных условий, внешних по отношению к данной социокультурной системе). В XX веке ученые все чаще обращаются к основаниям главных изменений в функционировании данной социокультурной системы во всей совокупности ее собственных актуальных и потенциальных свойств и ее связях с другими социокультурными явлениями. Все внешние силы (географические, биологические и социокультурные), с которыми система непосредственно не связана, должны рассматриваться, как правило, лишь как второстепенные факторы, подрывающие либо облегчающие (а иногда даже уничтожающие) реализацию потенций системы (**).
(* Это не относится к социокультурным совокупностям несистемного характера (congeries). О различии между системой и congery см. в моей "Dynamics" (vol. IV, ch. 1-4). *)
(** Об этом см. упоминавшиеся выше том и главы "Dynamics". Следует отметить, что, подобно мольеровскому герою, который говорит прозой, не отдавая себе в этом отчета, многие социологи и представители общественных наук не осознают этих изменений в полной мере. В своих исследованиях эти ученые подчеркивают решающую роль социокультурных факторов в причинном объяснении тех или иных социокультурных изменений, но в то же время выступают против принципов имманентного изменения и его имманентных факторов, явно оставаясь на "экстерналистской" точке зрения. Они как будто не понимают, что акцент на социокультурных факторах социокультурного изменения как главных факторах уже означает - с небольшими исключениями и оговорками - признание имманентной теории социокультурного изменения. **)
Третьим изменением в области "почему" социокультурного развития стали возрастание внимания к роли отдельных факторов (переменных) в отдельных социокультурных изменениях, особенно к роли социокультурных факторов, и большая точность в их изучении. В XX веке социология не открыла ни одного нового фактора социокультурных изменений, неизвестного социологии прошлого века. Но, изучая причинные связи, социология XX века гораздо точнее определила эти факторы - географические, биологические и особенно социокультурные, весьма неопределенно именовавшиеся ранее экономическими, религиозными, идеологическими, юридическими и т. д. В интересах точности эти широкие и довольно неопределенные факторы были разложены на множество более определенных и четких "независимых переменных" и гораздо более тщательно изучены в их причинных связях с рядом более частных "зависимых социокультурных переменных". Разложив всеобъемлющий и неопределенный "экономический фактор" марксизма на такие переменные, как экспорт, импорт, цена товаров, уровень заработной платы и доходов, структура расходов, индекс деловой активности и т. д., и исследовав связи каждой из этих переменных с особыми формами преступлений, психических расстройств, самоубийств или сменой политических идеологий, социология XX века дала нам более определенное знание о связях между этими переменными, чем социология прошлого века. Таким же образом социология нашего века поступила и с другими предельно широкими факторами.
Возросшая точность факторного анализа явилась также результатом накопления в социологии и общественных науках XX столетия богатого фактического материала. Поскольку идеалом науки была "социология, нацеленная на факт", ею был накоплен более обширный систематизированный фактический материал столь необходимый для выдвижения и проверки любой гипотезы о причинной связи. Этот более обширный и более качественный фактический материал позволил социологии и общественным наукам XX века надежно проверять обоснованности причинных гипотез. В результате часть прежних теорий причин социокультурного изменения была признана ложной, другие объяснения пришлось уточнить и ограничить, а некоторые оказались даже более обоснованными, чем это казалось раньше (*). Этому возросшему стремлению к точности и надежности теории "почему" социокультурных изменений мы обязаны значительными достижениями современной социологии, но в нем же коренится и один из ее самых больших грехов - принесение приблизительной действительности в жертву обманчивой точности.
(* См. факты и теории в моих "Contemporary Sociological Theories", passim; "Dynamics", passim. *)
Главным изменением в социологии и общественных наука XX века стали, однако, нарастание разногласий и раскол на две противоборствующих направления в изучении каузально-факторных проблем "почему" социокультурного изменения. В менее явной скрытой форме это противоречие существовало уже в XIX веке. В XX веке оно углубилось, расширилось и переросло в открытый конфликт. Первый подход состоит в некритическом применении методов и принципов причинно-функционального анализа в том виде, в каком они утвердились в естественных, физико-химических науках. Второй подход заключается в специфически социокультурном понимании причинности, существенно отличающемся от сформулированного в естествознании, разработанном для изучения особой природы социокультурных явлений, причинных и функциональных связей между ними как в cтатическом, так и в динамическом аспекте. Сторонники "естественнонаучной модели причинности" в области социокультурных явлений считают, что эти явления по своей структур подобны, даже идентичны физико-химическим и биологических явлениям; следовательно, такие плодотворные в своей области методы и принципы причинного анализа естественных наук будут вполне адекватными для причинного анализа - как статического, так и динамического аспекта социокультурных явлений.
В соответствии с этими посылками сторонники "естественнонаучной причинности в общественных явлениях" в XX веке, во-первых, стремились к тому, чтобы выбираемые ими факторы, или "переменные" (изменения), были "объективными, поведенческими, операциональ-ными" - чем-то материальным и осязаемым.
Во-вторых, их образ действий был "механическим и атомистическим" в том смысле, что они брали за переменную любой "транссубъективный" фактор, независимо от того, является ли он неотъемлемой частью какого-либо реального единства или изолированным явлением. Начиная с причин преступлений или "счастья в браке" и кончая более масштабными явлениями факторный анализ такого типа пытается перебрать по одному длинные или короткие ряды возможных факторов (например, для супружеского согласия или счастья: телосложение, цвет кожи, экономическое положение, вероисповедание, профессия, доход, климат, раса, национальность, etc., etc) и оценить, причем количественно, их относительную значимость для исследуемого явления, приписывая каждому из факторов строго определенный "индекс влияния". Эта процедура повторяется при выявлении любых причинных связей.
В-третьих, опять же в полном соответствии с этими предпосылками, для упорядочения и "обработки" данных заимствуются разнообразные принципы естественных наук: физики и механики (от теории относительности Эйнштейна до современных теорий физики микрочастиц), принципы химии и геометрии, биологии и математики (современные течения "социальной физики", "социальной энергетики", "геометрической и топологической социологии", квазимате-матические теории социального изменения и причинности, социометрические, "рефлексо-логические", "эндокринологические", "психоаналитические", "биологические" и другие социоло-гические теории причинности и изменения).
В-четвертых, некоторые энтузиасты особенно усердно стараются применить "точный количественный метод" причинного анализа в форме различных псевдоматематических процедур и сложных статистических операций, твердо уверовав в возможность достижения истины посредством сложных механических операций, предписываемых их псевдоматематикой и псевдостатистикой (*).
(* Литературу по естественнонаучной причинности см. в моих книгах: Sociocultural Causality, Space, Time. Durham, 1943, chap. 1, 2; Contemporary Sociological Theories, Ch. 1, 11. Из современных работ, в которых эти тенденции доведены почти до абсурда, вполне представительны: Dоdd S. С. Dimensions of Society. N. Y., 1942; Chapple E. D., Arensberg С. М. Measuring Human Relations. Provincetown, 1940; Horst P., Wallin P., Guttman L. and oth. The Prediction of Personal Adjustment. N. Y., 1941. Самое грубое, незрелое и наивное изложение философии этого рода см. в кн.: Lundberg G. А. Fondations of Sociology. N. Y., 1939. *)
В результате приверженности к этой якобы (*) "естественнонаучной причинности" теоретические и конкретные исследовании социокультурных явлений и факторный анализ XX века создал обилие "исследований", переполненных цифрами, диаграммами показателями, сложными формулами - очень точными и "научными" на вид - простых и сложных причин существования и изменения любых социокультурных явлений, которые им приходилось изучать. Несмотря на шумные заявления и претензии сторонников этого направления, реальные результаты их весьма энергичных усилий разочаровывают. При тщательном рассмотрении их утверждения и посылки оказываются разновидностью грубейшей материалистической метафизики, непоследовательной и внутренне противоречивой, искажением методов и принципов естественных наук, логики и математики. А действительные результаты, полученные посредством этих "точных на вид" формул и операций, как правило, оказываются либо тщательной разработкой очевидного, либо формулами, обманчивыми в своей точности и противоречащими друг другу: с высокими показателями у одного и того же фактора в одной серии исследований и низкими в следующей, с высокими положительными коэффициентами корреляции между какими-либо переменными в одних работах и низкими или отрицательными коэффициентами между теми же переменными в других.
(* "Якобы" потому, что то, что они проповедуют как методы и принципы естественных наук, как правило, оказывается их собственным примитивным искаженным пониманием этих принципов. Их "математика" - это псевдоматематика, их геометрия и топология не имеют никакого отношения к настоящим геометрии и топологии; их "физика", "химия" и "биология" не более чем дилетантская стряпня, чуждая науке. И это открыто заявляют настоящие математики, химики, биологи, которым приходилось отзываться об этих работах. *)
Логико-математическая несостоятельность большинства этих предпосылок вместе с фактической бесплодностью достигнутых результатов вызвала значительное и растущее противодействие этой праздной игре в "естественнонаучную причинность" в общественных явлениях со стороны других социологов и обществоведов. Следуя традиции великих мыслителей прошлого, таких как Платон и Аристотель, и некоторых выдающихся ученых XIX века, таких как сам Конт, Г. Риккерт, В. Дильтей и другие, они представили целый ряд ясных и убедительных доводов против этой "игры".
Во-первых, они констатируют, что каждая зрелая естественная наука имеет специфические принципы, методы и методики анализа причинных связей, соответствующие природе исследуемых явлений. Принципы, методы и методики чисто математических наук отличны от физических или биологических; методы и методики биологии отличаются от методов физики или химии; даже в рамках одной науки принципы, методы и методики физики микромира не те же самые, что в физике макромира.
Поэтому, возражают они, неправомерно утверждать, что существуют какие-то общие "естественнонаучные принципы, методы и методики", и тем более некритически применять их к изучению социокультурной причинности.
Во-вторых, они указывают на коренные различия в природе и структуре социокультурных и физических, биологических явлений; следовательно, изучение социокультурной причинности требует набора принципов, методов и методик, отличных от тех, которые применяются в физике или биологии, и соответствующих характеру причинных связей в социокультурном мире.
В-третьих, они утверждают, что, имея в виду "нематериальный" компонент этих явлений, невозможно безусловно оперировать "объективными", "материальными", "поведенческими", "операциональными" переменными, взятыми атомистически и механически, так как каждая социокультурная переменная (включая религиозные, экономические, юридические, этические, эстетические, политические и другие, которыми оперируют "социологи-естественники") "объективно воплощается во множестве "материальных носителей", различающихся химически, физически, биологически, перцептивно, материально, и ни одна из этих переменных не ограничена в своих материальных проявлениях каким-либо одним классом материальных явлений. Поэтому никому, даже "социологам-естественникам", непозволительно рассматривать какой-либо "объективный" материальный объект или неизменное проявление какого-либо из этих факторов, классов или групп социокультурных явлений; любая такая попытка, где бы и когда бы она ни предпринималась, оборачивается самыми грубыми ошибками.
Четвертое возражение состоит в том, что атомистическое изучение любого социокультурного фактора в его взаимосвязи с другими переменными невозможно, так как один и тот же социокультурный фактор А может совершенно по-разному относиться к переменной B в зависимости от того, являются ли А и B частями одной социокультурной системы (unity) или изолированными явлениями (congeries), дан ли фактор А в данной социокультурной констелляции или же в другой, например, фактор принадлежности к одной расе (А) оказывает ощутимое влияние на выбор партнера в браке (B) в обществе, где придается большое значение общности или различию рас партнеров, и небольшое (если вообще оказывает) влияние на тот же выбор B в обществе, где общности или различию рас партнеров придается небольшое значение или вообще не придается никакого значения; объективно одно и то же действие, скажем, А дает B тысячу долларов, может иметь десятки социокультурных значений - от выплаты долга или зарплаты до пожертвования или взятки. Подобно этому причинная связь данного действия с другими действиями А и B и с другими социокультурными явлениями находится в диапазоне от теснейшей причинной связи до нулевой, от связей с C и D или M и до связей с десятками других социокультурных переменных.
В-пятых, следует признать, что причинные связи в социокультурных явлениях вообще совершенно отличны от связей в атомистичных несистемных совокупностях, агрегатах (congeries). В силу этих и многих других причин вряд ли можно говорить, что между социокультурными явлениями существуют чисто причинные связи, такие как в физических, химических и даже биологических явлениях. Скорее в этой области мы находим большей частью связи по значению и типологические связи (Sinn-Ordnung, Sinn-Zusammenhaenge, Verstehende (*) и идеально-типические взаимосвязи В. Дильтея, Г. Риккерта, Макса Вебера, Т. Литта Г. Гайгера и других представителей школы Дильтея Макса Вебера) или взаимосвязи "динамической групповой оценки (dynamic group assessment) (Макайвер), или то, что я называю значаще-причинными связями. Вряд ли возможно изучать эти специфические связи, механически применяя к ним догматические правила статистических методов, методы индукции или любые другие правила и методы той или иной естественной науки. Точность результатов таких исследований обманчива. Необходимы иной подход, иные методики, учитывающие "значащую составляющую" социокультурных явлений (отсутствующую в физико-биологическом мире), так как эта составляющая играет ведущую и решающую роль и является "ключом" как к простейшим, так и к сложнейшим системам значаще-причинных, статистических и динамических связей в социокультурном мире.
10.
Структурный функционализм в антропологии.Творчество А.Р.Радклифф-Брауна.
А.РЭДКЛИФФ-БРАУН (1881 -1955) родился в Англии в г. Бирмингеме. В 1901 -1906 гг. учился в Кембриджском университете на кафедре социальной антропологии. В 1906-1908 гг. проводил полевые исследования на Андаманских островах. В последующие годы изучал жизнь аборигенов Австралии, путешествовал по Африке, Китаю и другим странам. Долгое время преподавал социальную антропологию в Австралии, ЮАР и США. В 1938 г. после двадцатичетырехлетнего отсутствия вернулся на родину известным ученым. Здесь ему предоставили пост заведующего кафедрой социальной антропологии Оксфордского университета. Его основные труды - "Андаманские острова" (1922), "Метод этнологии и социальной антропологии" (1923), "Историческая и функциональная интерпретация культуры" (1929).
Антропология понималась А.Рэдклифф-Брауном как наука о человеке и всех аспектах человеческой жизни (включая физическую антропологию и археологию). Науку о культурах он делил на две части - этнологию и социальную (культурную) антропологию. Этнология представляет собой конкретно-историческое изучение отдельных народов, их внутреннего развития, культурных связей между ними. Основной метод этнологии - историческая реконструкция. Социальная же антропология имеет своей задачей поиски общих закономерностей социального и культурного функционирования и развития. Особенностью научного кредо А.Рэдклифф-Брауна являлось то, что он, в отличие от Б.Малиновского, не отрицал и исторического изучения культур.
Общетеоретическая концепция А.Рэдклифф-Брауна опиралась на утверждение, что все виды объективной реальности представляют собой различные классы естественных систем (атом, молекула... организм... общества людей). Он поддерживал точку зрения Э.Дюркгейма, что общество есть особая реальность, несводимая к индивидам. Любая система определяется: а) единицами (элементами), ее составляющими и б) отношениями между ними. Единицами социальной системы являются "человеческие существа как совокупности поведенческих явлений, а отношения между ними - это социальные отношения"(3). Социальная система состоит из: а) социальной структуры, б) общей совокупности социальных обычаев и в) специфических образов мыслей и чувств, связанных с социальными обычаями.
После 1931 г. А.Рэдклифф-Браун понимает предмет социальной антропологии более узко. Он отказывается даже от понятия "культура", используя вместо него понятие "социальная структура". Это привело к тому, что основными аспектами его исследований стали политическая организация различных культур, особенности систем родства и их роль в социальных системах, функциональный анализ структур первобытных форм верований.
Сверхзадачу своих исследований "примитивных культур" А.Рэдклифф-Браун видел в том, чтобы на основании понимания и анализа относительно простого, архаичного общества совершенствовалась индустриальная цивилизация.
Особенностью функционалистской теории культур (в большей степени это касается учения А.Рэдклифф-Брауна) была практическая направленность исследований. Сторонники этого подхода стремились создать социальную антропологию как прикладную науку, обеспечивающую решение актуальных практических задач, прежде всего в колониях Великобритании. В первую очередь - это управление на территориях с доминированием традиционных культур. Не без влияния установок функционализма была разработана концепция "косвенного" управления, т.е. с опорой на традиционные институты власти и сложившуюся социальную структуру. А эта практическая задача требовала ответа на ряд вопросов, а именно: какова иерархическая структура власти? на чем основан авторитет вождей? каковы их общественные функции? Таким образом, одним из важнейших итогов развития функционализма была постановка и попытка решения задачи управления в культурах, имеющих иную природу, нежели западноевропейские. Осуществить это начинание предполагалось на основе знания структуры и функциональной значимости элементов культур как целостных образований.
В функционалистском исследовании культур по-новому был сформулирован вопрос о дальнейшей судьбе, будущем "примитивных" культур. Сторонники рассматриваемого подхода не разделяли идей эволюционистов в оценке культур ("лучшее" - значит более развитое) и не поддерживали их теорию обязательного стадиального развития всех культур в соответствии с эталонами европейской цивилизации.
Долгое время Б.Малиновский придерживался точки зрения максимального сохранения архаичности культур, их традиционного образа Жизни. Более сложным оказалось решить задачу будущего развития "примитивных" культур в случае их тесного взаимодействия с индустриальной цивилизацией, приводящего к неизбежной трансформации, эрозии архаичных обществ. Выход из таких ситуаций Б.Малиновский видел в помощи со стороны более развитых стран в процессе адаптации к технологической цивилизации. Конечно, можно критиковать Б.Малиновского за его наивно-утопический взгляд на социальные процессы, происходившие в колониях Британской империи, но все же необходимо признать, что именно он сформулировал вопрос о взаимодействии современных и традиционных культур и показал его сложность.
Еще одним существенным итогом развития функционализма стала его нацеленность на понимание других типов культур, необычного, с точки зрения европейцев, образа жизни, стремление изучить культуру изнутри, осознать иные культурные ценности. Указанные аспекты функ-ционалистского понимания культур были развиты не только последователями функционализма, но и исследователями культур, не относящихся к данному направлению, например М.Херсковицом в его культурно-антропологической концепции. Из наиболее известных продолжателей структурно-функционального подхода необходимо назвать Э.Эванс-Притчарда (1902-1973) и его классический труд "Нуэры" (в 1985 г. издан на русском языке). К последователям функционализма относятся также М.Фортес, Р.Фёрс, М.Глукмэн.
Структурно-функциональный подход оказал существенное влияние на социологию США, в первую очередь на творчество Т.Парсонса, который применил структурно-функциональный подход для изучения современной индустриальной культуры. Важнейшим объектом исследования стали США. Рассматривая общество как целостную систему, стремящуюся сохранить стабильность, Парсонс выделил ряд функциональных подсистем (семья, образование, экономика и др.), обеспечивающих в сумме взаимодействий равновесное состояние. Центральный предмет его исследований - интеграция личности, социальной системы и культуры. Основная работа - "Социальная система" (1951).
Значение функционализма для культурологии состоит также и в том, что та или иная культура стали рассматриваться учеными под углом зрения выполнения различных функций. В свою очередь, нередко понятие культуры сводится к совокупности выполняемых ею функций. Выделение функций культуры как целостного образования определяет направления в изучении культур и образует иерархическую структуру из функциональных подсистем этнокультурных общностей. Предметом анализа обычно являются: 1) субстанциальная, или поддерживающая, функция, обеспечивающая выживание общности; 2) адаптивная, или приспособительная, функция, служащая для поддержания более или менее гармоничных отношений между природным окружением и этнокультурной общностью; 3) функция сохранения и воспроизводства традиций, религиозных верований, ритуалов, а также истории народа; 4) символически-знаковая функция культуры, состоящая в создании и воспроизводстве культурных ценностей; 5) коммуникативная функция культуры, направленная на обеспечение общения, передачи информации, понимания других культур; 6) нормативно-регулятивная функция культуры, состоящая в поддержании некоего равновесного состояния в общности, содержащая институциональные формы разрешения конфликтов; 7) компенсаторная функция культуры, основное назначение которой - разрядка эмоционального и физического напряжения.
Исследования в области функционализма Б.Малиновского.
Одним из основателей функционализма является известный британский антрополог польского происхождения БрониславМалиновский (1884-1942). В основе творческой деятельности Б.Малиновского лежат длительные полевые исследования, проведенные в 1914 – 1918 гг. на Новой Гвинее и в Меланезии. Б.Малиновский написал серию книг, широко известных научной общественности всего мира: «Коралловые сады и их магия», «Основание веры и морали», «Секс, культура и миф», «Научная теория культуры». В трудах британского антрополога разработаны оригинальная концепция культуры, понятия « институт» и «функция», методология функционального анализа. В России и за рубежом концепция Б.Малиновского подвергалась серьезной критике, однако исследователи вновь и вновь обращаются к ней как одной из авторитетных концепций. Имя Б.Малиновского находится не только среди основателей британской социальной антропологии, но и американской культурной антропологии.
В основе концепции культуры Б.Малиновского лежит теория потребностей. Исследователь рассматривает культуру как вещественную и духовную систему, посредством которой человек обеспечивает свое существование и удовлетворяет возникающие потребности. Потребности разделяются на два вида: основные биологические потребности и производные. Б.Малиновский считает, что культура возникает под воздействием биологических потребностей, которые выступают как стимулы для процессов добывания пищи и топлива, для строительства жилья, для создания одежды и т.д. Удовлетворение биологических потребностей (воспроизводство, защита от сырости, ветра, отдых и др.) приводит к преобразованиюокружающей среды, к формированию нового, искусственно создаваемого окружения, которое и выступает как культура. Производные потребности порождаются не природой, а культурной средой. Они возникают тогда, когда возникает культура. К производным потребностям Б.Малиновский относит потребности в экономическом обмене, авторитете, социальном контроле, системе образования и т.д.[1]
Важное место в концепции культуры Б.Малиновского занимает понятие «институт». Культура, в его представлении, это есть единство социальных институтов, таких как: семья, клан, локальное сообщество, образование, социальный контроль, экономика, системы знаний, верований и морали, а также различные способы творческого и артистического самовыражения[2]. Исходя из такого понимания, Б.Малиновский делает вывод о необходимости изучения культуры через социальный институт. Особенностями этой функциональной единицы, по его мнению, являются обязательная связь между ее элементами, конкретность, т.е. возможность ее наблюдения, наличие универсальной структуры, обособленность, связь с первичными или производными потребностями. В структуре института выделяются хартия (идеологическое обоснование института), определенный состав, определенные нормы поведения, материальное оснащение ( собственность, материальные объекты и т.п.)[3]. Важнейшими типами институтов, по мнению Б.Малиновского, являются: 1. Семья, расширенная семейная группа, клан, фратрия; 2. Все организованные и кристаллизовавшиеся группировки, определяемые полом и возрастом (тотемные половые группы, возрастные группировки, организованные лагеря, создаваемые для посвящения в женщины и в мужчины, мужские секретные общества, клубы и т.п.); 3. Профессиональные институты (образование, экономика, судопроизводство, магический обряд, религиозное богослужение). Эти теоретические положения о социальных институтах могут быть рассмотрены как структурная модель культуры.
Наряду с институтом центральное место в концепции Б.Малиновского занимает понятие «функция». Ученый подчеркивает важность определения культурных феноменов через их функцию, чтобы избежать фантастических эволюционных схем или раздробленных истолкований отдельных элементов. Понятие функции рассматривалось им в качестве эвристического инструмента при изучении институциональных групп. Каждый элемент культуры считается им не как что-то случайное или ненужное, а как образование, выполняющее определенную функцию, как необходимое звено целостной системы культуры. Исследователь подходит к определению функции через понятие полезности и взаимосвязи, через удовлетворение определенной потребности человека. «…Под функцией, – пишет Малиновский, – всегда подразумевается удовлетворение потребности, идет ли речь о простейшем акте употребления пищи или о священнодействии, участие в котором связано со всей системой верований, предопределенной культурной потребностью слиться воедино с живым Богом» [4]. Потребность в пище лежит в основе таких процессов, как: сбор плодов и корней, ловля рыбы, охота на животных, дойка и убой домашнего скота. Добывание и поддержание огня соотносится с приготовлением пищи и поддержанием тепла. Б.Малиновский считает, что любой элемент материальной культуры, любой обычай, любую идею можно поместить в какую-то организационную систему человеческой деятельности. Например, добывание огня можно рассматривать как интегральную часть института домашнего хозяйства, охоты, рыбной ловли или детской игры. Ученый дает определения функций семьи, клана, локальной группы. При этом понятие функции он определяет как вклад, вносимый в упрочение социальной текстуры, в более широкое и организованное распределение благ и услуг, а также идей и верований. Малиновский критически оценивает предшествующие школы и учения. В частности, он подвергает критике эволюционизм, метод пережитков Э.Тайлора. Исходя из своей теоретической концепции, Малиновский выступает за сохранение традиционного образа жизни представителей архаичных культур. Чтобы сохранить образ жизни местных народов в Африке, им предлагается сегрегация, т.е. отделение этих народов, отдельное их проживание. Малиновский осуждает грубое вмешательство колониальных чиновников в жизнь коренного населения, выступает против запрета отдельных обычаев и традиций туземных народов, т.к. это могло нанести вред культуре этих народов [5]. Методология и техника антропологического исследования разрабатываются Б.Малиновскимв его книге «Аргонавты западной части Тихого океана», опубликованной в 1922 г.
Функционалистская концепция Б.Малиновского имела и имеет до сих пор значительное число сторонников, в то же время она неоднократно подвергалась критике. Сторонники Малиновского отмечают большое значение его теории потребностей, видят в ней методологию проведения антропологических исследований. Противники критикуют за биологизаторство культуры (К. Леви-Строс)[6], за тривиальность, многословие, описательность и упражнение в философском прагматизме (Э.Эванс-Причард)[7], за откровенный антиисторизм (С.А.Токарев)[8] и за многое другое. Однако, несмотря на критику, учение Б.Малиновского до сих пор привлекает внимание исследователей. Ни один серьезный культуролог или этнолог, говоря о культуре, не обходит вниманием теорию британского антрополога. Российский этнолог А.А.Никишенков отмечает, что антропология в послевоенной Великобритании развивалась на теоретических основаниях, сформулированных Рэдклифф-Брауном и Малиновским. Более того, он допускает, что можно говорить о двух линиях развития структурно-функциональной традиции: структуралистской, восходящей к Рэдклифф-Брауну, и интуитивно-беллетристической, связанной с Малиновским
Функциональная теория культуры (Мельник присылал текст)
В описании феноменов частичного консерватизма, быстрого отхода от племенного уклада, выбора в пользу одних элементов и возникновения трудностей аккультурации в отношении других на место расплывчатых терминов должен встать гораздо более полный анализ. Решение этих проблем можно отыскать только посредством функционального анализа туземного общества, с одной стороны, и признания ценности политики уступок со стороны европейцев - с другой. Часто особый упор делается на быстрое восприятие наших культурных ценностей африканцами; однако, как мы увидим, гораздо большую важность имеет постепенное привитие культурных благ, шаг за шагом осуществляемое европейцами. «Избирательному консерватизму» африканской стороны соответствует избирательное воздействие передающих свои ценности европейцев, сопровождаемое избирательным присвоением таких благ, как земля, природные ресурсы, результаты африканского труда, политическое владычество правителей, социальный статус и самоопределение любого и каждого африканца. С щедростью распространяя блага своей культуры, европейцы допускают дискриминацию ничуть не менее той, что демонстрирует африканец, когда берет то, что ему предлагают. Обратимся к анализу сил консерватизма внутри африканского общества.
С точки зрения метода и теории полевой работы, наиболее важный принцип заключается в функциональной концепции культуры. Она заявляет, что изучение деталей при отвлечении от их фона неизбежно должно свести на нет теорию и полевую работу, так же как и решение практических задач. Современный антрополог функциональной школы полностью сознает, что ему нужно упорядочить имеющиеся у него свидетельства, соотнести обычаи, верования, идеи и практические дела с базовым ядром, вокруг которого они группируются. Для функционалиста культура - основополагающие принципы мировоззрения, свойственные ее социальным группам, человеческие мысли, верования и обычаи, — составляет огромный аппарат, посредством которого человек ставится в позицию, позволяющую ему наилучшим образом справляться с конкретными проблемами, встающими перед ним в процессе его адаптации к окружающей среде при удовлетворении его потребностей. Я позволю себе вкратце очертить основоположения функциональной теории культуры.
Следует принять как аксиому то, что человеческие существа должны питаться; что они должны размножаться; что они должны быть обеспечены кровом, личными удобствами, элементарными условиями гигиены и приемлемым температурным режимом. Антропологическая теория должна выбрать в качестве основания биологический факт. Ведь человеческие существа все-таки — это разновидность животных, и для них столь же необходимо сохранять соответствие ряду элементарных требований, для того чтобы раса могла продолжить существование, индивид - выжить, а организм - поддерживаться в рабочем состоянии.
Пока все хорошо. Однако могут встретиться и такие утверждения (например, у Дюркгейма), что предмет социальной науки необходимо отличать от предмета физиологии и не сближать эти дисциплины. Это невозможно. Потому что хотя человеческие существа и принадлежат к животным, они суть животные, подчиняющиеся не простым физиологическим стимулам, но испытывающие воздействие таких физиологических стимулов, которые моделируются и преобразуются условиями культуры. Пища, которой кормится австралиец или бушмен, не будет приемлема для европейца. Размножение среди человеческих существ происходит не посредством простого спаривания, но в рамках сложнейшего культурного института брака. Формы родственных отношений, как и полового влечения, определены условиями культуры, здесь физиологические стимулы действуют не в чистом виде, они сочетаются с иными факторами - с желанием дружеского общения, с потребностью в экономическом сотрудничестве, общественным положением и духовной совместимостью. Все это обусловливается тем фактом, что импульс полового влечения не ведет и не может вести к производству новых человеческих существ. Акт порождения себе подобного существа имеет образовательные, экономические, правовые и моральные последствия. Телесное движение совершается не на основе чисто инстинктивных образцов действия, но совершается в формах, порождаемых многообразием человеческих общностей, которые мы называем племенами, нациями и культурами, оно организуется в сложнейшие специфические роды деятельности, связанные с технологией, транспортом, играми и экономической деятельностью. Наверное, можно было бы продемонстрировать, что даже такие процессы, как дыхание, пищеварение и сон, отношение к воздействию на тело солнца, ветра и осадков, в человеческих существах никогда не контролируются исключительно врожденными физиологическими рефлексами, но преобразуются под воздействием культурных детерминант. Человеческие импульсы — склонности, формирующие пристрастия человека, стимулы, приводящие мужчин и женщин к действию, — диктуются физиологией, преобразованной в приобретенную привычку.
С этой точки зрения, культура представляется огромным управляющим аппаратом, который посредством подготовки, формирования умений и навыков, обучения нормам и развития склонностей соединяет воспитание с природным материалом и производит существ, чье поведение не может быть определено только путем исследования анатомии и физиологии. Человек, в противоположность животному, никогда не удовлетворяет свои телесные потребности непосредственно. Чтобы добыть себе пищу, он не направляется в огромную кладовую, предоставляемую окружающей средой, но вступает на более или менее обходной путь, каковым является экономическая эксплуатация окружающей среды. Даже народы, добывающие еду посредством простейшего собирательства, организуют процесс выкапывания корней, поиска мелких животных и съедобных плодов; они сохраняют и распределяют эту еду, готовят и потребляют ее в организованных группах. Человеческое тело, даже среди народов, у которых нет достойной упоминания одежды, не открыто непосредственно ветру, осадкам и солнцу. Оно предохраняется культурным панцирем, в качестве какового выступает укрытие или жилище; оно согревается огнем и защищается от ветра или солнечных лучей. Кроме того, человек никогда не преодолевает жизненные трудности в одиночку. Люди организуются в семьи; индивид живет в сообществе, где принципы власти, лидерства и иерархии определены культурными устоями.
Но технические умения и организация, основываются еще на одной специфически человеческой характеристике — на развитии символизма, то есть формировании абстрактных понятий, воплощенных в первую очередь в языке. Язык и абстрактное мышление суть средства познания, веры, правовых систем и племенных законоположений. Благодаря использованию языка делаются возможными традиция и образование, то есть обеспечение непрерывности традиции. Индивидуальный жизненный опыт преобразуется в коллективное знание человечества, временами ограниченное, но все же ведущее человека к беспрецедентному господству над окружающей средой.
Мы начали с аксиомы, что культура есть инструментальная реальность, аппарат для удовлетворения фундаментальных потребностей, то есть для органического выживания, приспособления к окружающей среде и обеспечения непрерывности в биологическом смысле. К этому мы добавили, что при культурной обусловленности удовлетворение жизненно важных потребностей достигается косвенным, обходным путем. Человек использует орудия, прикрывает себя одеждой и прячется в пещерах и хижинах, укрытиях или шатрах. Он использует огонь для согревания и приготовления пищи. Тем самым он преобразует свои анатомические данные во всех этих контактах с физическим окружением. Он делает это не в одиночку, но организуется в группы. Организация означает передачу умений, знаний и ценностей.
Наше рассуждение ведет нас к выводу, что культурное удовлетворение первичных биологических потребностей налагает на человека вторичные, или производные императивы. Вся совокупность материального инструментария культуры должна производиться, поддерживаться, распределяться, использоваться и оцениваться. Экономическая организация, пусть рудиментарная, неизбежна для каждого человеческого сообщества. Она состоит из системы традиционных правил, техники, форм собственности и способа применения и потребления объектов. Функциональный подход к сравнительному исследованию культур постулирует, что даже в самых примитивных обществах надо проводить изучение систем производства, распределения и потребления. Оно должно быть направлено в первую очередь на формирование таких понятий, как собственность (особенно на землю), разделение труда, стимулы, богатство и ценность. Ценность как главный мотив организованного человеческого усилия, как принцип, по которому человеческим существам суждено сотрудничать, производить, поддерживать богатство и окружать его верованиями на основе религии и личного чувства, должна существовать даже на самых примитивных стадиях развития.
Тем самым мы определили экономический аспект компаративных исследований культур. Мы утвердили принцип, согласно которому та или иная форма экономической системы есть универсальная характеристика всякой организованной человеческой жизни, коль скоро она соответствует универсальному, хотя и производному, императиву.
Другой производный, но при этом универсальный, аспект культуры как целостности можно было бы описать как нормативность. Человек достигает господства над окружающей средой посредством сотрудничества. Сотрудничество означает жизнь в сообществе. И сотрудничество, и жизнь в сообществе подразумевают и готовность идти на жертвы, и объединение усилий, и подчинение частных интересов общей выгоде — короче говоря, существование общезначимых правил, власти и принуждения. Сосуществование и сотрудничество в группах, пусть даже простых и малых, связано с наличием искушений, связанных со всем, что касается полового импульса, использования пищи и владения богатством, удовлетворения амбиций, демонстрации власти. Положение, лидерство, власть и иерархия — это социальные признаки, которые должны были существовать уже в самых ранних формах цивилизации, хотя на низких уровнях развития общества они могли преимущественно ассоциироваться с такими факторами, как возраст, пол и положение в семье. Функциональный подход к нормативным проблемам не позволяет нам сбиться с пути из-за отсутствия формальных и институционализированных типов законодательства, правосудия или кодификации норм. Законодательство, эффективные санкции и соблюдение племенных обычаев часто существуют в качестве побочных продуктов других видов деятельности.
Власть часто может быть облечена в форму безусловного авторитета главы семьи, старейшин клана или вождя. Кодификация племенных правил воплощается в нормах взаимоотношений, относящихся к браку, отцовству и материнству, к экономической деятельности и к правилам ритуала. Все они, хотя, возможно, и не всегда в явной форме кодифицированы, обязательно известны всем членам общества. Судебная тяжба может принимать форму более или менее дружественной дискуссии, но коль скоро закон, пусть и примитивный, не может работать автоматически, подразумевая принуждение и приспосабливание, то даже в простейших формах культуры существуют различные виды споров и ссор, взаимные обвинения и формы приспособления к тем, кто облечен властью. Все это соответствует судебному процессу в более высокоразвитых культурах. Более того, анализ норм поведения обнаружил бы, что даже в первобытных сообществах нормы могут быть распределены на правовые установления, обычаи, этику и нравы. Те правила, которые определяют устройство семьи, сущность брака, счет родства, родственные отношения и устройство политической власти, принципы землевладения и формы собственности, — это подлинные нормы первобытного права. Нормативный и законодательный аспект сообщества, таким образом, является вторым производным императивом культуры, и именно в том, как удовлетворяются данные требования, нам нужно будет искать механизмы кодификации, осуществления судебного процесса и реализации санкций в каждом человеческом сообществе.
Само существование закона подразумевает использование принуждения и применение власти как его последней санкции. Во всех группах существует еще одна причина, по которой необходимо ожидать воздействия некой формы организованной силы, и эта причина связана с внутриплеменными отношениями. Безопасность во владении племенной территорией, возможность агрессии и потребность в коллективной защите образуют то, что можно было бы назвать вторичным императивом политической организации.
Существует еще один императив, налагаемый культурой на каждую человеческую группу. Коль скоро культура — это совокупность достижений многих поколений, то должны быть пути и средства, чтобы передать это общее богатство от одного поколения другому. Потребность в подобных системах мы можем назвать образовательным императивом. Здесь вновь функциональный подход заставляет нас посредством тщательного изучения свидетельств, повествующих о былой жизни, исследовать, каким образом осуществляется связь между семейной жизнью или общими играми, обрядами инициации или ученичеством, членством в клубе, клане, деревенской общине, сообществе и племени, с одной стороны, и подготовкой и обучением, внедрением техники, передачей правил мастерства, принципов знания, социальных норм и моральных максим — с другой.
Эти четыре инструментальных императива, как мы могли бы их назвать, — экономическая организация, нормативная система, властно-силовая организация, то есть политическое устройство, и механизмы и органы образования, — не исчерпывают всего того, что наследует культура через воздействие вторичных, или производных, императивов на примитивные или, равным образом, развитые человеческие группы. Материальное основание культуры и соотнесенное с ним человеческое поведение, то есть технические умения и правила сотрудничества, поддерживаются, регулируются и сохраняются благодаря целому корпусу традиционных знаний. Это становится возможным благодаря языку — инструменту, с помощью которого человек может формулировать правила универсальной значимости и сжимать их до словесных понятий. Каждой системе стандартизированной технологии действия соответствует определенная система знания. Действие должно основываться на предвидении и на понимании контекста, то есть тех условий, в которых человек должен действовать. Результаты прошлого опыта в каждом сообществе, пусть даже первобытном, уложены в системы знания — непреложного, стандартизированного и в то же время пластичного. Ибо человек сообщается с природой и своими собратьями посредством конструктивного и образного разрешения каждой проблемной ситуации при се возникновении. Однако такая деятельность на основе предвидения всегда основана на опыте предыдущих успехов или неудач.
Системы человеческого знания, основанные на реальном опыте и логической аргументации, существуют даже в среде первобытных людей, находящихся на самых низших ступенях развития. Они должны были существовать с того самого момента, когда человек взял в руки свои первые инструменты, открыл полезность огня и произнес первые значащие звуки. Широко распространенное ложное представление о том, что у первобытного человека не было даже малейших начатков науки, что он живет в туманном, мистическом или младенческом мире, может быть опровергнуто на основе рассмотрения очевидного факта: Ни одна культура, даже первобытная, не могла бы выжить, если бы ее искусства и ремесла, ее оружие и экономическая деятельность не были основаны на достаточно прочном эмпирическом и логическом знании. Та первобытная группа, которая смешивала бы науку с магией или опыт с мистикой, не могла бы на практике ни добывать огонь, ни осуществлять производство прочных инструментов, ни сооружать убежища от ветра, если в любой момент ее подстерегала опасность спутать две разные вещи: результаты обучения, основанного на опыте и разуме, и плоды всплеска мистической фантазии. Сам факт, что аборигены Австралии, чуть ли не наиболее примитивные из всех известных нам народов, производят и производили из поколения в поколение такой безусловно сложный инструмент, как бумеранг, — для теоретического объяснения конструкции и траектории полета которого требуется математическое исчисление, показывает, сколь внимательное отношение может поддерживаться в первобытной культуре к строго научному достижению. Таким образом, знание как способность различать эмпирический факт и здравое рассуждение и следовать их требованиям в целом есть следствие культурного поведения даже на наиболее первобытных стадиях развития общества.
Знание, обусловливающее превосходство человека над животным миром, в то же время наложило на человечество бремя известных требований. Ибо знание невозможно без формирования систем. Человек, пусть даже первобытный, должен мыслить ясно. Он должен оглядываться назад и вспоминать. Он должен также смотреть вперед и предвидеть, он должен адаптировать к настоящему свой прошлый опыт. Но хотя человек живет в соответствии с разумом, все же даже на самых ранних стадиях своего развития он живет не только разумом. Память и предвидение, творческое мышление и предчувствие относятся к тем предметам, от которых внутренне зависят человеческое благополучие и удовлетворение человеческих потребностей. Здесь вступают в игру сугубо человеческие эмоциональные реакции. Именно способность к расчетам последствий и систематическое мышление сделали человека существом, подверженным страху и в то же время питающим надежду, испытывающим желания и в то же время терзаемым сомнением. Человек единственный из всех животных не живет в настоящем. Культура делает для него невозможным вести существование, довольствуясь минимумом, мгновение за мгновением, — как в духовном, так и в материальном смыслах.
Наиболее разумные расчеты человека практически или эмоционально никогда не могли решить для него проблемы, связанные со смертью, несчастьем или природными катастрофами, такими как засуха и дождь, землетрясения и вспышки чумы. Проявление подобных ударов судьбы не обязательно провоцирует рефлексию и мышление. Но они подталкивают человеческую группу к принятию мер. Смерть индивидуума дезорганизует группу. Она разрушает планы действий, в которых умерший мог бы участвовать в качестве руководителя или советчика. Подобное событие к тому же затрагивает лично каждого индивида, так как оно принуждает его к размышлению по поводу его собственного будущего.
Когда мы рассматриваем первобытные системы религии и магии, анимизма и поклонения природе в связи с человеческой психологией, с феноменом утраченных надежд, пробудившихся страхов и тревог, нарушенных вмешательством судьбы расчетов, мы видим, что религиозное верование и ритуал содержат в себе организованный и стандартизированный ответ на подобные ситуации. В ритуальном поведении человеческих групп при погребении и траурных действиях, при поминальных обрядах и жертвоприношениях умершим мы обнаруживаем проявление убежденности в том, что смерть не реальна; стремление показать, что у человека есть душа, и благодаря этому ослабить неверие, — стремление, возникающее из глубокой потребности преодолеть страх перед перспективой личной гибели. Причина появления этой потребности заключается не в каком-либо психологическом «инстинкте». Она определена культурными факторами сотрудничества и возрастания человеческих чувств в семейной жизни, в товарищеских отношениях при совместной работе и при совместной ответственности. Во всех фактах анимизма и поклонения предкам, отправления культа мертвых и веры в общение между умершими и живущими мы видим прагматически значимое отрицание смерти и утверждение неизменности человеческих ценностей и реальности человеческих надежд.
Эти аспекты религии, в которых переломные точки жизни сакрализуются — то есть наделяются ценностью, важностью, — оказывают влияние и на сплоченность общества, и на развитие моральных качеств индивидуума. Мифология религии, столь тесно связанная с социальным устройством общества, с его ритуалом и с его практическими заботами, должна быть рассмотрена как нечто определяющее моральное, законное и ритуальное поведение людей, давая ему образец в качестве священного прецедента.
По всей вероятности, сказанного достаточно, дабы показать, что для функционалиста религия является не эпифеноменом культуры, но глубинной моральной и социальной силой, благодаря которой человеческая культура обретает окончательное единство. То, что обычно называют магией и что часто оставляют в стороне как примитивную и несостоявшуюся науку, также представляет собой прагматически важную культурную силу. Внимательное изучение воздействия магии обнаружило бы то, что магия никогда не посягает на место, занимаемое техникой, и не стремится стать предметом практической работы. Магия никогда не проявляется в добывании огня, в производстве каменных орудий, в обработке глины, в приготовлении пищи, в чистке или умывании. Но в любом типе деятельности, где случайные и непредвиденные силы могут оказаться причиной нарушения человеческих расчетов, обязательно вступает в действие магия. Так, на войне и в ухаживаниях, в занятиях, зависящих от дождя и засухи, ветра и прилива, мы встречаем магические верования и ритуал. Более того, детальный анализ отношений, существующих между актами магии и практической работой, обнаруживает, что магия психологически ведет к интеграции душевных свойств личности посредством утверждения в мироощущении индивида позитивных состояний оптимизма и уверенности в успехе. Ведь магия есть убежденность в том, что путем произнесения подобающего заклинания и совершения определенных ритуальных жестов человек может овладеть ситуацией, подчинить своей воле все, что в богатой превратностями судьбе есть неподвластного расчету, опасного и враждебного. Магия есть сверхъестественная техника, при помощи которой человек в своем тщеславии может осуществить все то, что его рациональной технике совершить не удается. Там, где магия практикуется в широком масштабе и ее ритуалы осуществляются от имени организованных групп людей, она к тому же учреждает лидерство, усиливает организацию и вводит дополнительный фактор дисциплины, порядка и взаимного доверия.
Есть еще один сложный и крайне важный аспект культуры. Речь идет о том аспекте, какой имеет отношение к творческой деятельности людей и проявляется в танце и декоративном искусстве, в ранних стадиях использовании языка в искусстве и в музыке. Все виды художественной деятельности, с одной стороны, опираются на физиологию чувственного возбуждения, процессы мускульной, а также нервной деятельности. Другой функциональный аспект искусства, также как и спорта, игр и развлечений, имеет огромную практическую важность для антрополога. Потому что все формы разрядки и художественной стимуляции нервной и мускульной систем являются, с одной стороны, условием здоровой совместной жизни, а с другой — обогащающими факторами в культурном развитии и прогрессе.
Есть также теоретический аспект, на который я до сих пор не обращал в полной мере внимания и на который здесь можно только указать. Он сводится к тому факту, что в исследовании любой организованной человеческой группы результаты необходимо документировать на основе совокупности материальных инструментов, использовавшихся в деятельности; последним, но не менее важным дополнением будет указание на обязательность лингвистического документирования ключевых понятий, текстов и высказываний. Я поспорил бы с каждым, кто попытался бы привести пример хоть одного материального объекта, который нельзя было бы включить в организованную институциональную систему. Невозможно найти такой лингвистический оборот, который нельзя было бы включить в традиционную форму взаимодействия. Исследование социальной организации останется бесплодным, повиснет в воздухе, если мы не определим конкретное место данной организации в общем контексте и не установим ее правовые основоположения, основываясь на туземных текстах. В этом рассуждении подразумевается еще одно важное понятие функционального анализа: понятие института, или организованной системы человеческой деятельности. Оно проистекает из уточненного нами принципа, в соответствии с которым так называемые элементы, или «черты», культуры не образуют собой простую смесь слов, орудий, идей, верований, обычаев, мифов и правовых принципов, но всегда объединены во вполне определенные целостные комплексы, для которых мы выбрали название «институт». Мы можем определить институт как группу людей, объединенных ради занятий простой или сложной деятельностью, всегда располагающую материальными средствами и техническим оборудованием, организованную на основе определенной правовой или обычной совокупности норм, которая лингвистически оформлена в мифе, легенде, правиле и максиме, и обученную, или подготовленную, для осуществления своей задачи.
Важность этого понятия состоит в демонстрации того, что во всем многообразии спектра культур, существующих в человеческом обществе, возникают одни и те же институты. Семья, то есть группа, состоящая из мужа, жены и их детей, универсальна. Задачи, ради которых они, в соответствии с представлениями о законном браке, оказываются связаны друг с другом, — это произведение потомства, совместное производство и потребление в рамках домашнего хозяйства, воспитание детей и забота о них, а также выполнение домашних обязанностей. Более того, правовое основание семьи включает в себя определение законности рождения детей, правил наследования, распределения власти в семье, разделения труда и других экономических функций. Семья всегда ассоциируется с типом поселения; она сосредоточена вокруг центра — домашнего очага — и наделена семейными землями и другими владениями.
Все, что только что было сказано, складывается в универсальное определение семьи. Каждый антрополог из тех, кто занят полевой работой, вполне может применить это определение к частной культуре, выступающей предметом его исследования, и дать конкретные ответы на вопросы о том, основана ли семья в этой культуре на патрилинейном или матрилинейном принципе брака; связана ли она с патрилокальным или матрилокальным принципом; основана ли на соглашении, поддерживаемом экономической сделкой или обменом родственниками, или же к тому же связана гарантией взаимных услуг.
Подобным же образом возможно определить расширенную группу родства, клан, локальную или муниципальную общину, дать понятие племени и понятие нации. Существуют также типичные институты менее универсального характера. Так, в некоторых сообществах мы обнаруживаем формализованные возрастные уровни, или свое правовое основание, свод правил, регламентирующих представления о старшинстве и пределах дозволенного для каждого класса. При этом каждый уровень наделен различными функциями — военными, экономическими, ритуальными и юридическими — и обеспечен различным материальным оборудованием, таким как дома холостяков и старых дев и места для обрядов инициации, а также имеет определенный экономический статус, располагая известной долей в собственности, находящейся в совместном владении возрастной группы.
Если бы мы взялись тщательно исследовать, каким конкретно способом разрабатываются такие стороны упорядочения социальной жизни, как экономика, политическая организация, право или образование, мы бы обнаружили, что внутри каждой из них существуют профессиональные или специально рекрутированные группы людей, организованным образом осуществляющих определенный тип деятельности. Так, наше видение экономики следующим образом описывает общие фазы процесса: производство, обмен и потребление. В конкретной реальности, однако, мы бы обнаружили, что производство может состоять из земледельческой, скотоводческой или промышленной видов деятельности. Земледелие временами осуществляется на основе семьи, и в таком случае этот институт также представляет собой производительную земледельческую единицу. Но чаще мы находим, что для обработка почвы образуется специальная группа людей под руководством вождя, местного главы или, возможно, человека, занимающегося растительной магией. Подобная команда, опять-таки, является институтом в том смысле, что она работает на основе правового основания землевладения, обмена услугами и раздела зерновых, включая сюда дань вождю, главе или колдуну. Члены группы, совместно возделывающие почву, также являются владельцами территории, которая может управляться индивидуумом под совместным контролем всех участников группы. В управлении правовой сферой мы можем встретить, как уже подробно показано, более или менее выкристаллизовавшуюся систему стражей и хранителей обычного права, иначе знание правил и их отправление могут попасть в сферу действия групп, организованных на других принципах.
11.
ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ ПО МЕТОДИЧКЕ
12.
Основываясь на данной онтологической концепции, Мертон выявил и разработал два специальных направления социологического анализа: функциональный и структурный анализ. Для него «суть функционализма состоит в объяснении явлений путем установления их последствий для больших структур, в которые они включены». После публикации его знаменитой «Парадигмы для функционального анализа» (1949), где в общих чертах он наметил поразительно ясный, глубоко переработанный вариант функционализма, применимый для концептуализации социального конфликта и социального изменения, в Мертоне стали видеть олицетворение функционализма. Поэтому, когда четверть века спустя он написал книгу «Структурный анализ в социологии» (1975), в которой было представлено соответствующее социологическое направление, некоторые рассматривали это как решительный разрыв с функциональным анализом, отказ от прошлых убеждений и создание принципиально нового направления. Скорей всего, Мертон рассматривал структурный анализ как естественное развитие функционального, дополняющее, хотя и не заменяющее его. Позиция Мертона весьма определенна: «Разновидность функционального анализа в социологии со временем эволюционировала в разновидность структурного анализа». Функциональный анализ выявляет последствия социального явления для его дифференцированного структурного контекста; структурный анализ устанавливает детерминанты явления в рамках его структурного контекста. Очевидно, что эти направления являются двумя сторонами одной медали, рассматривающими два вектора отношений между социальным явлением и его структурным окружением. Не существует противоречия между Мертоном-функционалистом и Мертоном-структуралистом; оба теоретических направления слились воедино. Это признает П.Блау, когда пишет: «Функциональная парадигма находится под влиянием структурной парадигмы, которая объясняет наблюдаемые социальные модели с точки зрения структурных условий, которые порождают эти модели, и, более того, она дополняет предшествующий анализ, подчеркивая важность выявления функциональных и дисфункциональных последствий этих моделей».
Идея Мертона о социальной структуре, находящаяся в центре его функциональных исследований, включает четыре определяющих критерия. Сфокусированность на отношениях, связывающих различные компоненты общества, прослеживается уже в раннем определении социальной структуры, сформулированном задолго до структурной революции или структурного уклона в современной науке: «Под социальной структурой следует понимать организованный контекст социальных отношений, в которые вовлечены члены общества или группы». Акцент на «смоделированный», регулярный, повторяющийся характер отношений является одним из центральных тезисов, красной нитью пронизывающих работы Мертона; термин «смоделированный» — одно из излюбленных его определений. Как заметил П. Лазарсфельд, «этот термин является
наиболее часто употребимым в работах Мертона. Третий составной критерий социальной структуры — концепция глубокого, скрытого, базового уровня (соответствующая концепция латентных функций в функциональном анализе) — является единственным аспектом в теории Мертона, прямо подверженным логически-лингвистическому структурализму Якобсона, Леви-Стросса и Чомски. По словам Мертона, «аналитически целесообразно различать поверхностный и латентный уровни социальной структуры».
Но, наверное, самым важным для Мертона в понятии социальной структуры является четвертый критерий - идея сдерживающего или вспомогательного влияния, которое социальная структура оказывает на реальные социальные явления (поведение, убеждения, отношения, мотивации и т.д.). Концепция «структурного контекста» и особенно «структурного сдерживания», как ограничивающая эффективное поле деятельности, появляется в ранней «Парадигме для функционального анализа»: «Я убежден, что структура сдерживает индивидов, помещенных в нее для развития культурных потребностей, моделей социального поведения и психологических склонностей. В другой работе он писал: «Поведение есть не просто результат индивидуальных особенностей, но продукт интеракции последних и смоделированных ситуаций, в которых оказывается индивид. Именно эти социальные контексты и оказывают значительное влияние на степень действительной реализации способностей индивида».
Но структурный контекст оказывает не только негативное, но и позитивное влияние, облегчая, воодушевляя, стимулируя определенные выборы действующих лиц и сил: «Социальная структура отфильтровывает культурные ценности, делая поведение в соответствии с ними возможным для обладателей социальных статусов в рамках этого общества и трудным или невозможным для других... Социальная структура является барьером или, наоборот, открытой дверью для поведения согласно культурным мандатам».
функционализм р.мертона
Главную суть своего подхода Р.Мертон выразил комплексным понятием «функциональность». Согласно этому понятию взаимосвязь общества в целом и егоотдельных частей обеспечивается самыми разнообразными и специфическими их функциями, которые могут наблюдаться и многократно повторяться в конкретных объектах и фактах. Задача социолога состоит в том, чтобы «не рассуждать о внутреннем содержании социологических фактов и объектов, а просто рассматривать реальные, зримые, доступные для изучения и обобщения последствия функций».
Для наблюдения и изучения функций Р.Мертон предлагает методологический инструмент, который называет «теории среднего радиуса действия». Суть их он формулирует так: «Это теории, находящиеся в промежуточном пространстве между частными, но тоже необходимыми рабочими гипотезами, во множестве возникающими в ходе повседневных исследований, и всеохватными систематическими попытками развить единую теорию, которая будет объяснять все наблюдаемые типы социального поведения, социальных организаций и социальных изменений». Эта теория была призвана категориально оформить соединительный мост между конкретными исследованиями и общесоциологической теорией. Теория принципиально используется для внутренней организации эмпирических исследований. Она выступает посредником между общими теориями социальных систем, которые слишком отдалены от особенных проявлений классов тех или иных типов социального поведения, с тем чтобы «объяснять то, что наблюдаемо, и давать детализированные, упорядоченные характеристики особенностей, которые вообще не обобщены». Именно здесь, на среднем уровне, как подчеркивает Р.Мертон, социология выполняет свою основную роль в обществе, ибо это «именно та социальная наука, которая оперирует теориями среднего радиуса охвата, концентрирующими в себе факторы реального управления социальными процессами с учетом конкретных эмпирических исследований и отвергающими метафизические претензии на всеохватность и универсальность». Ясно, что таким утверждением Р.Мертон выразил свое несогласие с теорией структурного функционализма Т.Парсонса, претендовавшей на эти качества всеохватности и универсальности.
Определив таким образом свой «объект» исследования, Р.Мертон выдвигает целый ряд положений, обосновывающих логику своего практического подхода к делу. При этом он выделяет три ключевых условия или требования функционального анализа, которые, по его мнению, приобретают характер аксиом: это - «функциональное единство» (согласованность функционирования всех частей общества), «функциональная универсальность» (все общественные явления функциональны) и «функциональная принудительность».
«Функциональное единство» социологического анализа, подчеркивает Мертон, определяется не «сверху», не при помощи какой-либо теории, а в бесконечной глубине социальных фактов, которые благодаря своей функциональной определенности являются интегрирующими факторами социальной жизни. Функциональные качества универсальны и представлены во всех формах культуры, что легко увидеть при их анализе. Мало того, они носят императивный, принудительный характер в первую очередь для всех общественных институтов, хотя это может проявляться по-разному. В целом функциональный анализ применим только к стабильным и стандартизированным объектам, которыми могут быть повторяющиеся и типовые явления, характеризующиеся устойчивостью (социальные роли, социальные процессы, институционные объекты, социальные структуры, средства социального контроля и т.д.).
Автор концепции подробно раскрывает различные стороны понятия «функция». Функция — это «те наблюдаемые следствия, которые служат саморегуляции данной системы или приспособлению ее к среде». В проявлении функции может быть две формы — явная и скрытая. В том случае, когда внутренняя смысловая мотивация совпадает с объективными следствиями, проявляется явная функция. Именно так она осознается участниками поведенческой системы или ситуации. Скрытая («латентная»1) функция этих проявлений не имеет. Наряду с понятием функции Мертон ввел понятие"дисфункции", т.е. заявил о возможности отклонения системы от принятой нормативной модели, что, в свою очередь, должно привлечь за собой или новый этап приспособлении системы к существующему порядку, или определенное изменение системы норм. Понятию дисфункции Мертон уделяет столь же много внимания, что и самой функции. Обращение к нему носит концептуальный характер. Дело в том, что Парсонс рассматривал отклонение в поведении и системе как исключение, которое может и должно быть нейтрализовано системой социального контроля. А Мертон был убежден, что дисфункции в той же мере закономерны для системы, что и функции. Признание этого факта свидетельствует о том, что механизм функционирования и развития социальной системы бесконечно сложен. Равновесие не есть исходное условие существования, но результат социального взаимодействия. Эмпирические исследования отрицают постулат однолинейности связи между социальными действиями индивидов и состоянием социальной системы. Эта связь более разнообразна, что определяет множество путей достижения баланса в системе. Таким путем он стремился ввести в функционализм идею изменения.
Критика постулатов функционализма
● Постулат функционального единства общества: любая частная соц. система функциональна для всей системы. Функцией отдельного соц. обычая является его вклад в совокупную соц. жизнь, которая представляет собой функционирование соц. системы в целом. Соц. система имеет определенный тип единства. Это состояние, в котором вс части соц. системы работают совместно с достаточной гармоничностью или внутренней согласованностью, то есть не порождая устойчивых конфликтов. Все человечекие общности должны иметь некоторую степень интеграции. Это недостижимо в реальности, предлагает ввести понятие дисфункции. Просто то что функционально для одной части системы, дисфункционально для другой.
● Постулат универсального функционализма. Все стандартизированные и соц –культ. формы имеют позитивные функции, то есть все институц. Образцы действия и поведения служат единству и интеграции общества. Но Мертон отрицает и говорит, что все действительные нормы функциональны не потому, что они институционализированы, существуют, а потому, что их функциональные следствия перевешивают дисфункциональные.
● Постулат необходимости.Некоторые институты и соц. образования являются трибутами общества, но нет убедительных доказательств, что такие институты как семья, религия и др. являются атрибутами всех челов. Обществ. То есть абсолютная необходимость определенных функций ведет к тому, что отутствие их ставит под сомнение само существование челов общества. В противоположность понятию незаменимости культурных форм предлагает ввести для замены понятия обязательности понятие «функциональных альтернатив., заментителей.
Мертон анализирует проблему в неясности отношений между сознательными мотивами, которые руководят соц. действием и объективными последствиями этих действий. Структруно-функц. Анализ сосредотачивает сове внимение прежде всего на объективных последствиях. Вводит понятия явные и латентные функции. (Функция – это те наблюдаемые последствия, которые способствуют ааптации и приспособлению данной системы; Дисфункция - это те наблюдаемые последствия, котрые уменьшают приспособление как адаптацию систем; Явные– это те объективные последствия, котрые вносят свой вклад в регулирование или приспособление системы и котрые входили в намерение и осознавались участниками системы; Латентные – те объективны последствия, которые не входили в измерение и не были сознаны.
Парадигма функционального анализа в социологии( НАДО ЕЩЕ В КНИГЕ ПОСМОТРЕТЬ)
Согласно Мертону, парадигма представляет собой «кодификацию тех понятий и проблем, которые не могли не привлечь нашего внимания при критическом изучении современной практики и теории в функциональном анализе»[21]. Парадигма сводит вместе терминологию, постулаты, понятия, идеологические обвинения, тем самым допуская «одновременной рассмотрение основных требований функционального анализа»[21], а также помогает ему скорректировать промежуточные интерпретации на его основе.
Функциональные альтернативы.(НАДО ИСКАТЬ,Я НЕ ПОНИМАЮ,ЧТО ОН ИМЕЕТ ВВИДУ)
Скрытые функции. Дисфункции.
Понятие «функция» рассматривается Мертоном в паре с категорией «дисфункция». «Дисфункция» - это те наблюдаемые следствия, которые уменьшают адаптацию и регулирование в системе. Особое внимание в рамках функционального анализа Р. Мертон обращает на разделение функций на явные и латентные. Явные – это те, которые известны и подразумеваются определенными видами деятельности. Латентные – те последствия деятельности, которые заранее не известны. Например, к явным функциям института образования относится приобретение грамотности, обучение профессиональным ролям, подготовка к дальнейшему обучению, усвоение базисных ценностей общества. К его латентным функциям можно отнести приобретение определенного статуса в обществе, завязывание дружеских связей, поддержка выпускников при вступлении на рынок труда. Разграничение между явными и латентными функциями, функциями и дисфункциями позволяет понять стандарты социального поведения, которые на первый взгляд кажутся иррациональными. Даже если они не достигли поставленной цели и не объяснили социального поведения в целом, то понятие скрытой функции позволяет понять то, что это поведение может выполнять функцию для группы, отдельной общности, совершенно отличную от явной социальной цели.
Изучение социальной аномии Р.Мертоном.
Классическим примером социологического анализа Р.Мертона, построенного на основе «теории среднего радиуса действия», является рассмотрение им отклоняющегося поведения и аномии. Теория социальной аномии - социологическая теория причин преступности в современном обществе, предложенная Р.Мертоном. Эта теория противопоставляется тем представлениям, которые приписывают неудовлетворительное функционирование социальной структуры прежде всего повелительным биологич. влечениям человека, недостаточно сдерживаемым социальным контролем, т.е. фрейдистским и неофрейдистским концепциям в криминологии. Мертон использует два понятия: «аномия» и «социальная структура» общества: при этом первое явление (аномия) выступает как следствие процессов, происходящих в рамках второго явления (социальная структура). Термин «аномия» был выдвинут французским социологом Э.Дюркгеймом и означает отсутствие норм в поведении, их недостаточность. Аномия мыслима в двух измерениях. Во-первых, состояние аномии может характеризовать общество, в котором нормативные стандарты поведения, а также существующие в нем убеждения либо серьезно ослаблены, либо отсутствуют. Во-вторых, состояние аномии может характеризовать и отдельное лицо, если оно социально дезориентировано, находится в состоянии тревоги и переживает чувство изолированности от общества. Понятие социальной структуры, по Мертону, не имеет ничего общего с классовой структурой общества (хотя Мертон в ряде случаев говорит о классовой структуре современного американского общества). Для Мертона социальная структура это не социальная, а социально-психологическая, а то и чисто психологическая категория. Образуется социальная структура из двух фаз. Первая состоит из тех существенных целей, которые ставят перед собой социальные группы общества (либо которые ставятся перед ними жизнью), - т.н. жизненные устремления группы. Вторая - это те средства, которые употребляются в ходе достижения указанных целей для удовлетворения жизненных устремлений социальных групп общества. Сами эти средства, в свою очередь, двояки: их можно подразделить на предписываемые (законные) средства и наиболее эффективные, наиболее успешные, ведущие к результату кратчайшим путем. Для концепции Мертона чрезвычайно важно указание на то, что законность и эффективность вовсе не обязательно совпадают применительно к избираемым средствам.
Следующим исходным положением является указание на то обстоятельство, что в принципе господствующее в данном общества отношение к целям, стоящим перед его членами, и к средствам, избираемым для их достижения, может быть неодинаковым. Так, все внимание может быть перенесено на цели, а к характеру средств может допускаться полное пренебрежение, и наоборот. Мертон выдвигает здесь свой центральный тезис о том, что нарушение равновесия между целями и средствами как фазами социальной структуры служит основанием для возникновения состояния аномии. Все виды социального поведения, в том числе и отклоняющегося, в зависимости от того, принимает человек или нет культурные нормы, Р.Мертон делит на пять типов индивидуальной адаптации:
конформизм, когда социальные цели общества и способы их достижения принимаются полностью (лояльные, спокойные и законопослушные граждане);
инновационность, когда принимаются социальные цели, но не способы их достижения (рэкет, воровство, подделка денег, злоупотребления, обман);
ритуализм - социальные цели не осмысливаются, но способы их достижения неколебимы и священны (стяжательство, махинации, подлоги и др.);
ретритизм - отрицание и целей, и любых средств (анархизм, наркомания, бродяжничество);
мятеж, бунт - отказ и от целей, и от средств с одновременной заменой их новыми целями и новыми средствами(политический терроризм, борьба за свободу, революционность, радикализм).
Поведение второго типа, когда все внимание уделяется достижению цели, а к характеру избираемых средств проявляется полное пренебрежение, является центральным объектом анализа.
Согласно теории социальной аномии асоциальное поведение ощутимо возрастает в случае, когда в обществе превыше всего превозносятся определенные символы успеха, якобы общие для населения в целом, в то время как социальная структура этого общества ограничивает или полностью устраняет доступ к законным средствам завладения этими символами для значительной части этого же самого населения.
13.
Изучение социальных конфликтов.
ЛЬЮИС КОУЗЕР О КОНФЛИКТАХ
Льюис Коузер (1913 – 2003) – выдающийся американский социолог, один из лидеров направления, получившего известность как теория конфликта.
Даже беглое изучение современных работ американских социологов ясно показывает, что тема конфликта действительно игнорируется в научных исследованиях. На наш взгляд, игнорирование конфликта является результатом изменений, произошедших с аудиторией и социальной ролью американских социологов, а также в их представлениях о самих себе. Эти изменения способствовали смещению фокуса исследовательского внимания: от конфликта к таким областям социологии, как "консенсус", "общие ценностные ориентации" и т. п.
Американские социологи первого поколения считали себя реформаторами и обращались к сообществу реформаторов. Такое представление о самих себе и об обществе привлекало внимание к ситуациям конфликта, чем и объясняется увлеченность конфликтной проблематикой. Кроме того, социальный конфликт отнюдь не рассматривался как исключительно негативное явление, но определенно считался носителем и позитивной функции. В частности, конфликт служил главной объясняющей категорией при анализе социальных изменений и "прогресса". Реформаторская этика так ориентировала интересы первого поколения американских социологов, что превратилась в важную предпосылку ускоренного развития самой социологии. Коренные интересы реформаторов в своих практических импликациях требовали систематического, рационального и эмпирического изучения общества и контроля над коррумпированным миром.
… В противоположность ученым, рассмотренным выше, большинство социологов, определяющих современный облик дисциплины, не считают себя реформаторами и не обращаются к аудитории реформаторов, а ориентируются на чисто академическую и профессиональную аудиторию либо ищут внимания у лиц, принимающих решения в государственных и частных организациях. В центре их внимания — преимущественно адаптация, а не конфликт; социальная статика, а не динамика. Важнейшей проблемой для них является сохранение существующих структур, а также способы и средства обеспечения их спокойного функционирования. Дезадаптация и напряженность для них — промежуточный этап на пути к консенсусу. В то время как старшее поколение обсуждало необходимость структурных изменений, новое поколение занято приспособлением индивидов к существующим структурам.
…В то время как старшие поколения были озабочены прогрессивными изменениями социального порядка, Парсонс заинтересован в консервации существующих структур. Хотя он внес существенный вклад в теорию социального контроля и понимание ситуаций напряженности, присущих разным социальным системам, он оказался не в состоянии ввиду своей исходной ориентации развить теорию социального конфликта.
…Если обратиться к другим социологам, обнаруживается, что уклонение от использования понятия "конфликт" (определяемого как "социальная болезнь") и выдвижение понятий "равновесие" или "состояние сотрудничества" (определяемых как "социальное здоровье") представляет собой элемент программной ориентации Элтона Мэйо и его школы индустриальной социологии. Один из представителей этой школы Ф. Ретлисбергер следующим образом формулирует главную проблему: "Как поддержать такое гармоничное трудовое равновесие между различными социальными группами на предприятии, чтобы ни одна из групп не противопоставляла себя остальным?" Закоренелая неспособность Мэйо понять конфликты интересов прослеживается во всех его работах. Исследования Мэйо всегда велись с разрешения руководства предприятий и в сотрудничестве с ним. Целью их было способствовать разрешению проблем менеджмента. Для Мэйо менеджмент воплощает главные цели общества. Ясно, что с этих позиций он никогда не рассматривал возможность того, что в индустриальной системе могут существовать конфликтующие интересы, отличающиеся от различных установок или "логик".
… Наш обзор идей некоторых ведущих социологов нынешнего поколения показал, что они уделяют социологическому анализу конфликта гораздо меньше внимания, нежели отцы американской социологии. Современные социологи далеки от идеи того, что конфликт, возможно, — это необходимый и позитивный элемент всех социальных отношений; они склонны видеть в нем лишь разрушительное явление. Преобладающая тенденция у всех мыслителей, взгляды которых мы вкратце рассмотрели, состоит в поиске "путей согласия" и взаимного приспособления путем редукции конфликта.
В других работах я подробно обсуждал некоторые причины такого изменения во взглядах и в оценке интересующих нас проблем. Здесь я хотел бы перечислить лишь некоторые из них, не приводя всех необходимых для обоснования этого мнения аргументов.
Вероятно, самую важную роль сыграло изменение положения социологов, произошедшее в последние десятилетия. Прежде всего следует отметить бурное развитие прикладных социальных наук и в связи с этим появление разнообразных возможностей внеакадемической деятельности социологов. Если на раннем этапе социология развивалась почти исключительно как академическая дисциплина, то в последние десятилетия мы стали свидетелями расцвета прикладной социологии, практического применения результатов исследований и привлечения социологов к работе в различных государственных и частных бюрократических структурах. Поскольку американские социологи в основном ушли из "чисто" академического исследования, в рамках которого они обычно формулировали свои проблемы, в прикладную область, они в значительной степени лишились свободы выбора исследовательских задач и интересующих их собственно теоретических проблем, заменив их проблемами своих клиентов.
…Лица, принимающие решения в организациях, заинтересованы в сохранении и упрочении организационных структур, посредством которых они реализуют власть. Любой конфликт в рамках этих структур, представляется им дисфункциональным. Всеми интересами слитый с существующим порядком, руководитель склонен рассматривать любое отклонение как результат психологического сбоя и объяснять конфликтные ситуации как результат действия подобных психологических факторов. Поэтому он скорее будет озабочен снятием "напряженности" и устранением "стрессов" и "трений", чем изучением тех аспектов конфликтного поведения, которые могли бы указывать на необходимость изменения основ институционального порядка. Кроме того, руководители склонны заострять внимание на дисфункциональном значении конфликта для структуры в целом, нежели входить в рассмотрение положительных функций конфликта для конкретных групп внутри структуры.
… этого недостаточно для объяснения того, почему большинство современных социологов, не работающих в прикладной области, пренебрегают изучением конфликта. Отметим несколько факторов: исчезновение в последние десятилетия независимой реформаторской аудитории, характерной для раннего этапа развития социологии; влияние спонсоров на исследования в сочетании с нежеланием организаций финансировать исследования, которые могут способствовать реформаторской деятельности; общая политическая атмосфера в период холодной войны, а также страх перед социальными конфликтами и призывы к единству.
Пренебрежение изучением социального конфликта, точнее пренебрежение изучением его функций в противоположность дисфункциям, в значительной мере объясняется изменившейся за последние десятилетия ролью американских социологов.
… В то время как первое поколение американских социологов обращалось к людям, ориентированным на конфликт — юристам, реформаторам, политикам, радикалам всякого рода, — современные американские социологи находят свою аудиторию среди людей, заинтересованных в укреплении общих ценностей и минимизации групповых конфликтов; это социальные работники, психологи и психиатры, религиозные лидеры, работники образования, а также менеджеры в государственных и частных структурах. Свой вклад в изменение аудитории социологов внесли слабость реформаторских движений и усиление бюрократических структур, нуждающихся в услугах социологов для решения управленческих задач. По ходу этого изменения изменились и представления многих социологов о себе и своей роли: от имиджа сознательного защитника реформ — к имиджу "защитника от неприятностей" и специалиста в области человеческих отношений.
Современные социологи склонны фокусировать внимание на одних аспектах социального поведения, не замечая других, столь же важных с теоретической точки зрения. В нижеследующих главах рассматривается один из таких игнорируемых аспектов социологической теории, при этом особое внимание уделяется ряду положений, касающихся функций социального конфликта.
… Изучая положения, почерпнутые в классической работе Георга Зиммеля "Конфликт", мы сопоставим их с соответствующими идеями других социальных теоретиков и с эмпирическими данными, которые, возможно, их иллюстрируют, модифицируют или опровергают. Нашей задачей станет прояснение этих положений. Мы не ставим целью их верификацию; это возможно только путем проверки теории в систематическом эмпирическом исследовании. Работа Зиммеля строится вокруг главного тезиса: "конфликт — это форма социализации". По сути, это означает, что ни одна группа не бывает полностью гармоничной, поскольку в таком случае она была бы лишена движения и структуры. Группам необходима как гармония, так и дисгармония, как ассоциация, так и диссоциация; и конфликты внутри групп ни в коем случае не являются исключительно разрушительными факторами. Образование группы — это результат процессов обоего вида. Убеждение в том, что один процесс разрушает то, что создает другой, а то, что остается в конце, представляет собой результат вычитания одного из другого, основано на заблуждении. Напротив, и "позитивный", и "негативный" факторы создают групповые связи. Конфликт, так же как и сотрудничество, обладает социальными функциями. Определенный уровень конфликта отнюдь не обязательно дисфункционален, но является существенной составляющей как процесса становления группы, так и ее устойчивого существования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На страницах книги нами был рассмотрен ряд тезисов, привлекающих внимание к различным условиям, при которых социальный конфликт способствует сохранению, урегулированию либо адаптации социальных отношений и социальных структур.
… Основания для конфликтов существуют при любом типе социальной структуры, поскольку индивиды и подгруппы повсюду склонны время от времени претендовать на недостающие им ресурсы, престиж или властные позиции. Но социальные структуры различаются по дозволенным способам выражения антагонистических требований. Некоторые относятся к конфликтам более терпимо, нежели другие.
… В гибких социальных структурах множество конфликтов пересекаются, предотвращая тем самым раскол по какой-нибудь одной оси. Причастность индивидов к нескольким группам заставляет их участвовать в разнообразных групповых конфликтах, не давая тем самым полностью вовлечься в какой-либо один из них. Таким образом, частичное участие во многих конфликтах создает механизм внутренней балансировки структуры.
В нестрого структурированных группах и открытых обществах конфликт, нацеленный на снятие напряжения между противниками, обычно выполняет функции стабилизации и интеграции системы отношений. Допуская прямое и неотложное выражение противоположных по смыслу требований, такие социальные системы способны реорганизовывать свои структуры, устраняя источники недовольства. Переживаемые ими многочисленные конфликты служат устранению причин разобщенности и восстановлению единства. Проявляя терпимость по отношению к конфликту и институционализируя его, они обеспечивают себя важным стабилизирующим механизмом.
Кроме того, внутригрупповой конфликт часто помогает актуализировать уже принятые нормы или способствует возникновению новых. В этом смысле социальный конфликт является механизмом приспособления норм к новым условиям. Гибкое общество выигрывает от конфликтных ситуаций, потому что подобное поведение, помогая создавать и изменять нормы, гарантирует его выживание в изменяющихся условиях. В жестких системах такой механизм отсутствует; подавляя конфликт, они глушат полезный сигнал тревоги, увеличивая опасность катастрофического раскола.
Внутренний конфликт может также служить средством выяснения относительной влиятельности антагонистических интересов внутри структуры; тем самым он создает механизм сохранения или постоянного регулирования баланса сил. Поскольку начало конфликта означает отказ от достигнутого равновесия, а сам конфликт позволяет соперничающим сторонам продемонстрировать свои силы, постольку открывается возможность достижения нового равновесия и развития отношений на новой основе. Следовательно, социальная структура, оставляющая место для конфликтов, располагает важными средствами, позволяющими избежать нарушения равновесия или восстановить его путем изменения соотношения сил.
Конфликты с одними группами толкают на создание объединений и коалиций с другими. Конфликты с участием этих объединений и коалиций способствуют установлению связей между их участниками, уменьшают социальную изоляцию, соединяют индивидов и группы, которые иначе оставались бы враждебными друг другу. Социальная структура, допускающая множественность конфликтов, содержит в себе механизм налаживания связей между изолированными или враждебными друг другу сторонами и вовлечения их в сферу публичной активности. Более того, подобная структура благоприятствует многообразию ассоциаций и коалиций, разнообразные цели которых пересекаются и, напомним, тем самым предотвращают концентрацию конфликтного потенциала в одном направлении.
Если группы и ассоциации возникли благодаря конфликтам с другими группами, то подобные конфликты и в дальнейшем могут служить сохранению границ между ними и окружающей социальной средой. Таким образом, социальный конфликт помогает структурировать социум, фиксируя позиции различных подгрупп внутри системы и помогая определить властные отношения между ними.
Но нет такого общества, в котором допускалось бы свободное выдвижение любого антагонистического требования. Общества располагают механизмами канализации недовольства и враждебности, не затрагивающих отношений, внутри которых возникает антагонизм. Подобные механизмы часто действуют посредством институтов, выполняющих функцию "защитных клапанов". Они поставляют замещающие объекты для выражения враждебных чувств и позволяют реализовать агрессивные тенденции безопасным для системы образом.
Институты, выполняющие функцию "защитных клапанов", служат сохранению как социальных систем, так и систем индивидуальной безопасности, но их одних недостаточно для выполнения этих функций. Они препятствуют коррекции отношений в изменяющихся условиях, а поэтому помогают лишь частично или временно. Существует гипотеза, что потребность в институтах, выполняющих функцию "защитных клапанов", возрастает по мере ужесточения социальной структуры, т. е. в той степени, в какой она запрещает прямое выражение антагонистических требований.
Институты, выполняющие функцию "защитных клапанов", приводят к смещению цели субъекта: он стремится не к разрешению неудовлетворительной ситуации, а лишь к снятию возникшего по этой причине напряжения. Там, где такие "защитные клапаны" подставляют замещающие объекты для выражения враждебных чувств, сам конфликт канализируется: он переносится с исходных неблагополучных отношений на те, в которых целью индивида является не достижение конкретных результатов, а только снятие напряжения.
Это дает нам критерий, отличающий реалистический от нереалистического конфликта.
… Анализ различных типов конфликта и социальных структур привел нас к заключению, что конфликт бывает дисфункционален для тех социальных структур, которые нетерпимы по отношению к конфликту, и в которых сам конфликт не институционализирован. Острота конфликта, грозящего "полным разрывом" и подрывающего основополагающие принципы социальной системы, напрямую связана с жесткостью ее структуры. Равновесию подобной структуры угрожает не конфликт как таковой, а сама эта жесткость, способствующая аккумуляции враждебных чувств и направляющая их вдоль одной оси, когда конфликт все-таки вырывается наружу.
РАЛЬФ ДАРЕНДОРФ О ФУНКЦИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
Ральф Дарендорф (1929 - 2009) – выдающийся современный социолог. Родился в Германии. Работал в университетах Гамбурга, Тюбингена, Констанца. Являлся членом федерального правления политической партии свободных демократов (СвДП). Долгие годы жил в Великобритании. Удостоен английской королевой титула рыцаря (с правом именоваться «сэром») за свою научную, общественную и политическую деятельность.
Спустя четверть века после Парсонса функционализм представляет собой такую школу социологической мысли, которая подходит к решению каждой проблемы в аспекте равновесно бесперебойного функционирования обществ и их «подсистем», и поэтому проверяет каждый феномен на его вклад и поддержание равновесия в системе.
Без сомнения, существуют проблемы и феномены, для которых такой подход обещает содержательные результаты. Примером может служить упомянутая взаимосвязь социализации человека с воспитательными учреждениями. Однако же имеются и другие, упрямые социальные факты, сталкиваясь с каковыми функциональный анализ приводит к очевидным трудностям. К ним принадлежит феномен социального конфликта и все связанные с ним проблемы. Общества не являются сплошь гармоничными и равновесными структурами; в обществах постоянно проявляются конфликты между группами, несовместимыми ценностями и ожиданиями. Конфликт представляется универсальным социальным фактом и, вероятно, даже служит необходимым элементом всякой социальной жизни. При этом возникает вопрос: как справляется с таким фактом функциональная точка зрения?
…Первая по времени попытка применить функционалистскую картину общества к проблематике социальных конфликтов в то же время в объективном отношении является наименее удовлетворительной. Одним из ее крайних представителей был американский индустриальный социолог Элтон Мэйо…
Для Мэйо «нормальное» состояние общества есть состояние интеграции, кооперации, равновесного функционирования системы. Каждый индивид, группа и учреждение обладают своим местом и собственной задачей в системе целого; у них есть свои функции. И от Мэйо не ускользает тот факт, что общества функционируют не всегда бесперебойно: «К сожалению, для известных нам индустриальных обществ явно характерно то, что различные по своему воспитанию группы не имеют особой охоты к сотрудничеству с другими группами. Напротив того, их установка обычно предполагает равнодушие или вражду». Но ведь такая межгрупповая вражда якобы приводит к разрушительным последствиям и влечет общества к гибели.
Уже формулировка проблемы выдаст то, каким образом Мэйо хочет объяснить аспекты, разрушающие социальные структуры. По его мнению, межгрупповая борьба и конфликты не в состоянии вырастать из структуры общества, поскольку общество представляет собой полностью функциональное образование. Поэтому там, где мы встречаемся с конфликтами, они зависят от метасоциальных и притом от индивидуально-патологических причин. Социальные конфликты, считает Мэйо, суть не что иное, как проекции психологических расстройств (у тех, кто развязывает эти конфликты) на психологические отношения. Следовательно, ведя речь об индустриальных конфликтах, Мэйо говорит преимущественно о профсоюзных лидерах: «У этих людей нет друзей... Они не могли содержать себя... Они считали мир враждебным себе местом... В любом случае их личная биография была историей социальной исключительности — детство без нормальных и счастливых отношений с другими детьми в работе и игре...».
Значит, проблема преодоления социальных конфликтов, по сути, представляет собой проблему психотерапии вождей конфликтующих групп — или, как говорит Мэйо, проблем опосредствования «социальных навыков». Выходит, что если каждый индивид обладает социальными навыками мирного сотрудничества с другими, то функциональное общество превращается в функционирующее.
Забавно на основании соображений Мэйо проследить, как понятие «нормального» преобразуется в нормативное понятие. «Репрезентативное правление, — писал Майо, — не может действенным образом исходить из общества, раздробленного межгрупповой враждой и ненавистью». Разве не соответствует духу репрезентативного правления улавливать и канализировать всегда наличествующую межгрупповую вражду? Но для Мэйо нормальное состояние равновесного функционирования общества, сотрудничества между всеми его частями к вящей славе целого является и идеальным состоянием. Всё, что функционально следует считать помехами — например, конфликты — тотчас же политически и морально отклоняется в качестве неполноценного. Социологический принцип объяснения провозглашается как политическая догма: «Общество есть кооперативная система; цивилизованное же общество есть такое, в котором сотрудничество основывается на понимании и на воле к совместной работе, а не на насилии».
… Следовательно, конфликт представляет собой социологически произвольный феномен помехи в системе кооперации. Такова логика утопии, и такова же логика тоталитарного отношения к девиантам…
Следствия этого подхода демонстрируют неплодотворность радикального функционализма. Если у конфликтов нет функции из-за того, что они вообще не являются общественным феноменом, то у социолога остается возможность воспринимать их лишь в качестве проблем. Если же он все-таки займется их описанием, то он уже не сможет делать различие между криминальностью, психопатологией, рабочим движением и политической оппозицией; ведь вся совокупность этих феноменов считается вариантами симптомов принципиально одинаковых индивидуальных расстройств…
Гораздо более серьезную попытку ответа на эти вопросы предпринял Р. К. Мертон в статье «Явные и латентные функции» и работе «Социальная структура и аномия».
…нет никакого сомнения, что попытка Мертона знаменовала собой значительный прогресс в развитии функционального анализа. Этот прогресс заключался в первую очередь в указании на возможность систематического объяснения конфликтов «на структурном уровне». Но в то же время кажется весьма сомнительным, что одного понятия «дисфункция» достаточно для наведения мостов от структурно-функционального анализа к анализу изменения. Мертон не говорит, что конфликты не способствуют функционированию социальных систем, — что означало бы полный отказ от высказывания — но говорит, что конфликты способствуют нефункционированию систем. Значит, в понятии дисфункции кое-что высказывается о конфликтах. Но высказывается недостаточно, ибо решающий вопрос остается открытым: что лее тогда представляет собой нефункционирование обществ? Болезнь ли это общества, отклонение ли от социальной нормы? Или опять-таки «нормальное состояние», в котором, правда, царят совершенно иные законы? Поскольку этот вопрос остается без ответа, я бы склонялся к тому, чтобы усматривать в понятии дисфункции, в конечном счете, отказ от высказывания, то есть остаточную категорию. «Дисфункция» — не более, чем ярлык, каковой можно приклеивать к явлениям, объяснение которых хотя и считается возможным, но пока недостижимо; ведь констатируя, что забастовка или революция «дисфункциональны», а следовательно, способствуют нефункционированию соответствующих социальных систем, пока объяснили не слишком много.
В трудах Р. К. Мертона проявляются слабости, которыми характеризуется его трактовка социальных конфликтов. По различным вопросам он стремится найти пути к постижению многообразия социологических проблем, чтобы смягчить односторонность, абстрактность и жесткость функционального подхода. Поскольку при этом он остается функционалистом, его намерение, как правило, приводит к ограничениям (вроде оговорок, касающихся абсолютных постулатов функционализма, или требования разработать «теории среднего уровня»), которые ослабляют силу теории, но не продвигают анализ. Поэтому попытка его ученика Льюиса Козера встроить социальные конфликты в функциональный анализ теоретически более последовательна и убедительна, но менее плодотворна аналитически.
… Во многих местах своего исследования Козер подчеркивает тревожное невнимание современной социологии к проблемам социального конфликта. Егo критика функционализма не лишена остроты. И все-таки цель его рассуждений заключается в том, чтобы связать функционализм с анализом социальных конфликтов, — и, хотя он считает такую цель достижимой, его критика Парсонса, Мертона и других по сути ограничивается утверждением, что эти авторы пренебрегали анализом конфликтов. Социальные конфликты — строит аргументацию Козер — могут быть разрушительными и тем самым дисфункциональны. Но они не всегда таковы, и в этом высказывании их воздействия не исчерпываются. Кроме того, всякий конфликт содержит и элементы, которые Козер характеризует как «позитивно функциональные», то есть конфликты — подобно ролям, ценностям и институциям — вносят некий вклад в функционирование социальных систем: «Конфликт может служить устранению разделяющих элементов в их взаимосвязи и восстановлению единства. Поскольку конфликт обозначает снятие напряжения между противниками, он обладает стабилизирующими функциями и становится одним из интегративиых компонентов отношений... Взаимозависимость между враждебными группами и все разнообразие конфликтов, которые, устраняя друг друга, служат сшиванию социальной системы, препятствуют дезинтеграции...» Следовательно, функциональный подход не только в состоянии удовлетворительно объяснить конфликты, но и упрямый факт социальных конфликтов в их интегративном значении можно постичь только посредством функционального анализа.
Итак, верно, что социальный конфликт предполагает и даже создает некую общность между враждующими сторонами. Так, не существует конфликта между немецкими домохозяйками и перуанскими шахматистами, поскольку между этими двумя группами вообще отсутствуют социальные отношении. С другой стороны, конфликт между рабочими и предпринимателями становится отправной точкой для разработки определенных правил игры, связывающих стороны между собой. И если важно видеть, прежде всего, конечные последствия социальных конфликтов — что упустил, например, Маркс, в ущерб собственным прогнозам, — то и у Козера о последствиях социальных конфликтов сказано очень немного. Неужели действительно единственное социологическое следствие забастовок или революций заключается в том, что они формируют некие отношения между враждебными партиями? Поставить этот вопрос означает ответить на него отрицательно.
…Хотя Козеру и удается показать, что даже функционалист в состоянии кое-что высказать о конфликтах, но в то же время он демонстрирует убожество функционального подхода перед лицом проблем, выходящих за рамки наличных социальных систем. Вывод Козера — последнее слово функционализма по проблематике социальных конфликтов: по мере возможности они выросли из структуры общества; они могут быть дисфункциональными, но могут быть и функциональными. И все-таки хотелось бы надеяться, что последнее слово функционализма не является последним словом социологии по этой проблеме. А это значит, что при определении последствий социальных конфликтов социологическую теорию следует радикально отделить от функциональной системной модели общества и заняться поисками новых отправных точек.
Согласно моему тезису, постоянная задача, смысл и следствие социальных конфликтов заключаются в том, чтобы поддерживать изменения в обществах и способствовать этим изменениям. Если угодно, изменения можно было бы назвать «функцией» социальных конфликтов. И все же понятие функции применено здесь в нейтральном смысле, то есть без всякой соотнесенности с «системой», представляемой как равновесная. Последствия социальных конфликтов невозможно понять с точки зрения социальной системы; скорее, конфликты в своем влиянии и значении становятся понятными лишь тогда, когда они соотносятся с историческим процессом в обществах. В качестве одного из факторов вездесущего процесса социальных изменений конфликты в высшей степени необходимы. Там, где они отсутствуют, подавлены или же мнимо разрешены, изменения замедляются и сдерживаются. Там, где конфликты признаны и управляемы, процесс изменения сохраняется как постепенное развитие. Но в любом случае в социальных конфликтах заключается выдающаяся творческая сила обществ. И как раз оттого, что конфликты выходят за рамки наличных ситуаций, они служат жизненным элементом общества — подобно тому, как конфликт вообще является элементом всякой жизни.
… Отношении между конфликтом и изменением, по существу, очевидны. Так что же следует из противоречия между правительством и оппозицией? Ради простого сохранения наличной системы хватило бы одной группы. Если бы оппозиция была всего лишь патологическим элементом и фактором нестабильности, она оказалась бы излишней. Очевидный смысл противоположности между правительством и оппозицией состоит в том, чтобы поддерживать жизнь в политическом процессе, разведывать новые пути в противоречиях и дискуссиях и тем самым сохранять творческий характер человеческих обществ. То же касается конфликтов в экономической сфере, в юриспруденции и во всех остальных организациях и институциях. Итак, смысл и последствия социальных конфликтов заключаются в том, чтобы поддерживать исторические изменения и способствовать развитию общества.
Конфликты не являются причинами социальных изменений; вопрос о причинах изменений отпадает вообще, если мы совершаем Галилеев переворот, делая движение нашим первым постулатом. Однако же конфликты — это некоторые из факторов, определяющих формы и размеры изменений; поэтому их надо понимать в контексте строго исторической модели общества. В основе структурно-функциональной теории лежит аналогия между организмом и обществом. С точки зрения структурно-функциональной теории конфликты и изменения суть патологические отклонения от нормы равновесной системы; для представленной же здесь теории, напротив того, стабильность и застой характеризуют общественную патологию. В функционализме проблемы конфликта всегда остаются трудно интерпретируемыми маргинальными явлениями общественной жизни, но в свете опробованного здесь теоретического подхода они попадают в центр всякого анализа.
Если же мы будем понимать структурно-функциональную модель общества как нормативную, то есть спросим, как жилось бы в функциональной социальной системе, то в этой модели сразу же обнаруживается ее наихудшая сторона. Равновесная функциональная система как идеальное представление — ужасная мысль. Это будет общество, где каждый и всё имеет закрепленное за собой место, играет собственную роль, выполняет собственную функцию; общество, где все идет как по маслу, и поэтому ничто и никогда не нуждается в изменении: раз и навсегда правильно упорядоченное общество. Поскольку структурно-функциональное общество таково, оно совершенно не нуждается в конфликтах; с другой же стороны, поскольку ему неведомы конфликты, оно напоминает ужасную картину совершенного общества. Пусть такая модель сходит за продукт утопических фантазий, в качестве программы или идеологии реальных отношений она может иметь лишь нетерпимые последствия. Если утопия реализуется, то она всегда будет тоталитарной; ибо лить тоталитарное общество знает де-факто, во всяком случае, мнимо знает, — то всеобщее согласие и единство, ту серую одинаковость равного, которая характеризует совершенное общество. Кто хочет достигнуть общества без конфликтов, тому придется добиваться этого посредством террора и полицейского насилия, ибо сама мысль о бесконфликтном обществе есть акт насилия по отношению к человеческой природе.
То, что дела обстоят таким образом, имеет причину, которую хотелось бы обозначить как теоретико-познавательную. Совершенное человеческое общество предполагает возможность, что как минимум один человек в состоянии познать совершенное во всей его полноте. Но ведь существует убедительная философская гипотеза, что конституционально мы живем в мире неопределенности, то есть что ни один человек не в состоянии дать на все вопросы раз и навсегда правильные ответы. Что бы мы ни могли высказать — о мире, о человеческом обществе, об острых проблемах внешней и внутренней политики — снабжено критической оговоркой «насколько мы в состоянии познать». Нам всегда недостает информации, чтобы что-либо знать с уверенностью; нам всегда не хватает познавательной мощи, чтобы постигать суть вещей обязывающим образом. Мир даже может быть совершенным и нести в себе возможность определенности. Люди же по своей природе слишком несовершенны для обретения такой определенности.
…Если справедливо, что наше существование в этом мире характеризуется неопределенностью; если, следовательно, человек в качестве общественного существа всегда представляет собой существо историческое, то конфликт знаменует надежду на достойное и рациональное освоение жизни. И тогда конфликты предстают как силы, которые формируют человеческий смысл истории: общества остаются человечными обществами в той мере, в какой они объединяют в себе несовместимое и поддерживают жизненность противоречий.
14. (Начало в лекциях должно быть)
Критическая социальная теория франкфуртской школы. Франкфутский институт и три этапа его деятельности.
«Критическая теория» Франкфуртской школы возникла уже вне Германии как попытка группы либераль- ных буржуазных философов-эмигрантов осмыслить крах буржуазно-демократической Веймарской республики в Германии и установление фашистской диктатуры. Критике идеологии фашизма посвящены статьи Хоркхаймера «Замечания к философской антропологии» (1935), Маркузе — «Борьба против либерализма в тоталитарной теории государства» (1934) и др.28 Ни либеральная буржуазия, ни расколотое рабочее движение не смогли помешать Гитлеру захватить власть. Глубокое разочарование в традициях буржуазного либерализма и гуманизма, неверие в революционные возможности рабочего класса нашли отражение в умах изгнанных из Германии представителей либеральной буржуазной интеллигенции.
В первое время своей эмиграции Хоркхаймер и его единомышленники обратили взоры к Америке Ф. Рузвельта, но вскоре и тут их постигло разочарование. Адорно с 1934 по 1937 г. жил в Англии29, а затем в феврале 1938 г. по приглашению Хоркхаймера переехал в США. К этому времени он опубликовал ряд статей о современной музыке, в частности о джазе30. В США ему предложили работу в качестве исследователя-социолога в крупнейшей радиовещательной компании, поставив перед ним задачу выявлять музыкальные вкусы различных социальных групп радиослушателей31. Требовалось найти формы наилучшего музыкального оформления и сопровождения рекламных радиообъявлений. «Свободный» творческий ум крупного теоретика музыки был поставлен на службу голой коммерции. Так встретила прагматическая Америка крупного немецкого теоретика 32.
В 1941 г. Адорно прекратил работу в музыкальном исследовательском отделе радиокорпорации и переехал вслед за Хоркхаймером из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Здесь помимо дальнейшей разработки различных проблем и аспектов философии музыки он совместно с Хоркхаймером написал «Диалектику просвещения. Философские фрагменты», опубликованную в 1947 г. в Амстердаме В этой работе, как мы покажем ниже, «критическая теория» Франкфуртской школы получила окончательное завершение. В таком виде она после разгрома фашизма возвратилась в конце 40-х годоов в Западную Германию.
Вместе с написанной в конце войны и опубликованной в Нью-Йорке в 1947 г. работой Хоркхаймера «Eclipse of Reason» (изданной в немецком переводе в 1967 г. под названием «К критике инструментального разума» — «Zur Kritik der instrumentalen Vernunft») «Диалектика просвещения» означала отказ от сведения всей проблематики фашизма к роковым последствиям внутренних противоречий буржуазного просвещения* буржуазной культуры; теперь на первый план выдвигается концепция тоталитарного государства, тоталитаризма вообще.
Для правильного понимания «Диалектики просвещения» следует учесть, что эта книга была написана в 1941—1944 гг., т. е. в годы войны против гитлеровского фашизма. Критика американской и советской действительности в это время отходит у ее авторов на второй план. Зато выдвигается на первое место критика идеологии фашизма. Авторы «критической теории» обратили внимание, в частности, на два аспекта этой идеологии: культ фюрера и антисемитизм33. В те же годы Адорно возглавил коллективную работу «Авторитарная личность», в которой содержалась критика культа фюрера
Для этих работ характерна одна особенность: и антисемитизм, и «культ фюрера» получают прежде всего психологическое объяснение; они, правда, выводятся из внутренних противоречий буржуазной культуры, но из противоречий чисто духовного свойства. Классовая основа этих надстроечных явлений, социально-экономический •базис при этом фактически игнорируются. «Критическая теория» выступает в роли критика не капитализма, •а буржуазного просвещения, культуры и идеологии вообще.
Сделанные Адорно в 1968 г. оговорки о том, что -объективные факторы этих психологических явлений подразумевались как нечто само собой разумеющееся, не выдерживают критики. Но стоит привести слова Адорно о том, как создатели «критической теории» в период разработки «Диалектики просвещения» оценивали сущность того американского общества, в котором они жили и творили. «Мы, — пишет Адорно о Хоркхай- мере и себе, — следовали тому, как мне кажется, убедительному выводу, что в современном обществе объективные учреждения и тенденция развития приобрели такую полноту власти над отдельными личностями, что те в очевидно всевозрастающей мере становятся функционерами осуществлявшихся сквозь их головы тенденций» К Эти слова прямо перекликаются с основным тезисом «Одномерного человека» Г. Маркузе.
В работе «Авторитарная личность» Адорно и др. продолжена идея, высказанная Хоркхаймером еще в 1935 г. в одной из первых публикаций Института социальных исследований после его эмиграции, — во «Введении» к книге «Авторитет и семья» 34.
Речь идет о характерном для «критической теории» тезисе, согласно которому никакое прямое насилие не может сохранить и обеспечить целостность какой бы то ни было семьи, всякого общества и любой социальной группы, если внутри сознания членов этого сообщества не будет господствовать «вера в авторитет». При таком подходе авторитет главы семьи и родителей, государства и вождя лишается объективной основы и превращается в самодовлеющее психическое явление «ложного созна- ния», допускающее экзистенциалистское или неофрейдистское обоснование. «В этом отношении, — пишет Адорно, — наши воззрения сближались с субъективно* направленными методами исследования в качестве кор- релятива к жесткому мышлению сверху, при котором ссылка на всесилие системы заменяет постижение- конкретной связи между системой и теми, из которых, она ведь состоит»Л Коллективное исследование Адорно и его сотрудников «Авторитарная личность» возникло- в рамках Калифорнийского университета (в Беркли),, того университета, в котором в середине 60-х годов преподавал Г. Маркузе и который стал одним из ведущих, центров левого студенческого движения в США.
Не отсюда ли следует вести генезис того лозунга «антиавторитаризма», который к концу 60-х годов перекинулся и на левое студенческое движение Западной Европы? И еще одна характерная деталь: финансировалось это исследование через возглавляемый с 1945 г.. Хоркхаймером «Исследовательский отдел», тесно связанный с сионистским движением «Еврейского комитета» в Нью-Йорке2. Не отсюда ли во многом проистекает, и та слепая вражда к Советскому Союзу, к ленинизму, которая затмила, особенно к концу 60-х годов„ глаза «критическим теоретикам» старшего поколение Франкфуртской школы на все новое в социалистическом- мире и привела их в тот идейно-политический тупик,, который завершился кризисом и развалом всей «школы», бунтом ее молодых воспитанников против своих «духовных отцов», тем бунтом, который для самого Адорно закончился трагически в августе 1969 г.
?
Итак, понятие «критическая теория» и сама ее сущность, как мы видим, претерпевают определенную эволюцию начиная с выработки этой концепции в середине 30-х годов (особенно в статье Хоркхаймера «Традиционная и критическая теория», 1937), через понимание- сущности этой теории, которое положено в основу совместной работы Хоркхаймера и Адорно «Диалектика просвещения» (1947) и до завершения в 60-х годах (в. «Одномерном человеке» Маркузе в 1964 г. и в «Нега-
J Th. W. Adorno. Stichworte, Kritische Modelle 2, S. 133.
2 M. Horkheimer. Research Project of Antisemitism.— «Studies, in Philosophy and Social Sciencc», vol. IX, 1942; «Studies in Prejudice». New York, 1949—1950.
тивной диалектике» Адорно в 1966 г.), которое принесло «критической теории» широкую известность и влияние.
Первоначально одной из исходных проблем для -Хоркхаймера была диалектика общего, особенного и •единичного в социальных теориях и в их применении к анализу реальной социальной действительности В самых различных вариантах, в разных школах буржуазной «философии истории» или «социальной философии» абстрактные основополагающие категории или понятия этих теорий (в том числе и понятия законов общественного развития) приходили в явное противоречие с конкретной, реальной действительностью общественного развития. Впрочем, по мнению сторонников «критической теории», это якобы относилось и к теории исторического материализма, к научному социализму Маркса, Энгельса и Ленина: конкретная действительность социалистического развития в СССР и классовой борьбы в тогдашней Германии и других капиталистических странах, по их мнению, противоречила марксистской теории. «Социология знания» поэтому объявляла любую социальную теорию не научным, но исключительно пристрастно- идеологически сформированным феноменом сознания. Крайний релятивизм и абсолютизированный «исторический подход» тоже вели в то время наступление на само понятие объективной истины в применении к общественным законам и категориям.
Затем у основоположников «критической теории» к этому добавилась попытка социально-исторического анализа генезиса и социальной функции подобных «метафизических социально-философских теорий», подменяющих реальность общими «законами», «категориями» и понятиями. «Критическая теория» претендовала при этом на разоблачение апологетической сущности всей буржуазной философии истории и социологии, от ее истоков и до наших дней. Уже в буржуазном Просвещении, а затем в идеях «свободы, равенства и братства», в социальной философии победившего феодализм капитализма, в буржуазном рационализме, позитивизме, в специфическом требовании «свободного от оценок» подхода в социальных науках — во всем этом, считали авторы, «критической теории», раскрывается буржуаз- ный, классово ограниченный характер, генезис и апологетическая функция различных буржуазных теорий общества и истории. Впрочем, это, по их мнению, относится и к тому варианту марксизма, который возобладал во II Интернационале и проповедовал «экономический детерминизм», провозглашавший неизбежный, автоматический приход «демократического социализма» в результате постепенных реформ и непротиворечивой эволюции.
В эпоху государственно-монополистического капитализма и начавшейся научно-технической революции с ее социальными последствиями сторонники «критической теории» пришли к выводу об абсолютном торжестве буржуазного инструментально-позитивистского апологетического «одномерного» сознания, «тотально» манипулирующего с помощью создания и удовлетворения «отчужденных», искусственных потребностей и средств массовой информации сознанием масс. Надежды на возможность формирования революционного, социалистического, классового сознания пролетариата, заявляли они, навсегда потеряны: в условиях научно-технической революции только «аутсайдеры», критически мыслящая часть студенчества и интеллигенции, еще способны прорвать это позитивистское одномерное мышление людей, выйти за его рамки. Впрочем, это, по клеветническому утверждению идеологов Франкфуртской школы, относится и к «советской идеологии» в развитом социалистическом обществе, которая якобы тоже подменила диалектический, критический марксизм «позитивистской», «догматической», «тоталитарной» идеологией и тоже «однозначно манипулирует» сознанием людей социалистического общества.
Таковы три этапа развития «критической теории» с 30-х до 60-х годов. Отсюда вытекает требование ее «левыми» сторонниками возврата к утопическому социализму, к замене научного анализа радикальным и всеобщим отрицанием, к идее о том, что сначала надо создать «новую чувственность» 35 освобожденного от всех цепей буржуазной идеологии и морали «критически и утопически мыслящего человека», который сможет, «технократически» и «элитарно» используя рычаги «тоталитарного манипулирования», осуществить «культурную революцию» и создать новое, не похожее на прежнее общество. Так «критическая теория» пыталась стать — и кое-где преуспела в этом!—знаменем «новых левых».
Более того, к 60-м годам «критическая теория» Франкфуртской школы сознательно стала одним из основных философских источников нового ревизионизма— так называемого западного марксизма.
Теоретические воззрения основателей: Хоркхаймер и Адорно
Согласно Хоркхаймеру и Адорно «Просвещение является философией, отождествляющей истину с научной системой». Познание, с которым имеет дело Просвещение, есть такой вид познания, который наилучшим образом разделывается с фактами и оказывает эффективную поддержку субъекту в деле обуздания сил природы. Однако с каждым шагом, освобождающим людей от природного насилия, все более возрастает насилие над людьми со стороны социальной и общественной системы.
В «Элементах антисемитизма», входящих в «Диалектику Просвещения», Хоркхаймер и Адорно делают следующий вывод. «Общество продолжает собой угрожающую природу в качестве непрерывного, организованного принуждения, которое, репродуцируясь в индивидах в качестве неуклонного следования принципу самосохранения, наносит ответный удар природе в качестве социального господства над ней». Развитие машин и технологии превращается в развитие машинерии господства. В таком обществе науке отведена роль новой прислужницы. «Место науки в общественном разделении труда определить легко. Она призвана нагромождать факты и функциональные связи между фактами как можно в большем количестве. Порядок их складирования должен быть легко обозримым. Он должен обеспечивать отдельным отраслям индустрии возможность без промедления отыскивать при сортировке искомый, желаемый интеллектуальный товар. Подобно тому, как Макиавелли писал для князей и республик, ученые работают сегодня для экономических и политических комитетов, управленческих структур, индустриальных консорциумов, профсоюзов, политических партий, выполняя задачи манипуляции ценами, товаром или эмоциями и настроениями масс».
Изначально сродство бизнеса и развлечения обнаруживает себя в специфическом предназначении последнего: в апологии общества. Культуриндустрия реализует человека в качестве родового существа. Каждый есть только то, посредством чего способен он заменить любого другого: взаимозаменяемое, экземпляр. Каждый обнаруживает себя с ранних лет заключенным в систему церквей, клубов, профсоюзов и прочих связей, представляющих собой инструмент социального контроля. Индивидуума надлежит использовать свое общее пресыщение в качестве движущей силы, которая заставит его сдаться на милость той коллективной власти, которой он и без того сыт по горло.
В «Негативной диалектике» Адорно развивает представление о перманентной трансформации буржуазного общества в направлении «тотально социализированного общества». Чтобы сохранить себя, это общество должно постоянно расширяться, прогрессировать, превосходить собственные границы. В общество интегрируются в качестве функциональных элементов системы любые маргинальные группы и явления культуры – пролетариат, джаз, любые оппозиционные движения или идеи – рабочие партии, марксизм.
В таком обществе критическая теории становится принципиально невозможной. Т.Адорно («К критике социальных наук») утверждал, что социология отказалась от критической теории общества. Это означает крах социологии, ибо социология по сути своей, являясь самопознанием и самосознанием общества, является и формой его самокритики. Социолог должен уметь мыслить общество иным, нежели существующее. Лишь тогда общество, видимо, станет для социолога проблемой, загадкой, которую нужно разгадать. Но общество, познанием которого занимается социолог, кристаллизируется вообще только вокруг концепции справедливого общества, правильного общества. Как объяснительная наука, социология должна выдержать испытание и способствовать посредством познания тому, чтобы история не продолжилась как история катастроф. Оптимистическая мысль о том, что социологическая критика состояния мира способна изменить его к лучшему, основывается на объективности самого духа, который с помощью определенного отрицания в состоянии очевидным образом квалифицировать ложное как ложное.
Оценка Ю.Хабермасом теории Хоркхаймера и Адорно.(где искать не знаю,может в лекциях)
15.
Исследование авторитарной личности группой Т.Адорно. Причины и основная гипотеза исследования. Фашизоидный и авторитарный тип личности. F-шкала. Методы исследования. Респонденты. Выводы.
На общем фоне глубоких и сложных теоретико-критических работ социологов франкфуртской школы особый интерес представляет эмпирическое исследование по теме «Авторитарная личность», выполненное в период пребывания лидеров школы в эмиграции в США.
Руководителем рабочей группы был Теодор Адорно. В состав группы входили Э.Френкель-Брюнсвик, Р.Н.Сэнфорд, Д.Дж.Левинсон.
На решение о проведении исследования самым непосредственным образом повлияла Вторая мировая война и ее зверства. Известны слова Адорно о том, что после Освенцима и всего, что творили в нем одни люди с другими, невозможна никакая поэзия, никакое творчество. Почему стало возможным падение человечества? Почему германская нация оказалась покорным исполнителем воли своих кумиров? Что делает с человеком современное общество? Ответы на эти вопросы и постарались дать исследователи во главе с Адорно.
Основная гипотеза исследования выглядела так: политические, экономические и общественные убеждения индивида нередко образуют особый образ мышления, стержнем которого является «склад ума», а сам образ мышления является выражением скрытых черт индивидуальной структуры характера.
Характер определялся как организация потребностей человека, а развитие характера связывалось с обществом, в котором живет человек, с группой, частью которой он является.
Изучение человеческого характера связывалось авторами с исследованием общественных идеологий, которые формируют этот характер.
Специальный и конкретный интерес авторов был направлен на исследование недемократических (антидемократических) идеологий, что объясняется временем, когда задумывалось и проводилось исследование (середина 40-х гг.).
В центре интересов исследователей был потенциально фашистский индивид. Под этими словами имелся в виду индивид, структура характера которого делает его особо восприимчивым к антидемократической пропаганде.
Авторы предположили, что лица, наиболее восприимчивые к фашистской пропаганде, имеют очень много общего, и что самих этих лиц (потенциальных фашистов) немало. А это делало возможным эмпирическое социологическое изучение их убеждений.
Авторы предположили, что восприимчивость индивида к антидемократическим идеологиям, в том числе фашизму, в первую очередь зависит от психологических потребностей человека и особенностей его характера. Это и предстояло узнать в процессе работы.
Еще одной из важных задач являлось выявить, какие социоэкономические факторы связаны с восприимчивостью к антидемократической пропаганде и какие – со способностью сопротивляться ей.
В качестве еще одного аспекта ситуации индивида, способной определить его идеологическую восприимчивость, авторы рассматривали принадлежность индивида к социальным группам, а также его профессию, провождение свободного времени, религиозные убеждения.
Характер личности, определяемый авторами как «потенциально фашистский», предлагалось рассмотреть как продукт взаимодействия между культурным «климатом» предрассудка и «психологическими» реакциями на этот климат. Этот «климат» состоит не только из грубых внешних факторов, таких как экономические и социальные условия, но также и из мнений, идей, мировоззрения и поведения, которые выступают как присущие индивиду, но не возникают из его автономного мышления и независимого психологического развития, а лишь сводятся к его принадлежности к нашей культуре
В самом начале исследования потенциального фашистского индивида авторы решили считать индикатором фашизоидного такой феномен как антисемитизм (неприязненное отношение к евреям). Надо сказать, что антисемитизм был «больной» темой для франкфуртских ученых, большинство из которых были евреями.
Понимая всю сложность осмысления антисемитизма, авторы подчеркивали необходимость избегать псевдорациональных дискуссий об антисемитизме, хотя и отметили, что в вопросах, связанных с антисемитизмом, «известная роль принадлежит и самому объекту» (т.е. евреям). Но интерес Адорно и его коллег прежде всего был сосредоточен на изучении реакций, направленных против евреев, а не на причины этих реакций.
Авторы предположили, что вражда к евреям (по большей части неосознанная) коренится в несостоятельности и подавлении, а в социальном плане отрывается от самого объекта, то есть самих евреев, и требует его замены (эрзац-объекта), с помощью которого эта вражда обретает для субъекта реалистический аспект. Для того чтобы соответствовать своей функции, объект неосознанной воли к разрушению (а именно в этом образе воспринимался еврей) должен выполнить ряд определенных условий:
быть достаточно конкретным, однако не слишком конкретным, чтобы не быть разрушенным собственной реальностью;
быть исторически подкрепленным и выступать как неоспоримый элемент традиции;
быть дефинированным в застывших и хорошо известных стереотипах;
должен обладать признаками, быть воспринимаемым и понятым как признак, препятствующий деструктивным тенденциям индивидов с предубеждениями.
Авторы пришли к выводу, что антисемитские предрассудки могут возникнуть на конкретной основе. Например, из зависти экономического характера. Либо, «в образе еврея, сооружаемом шовинистами на глазах у всего мира, находят свое выражение их собственная сущность. Их страстью является исключительное обладание, присвоение, власть без границ любой ценой».
Объективизация социальных процессов, в действительности подчиняющихся надындивидуальным законам, может привести к духовному отчуждению индивида от общества, воспринимаемому отдельной личностью, как дезориентация, и сопровождаемая страхом и неуверенностью. Средством преодоления этого неприятного состояния выступают политические стереотипы, шаблонные представления о политике и бюрократе, как ориентировочные маркеры и проекции вызванных дезориентацией страхов.
Сходные функции, по-видимому, выполняет и «иррациональное» клише евреев. Для индивидов с крайней степенью предубеждений они максимально стереотипны и одновременно в большей степени, чем какое-либо другое пугало, персонифицированы, так как определяются не профессией или социальной ролью, а экзистенцией как таковой.
Касаясь возможностей самого выявления определенных типизированных отношений к социальной реальности, авторы указывают, что критика типологии не должна упускать из виду то, что большое число людей не является индивидами в смысле традиционной философии 19 века или даже никогда такими не были. Мышление «ярлыками» возможно только потому, что существование тех, которые ему поддаются, в значительной степени определено «ярлыком» – стандартизированными, непроницаемыми и могущественными общественными процессами, которые оставляют индивиду очень мало свободы для действий и проявления истинной индивидуальности.
Для исследования авторитарного характера авторами были разработаны три шкалы: шкала антисемитизма (A-S-шкала), шкала этноцентризма (E-шкала) и, собственно, шкала фашизма (F-шкала). Эти шкалы представляли собой ряд высказываний, которые было предложено оценить респондентам. Для того, чтобы респонденты высказывали свои истинные убеждения, авторы постарались так сформулировать сами суждения, чтобы они, с одной стороны, отражали бы мнение и поведение, и внешне выглядели как обычные анкеты, а, с другой стороны, на деле служили бы «разоблачению» латентных антидемократических тенденций в характере.
Шкалы разрабатывались в два этапа. На первом подбирались и формулировались высказывания, которые без видимой связи с явно антидемократическими мнениями все-таки достаточно сильно с ними коррелировали; на втором этапе подбирались доказательства того, что эти «косвенные» шкальные высказывания являются выражением антидемократичекого потенциала в структуре личности.
Методами исследования являлись:
Опрос. Анкеты, которые заполнялись анонимно, были посвящены таким вопросам: личные данные респондента (религия, доход, профессия и др.); шкалы мнений и установок (высказывания, на каждое из которых надо было ответить, указав степень согласия или несогласия); проективные вопросы, требующие открытого ответа.
Интервью. Его идеологическая часть побуждала респондента к возможно более спонтанному и свободному разговору на темы политики, религии, меньшинства, дохода, профессии.
Тестирование (тематико-апперцепционное, по картинкам с драматическими событиями).
Лица для интервью и тестирования отбирались в группах из людей с наименее или наиболее высоким количеством очков на шкале этноцентризма.
Шкала фашизма разрабатывалась на основании ранее полученных оценок суждений, связанных с двумя другими шкалами.
В качестве респондентов выступали представители следующих профессиональных групп:
Студенты разных специальностей, обучающиеся в нескольких университетах (мужчины и женщины).
Работающие женщины Сан-Франциско (учителя, работники соцобеспечения, медсестры)
Женщины и мужчины - члены калифорнийских и орегонских общественных клубов.
Пациенты психиатрической клиники Лэнгли Портера.
Заключенные государственной тюрьмы Сан-Квентин.
Курсанты училища офицеров торгового флота Аламеда.
Рабочие разных специальностей.
Относительно центральных черт авторитарного характера, обнаруживаемых благодаря F-шкале, и предположительно считавшихся ключевыми, авторы руководствовались набором черт, установленных ранее, при работе со шкалами A-S и E.
Одна из черт получила название конвенционализм (см.ниже). Речь шла о форме констатации того, что антисемит отрицательно относится к евреям за то, что они якобы не соблюдают законы общепринятой морали. Одна из черт характера авторитарного человека состоит в том, что он особо прочно и бесповоротно связан с конвенциональными ценностями, и поэтому его антисемитизм базируется на этом предрассудке, который одновременно проявляется и другим образом – в общей тенденции смотреть свысока на мнимых нарушителей традиционных норм и наказывать их за это.
Поэтому, подчинение конвенциональным ценностям рассматривалось как одна из переменных в индивиде, которая могла быть установлена с помощью высказываний типа шкалы F и чья функциональная взаимозависимость с различными манифестациями предрассудка была доказана.
Аналогичным путем было введено и дефинировано несколько переменных, которые все вместе образовывали основное содержание F-шкалы.
Конвенционализм – непоколебимая привязанность к конвенциональным ценностям среднего сословия.
Авторитарное раболепие – некритическое подчинение идеализированным авторитетам собственной группы.
Авторитарная агрессия – тенденция выискивать людей, не уважающих конвенциональные ценности, чтобы осудить, отвергнуть и наказать их.
Анти-интрацепция – неприятие всего субъективного, исполненного фантазии, чувствительного.
Суеверность и стереотипизм – вера в мистическое предначертание собственной судьбы; предрасположенность к мышлению в жестких категориях.
Силовое мышление и культ силы – мышление в таких категориях, как господство-подчинение, сильный-слабый, вождь-последователи, идентификация себя с образами, воплощающими силу; выпячивание конвенционализированных атрибутов собственного Я; выставление напоказ силы и крепости.
Деструктивность и цинизм – общая враждебность, очернение всего человеческого.
Проективность – предрасположенность верить в мрачные и опасные процессы, происходящие в мире; проекция неосознанных, инстинктивных импульсов на внешний мир.
Сексуальность – чрезмерный интерес к сексуальным «происшествиям».
Исследование позволило авторам выделить несколько синдромов лиц, имеющих какие-то предрассудки.
Поверхностное неприязненное чувство. Характерно для людей, которые перенимают извне как стереотипы, так и готовые формулы, чтобы рационализировать собственные трудности и преодолеть их психологически или практически.
Конвенциональный синдром. Представляет собой мышление в застывших категориях групп «своих» и «чужих», облегчающее идентификацию индивида с группой, к которой он относится или хотел бы относиться.
Авторитарный синдром. Чтобы достичь «интернализации» общественного принуждения, которое всегда требует от индивида больше, чем ему дает, его поведение по отношению к авторитету и его психологической инстанции сверх-Я принимает иррациональные черты. Индивид только тогда может осуществить собственное социальное подчинение, если ему по душе послушание и подчинение. В психодинамике «авторитарного» характера частично абсорбируется ранняя агрессивность, преобразуясь в мазохизм, частично она остается в виде садизма, который ищет питательную среду в тех, с кем индивид себя не идентифицирует, то есть в чужой группе. Часто еврей становится заменой ненавистному отцу и в воображении преображает свойства, которые вызывали сопротивление по отношению к отцу: трезвость, холодность, желание господствовать, и даже свойства сексуального характера.
С точки зрения социологии этот синдром в Европе был более типичен для нижней прослойки среднего класса; в Америке его можно ожидать у людей, реальный статус которых отклоняется от желаемого. «Авторитарный», отождествляющий себя с властью, одновременно отвергает все, что находится «внизу». При этом синдроме разделение между своей и чужой группой абсорбирует огромное количество духовной энергии.
Бунтовщик и психопат. При синдроме этого типа негативный перенос зависимости связан со стремлением по псевдореволюционному выступать против тех, которые в его глазах являются слабыми. Большую роль играл этот синдром в национал-социалистической Германии.
Фантазер. Синдром встречается у женщин и пожилых мужчин, исключенных из процесса продуктивного хозяйства, вынужденных создавать свой иллюзорный псевдо-реальный мир, часто граничащий с манией. Для этих людей характеры незавершенное образование, магическая вера в естественные науки, которая делает их идеальными сторонникам расовых теорий.
Манипулятивный тип. Рассматривает всё и каждого как объект, которым нужно владеть, манипулировать и который нужно понять соответственно своим собственным теоретическим и практическим шаблонам. Главное, чтобы «что-то делалось», а побочным является, что делается. Бесчисленные примеры этой структуры находятся среди деловых людей, и во все увеличивающемся количестве также среди стремящихся вверх менеджеров и технологов, которые занимают срединное положение между старым типом делового человека и типом рабочего-аристократа. Евреи их раздражают своим мнимым индивидуализмом. Их цель – скорее конструирование газовых камер, чем погром. В Америке этот синдром представлен только в рудиментарной стадии.
16.
Социально-критическая теория Г.Маркузе. Западное общество в работах «Эрос и цивилизация» и «Одномерный человек».
Личность Маркузе привлекает к себе особое внимание в связи с влиянием, которое оказали на общественную культуру и политическую активность молодежи его труды. Маркузе после окончания Второй мировой войны остался работать в США. Наиболее важными его работами являются «Эрос и цивилизация: философское исследование Фрейда» (1955) и «Одномерный человек» (1964). Маркузе пишет о том, что в современной цивилизации подавляются естественные (природные) влечения человека к удовольствию, прежде всего сексуальному. Подавление этих влечений, или «модификация» инстинктов требуется для поддержания человеческого рода в цивилизованном состоянии. Однако избыточность подавление ведет к тому, что преобладающей исторической формой принципа реальности является принцип исполнения. Основная сфера сублимации в условиях современной цивилизации – экономика. Индустрия и удовлетворяет, и развивает потребности в своих продуктах. Создание продуктов в процессе и трансформации, конкуренция и войны утилизируют агрессивные импульсы. Цивилизация знает только один способ подавления инстинктов – сублимацию посредством труда. Либидо «централизуется», сосредоточивается лишь в гениталиях, освобождая остальную часть тела для использования в качестве инструмента труда. Секс становится общественным явлением. Он интегрируется в экономику, политику, культуру. Сексуализация людьми своего облика, поведения, профессионального и домашнего окружения диктуется императивами технологической рациональности и способствует социальной интеграции. Человек теперь не отчужден ни от общества, ни от своих инстинктов, но он по-прежнему не свободен. Теория общества в терминах эроса, десублимации утратила критический потенциал.
Тотальный характер одномерности развитого индустриального общества подтверждает мысль Маркузе: критическая теория общества осталась без социальной базы – политической и культурой оппозиции – и без предмета. Все прежние ее категории интегрированы в одномерный универсум технико-экономического прогресса в качестве его же идеологии. В этой ситуации Маркузе считает необходимым обновление критической теории, но на основе сохранения исходных принципов теории.
На протяжении 1970-х гг. критическая теория общества в версии Маркузе не претерпела кардинальных изменений. Работ, непосредственно посвященных разработке теории общества, он не создал. Главной темой для него стала проблема перспектив и потенциала революционной трансформации существующего социального порядка. Грядущую революцию он видит как культурную революцию. Новая цивилизация должна базироваться на измененной культуре, формирующей все сферы общества, включая материальное производство. Выведение принципов нерепрессивной цивилизации из тенденций, наблюдаемых в современной жизни, предполагает обращение к сферам, наименее подчиненным рациональности принципа реальности. Прежде всего, к эстетическому измерению цивилизации. Освобождение чувственности через ее примирение с разумом, утверждаемое в качестве истины искусства классической эстетикой, может служить позитивным образом примирения принципов удовольствия и реальности. Это примирение предполагает прежде всего трансформацию труда в игру, которая следует за искоренением нужды, а также самосублимацию чувственности и десублимацию разума, - примиряющих их антагонизм. Эти элементы Маркузе кладет в основу принципов нерепрессивной цивилизации. Труд неизбежен, но он должен быть подчинен свободному развитию человеческих и природных возможностей. Разумным становится то, что поддерживает принцип удовольствия. В той степени, в какой борьба за существование становится сотрудничеством во имя свободного развития и удовлетворения индивидуальных потребностей, репрессивный разум уступает дорогу новой рациональности удовольствия.
Ориентируясь на эту концепцию свободы, Маркузе заключает, что если новые левые борются за сохранение природы, общественных парков, новую сексуальную мораль, женскую эмансипацию, то они борются и против материальных условий, установленных капиталистической системой. Маркузе сделал акцент на экологическом и феминистском движениях и сумел предвосхитить ключевые тенденции развития общества.
Однако в 1980-1990-х гг. «Великий Отказ» был абсорбирован обществом. Рок-музыка, имидж хиппи и Панков инкорпорированы в индустрию развлечений и повседневную жизнь. Эксперименты по раскрепощению чувственности с помощью легких наркотиков интегрированы в рационализированной индустрии наркобизнеса. Импульс сексуальной революции поглощен секс-индустрией. Секс-меньшинства легализуются. Национальные меньшинства интегрируются в развитое общество экономически и политически. Экологическая проблематика становится полем деятельности корпораций и государственной администрации, а лидеры экологического движения становятся членами политического истеблишмента. Радикально настроенные философы и социологи получают профессорские кафедры. Но общество оказалось способным освободиться от прежних форм подавления без катастрофы. В соответствии с принципами критической теории в изменившихся условиях теория должна пройти через диалектическое отрицание своей прежней формы. Развитие критической теории в ее диалектической версии Маркузе более соответствовало исходным принципам теории, чем догматизация теории Хоркхаймером и Адорно, а модели общества, созданные в рамках диалектической версии, более отражали основные тенденции развития общества во второй половине 20 века.
Приложение: Герберт Маркузе «Одномерный человек». Часть 1. Одномерное общество. Из главы 1 «Новые формы контроля».
Развитая индустриальная цивилизация — это царство комфортабельной, мирной, умеренной, демократической несвободы, свидетельствующей о техническом прогрессе.
Права и свободы, игравшие роль жизненно важных факторов на ранних этапах индустриального общества, утрачивают свое традиционное рациональное основание и содержание и при переходе этого общества на более высокую ступень сдают свои позиции. Свобода мысли, слова и совести — как и свободное предпринимательство, защите и развитию которого они служили, — первоначально выступали как критические по своему существу идеи, предназначенные для вытеснения устаревшей материальной и интеллектуальной культуры более продуктивной и рациональной. Но, претерпев институционализацию, они разделили судьбу общества и стали его составной частью.
В той степени, в которой свобода от нужды как конкретная сущность всякой свободы становится реальной возможностью, права и свободы, связанные с государством, обладающим более низкой производительностью, утрачивают свое прежнее содержание. Независимость мысли, автономия и право на политическую оппозиционность лишаются своей фундаментальной критической функции в обществе, которое, как очевидно, становится все более способным удовлетворить потребности индивидов благодаря соответствующему способу их организации. В условиях повышающегося уровня жизни неподчинение системе кажется социально бессмысленным.
Свобода предпринимательства с самого начала вовсе не была путем, усыпанным розами. Как свобода работать или умереть от голода она означала мучительный труд, ненадежность и страх для подавляющего большинства населения. И если бы индивиду больше не пришлось как свободному экономическому субъекту утверждать себя на рынке, исчезновение свободы такого рода стало бы одним из величайших достижений цивилизации. Технологические процессы механизации и стандартизации могли бы высвободить энергию индивидов и направить ее в еще неведомое царство свободы по ту сторону необходимости. Это изменило бы саму структуру человеческого существования; индивид, избавленный от мира труда, навязывающего ему чуждые потребности и возможности, обрел бы свободу для осуществления своей автономии в жизни, ставшей теперь его собственной. И если бы оказалось возможным организовать производственный аппарат так, чтобы он был направлен на удовлетворение витальных потребностей, и централизовать его управление, то это не только не помешало бы автономии индивида, но сделало бы ее единственно возможной.
Такая задача, «конец» технологической рациональности, вполне по силам развитому индустриальному обществу. В действительности, однако, мы наблюдаем противоположную тенденцию: аппарат налагает свои экономические и политические требования защиты и экспансии как на рабочее, так и на свободное время, как на материальную, так и на интеллектуальную культуру. Сам способ организации технологической основы современного индустриального общества заставляет его быть тоталитарным; ибо «тоталитарное» здесь означает не только террористическое политическое координирование общества, но также не террористическое экономико-техническое координирование, осуществляемое за счет манипуляции потребностями. Таким образом, создаются препятствия для появления действенной оппозиции внутри целого.
Современное индустриальное общество достигло стадии, на которой оно уже не поддается определению в традиционных терминах экономических, политических и интеллектуальных прав и свобод; и не потому, что они потеряли свое значение, но потому, что их значимость уже не вмешается в рамки традиционных форм. Требуются новые способы реализации, которые бы отвечали новым возможностям общества.
Однако поскольку такие новые способы равносильны отрицанию прежде преобладавших способов реализации, они могут быть указаны только в негативных терминах. В этом смысле экономическая свобода означала бы свободу от экономики — от контроля со стороны экономических сил и отношений, свободу от ежедневной борьбы за существование и зарабатывания на жизнь, а политическая — освобождение индивидов от политики, которую они не могут реально контролировать. Подобным же образом смысл интеллектуальной свободы состоит в возрождении индивидуальной мысли, поглощенной в настоящее время средствами массовой коммуникации и воздействия на сознание, в упразднении «общественного мнения» вместе с теми, кто его создает. То, что эти положения звучат нереалистично, доказывает не их утопический характер, но мощь тех сил, которые препятствуют их реализации. И наиболее эффективной и устойчивой формой войны против освобождения является насаждение материальных и интеллектуальных потребностей, закрепляющих устаревшие формы борьбы за существование.
Мы можем различать истинные и ложные потребности. «Ложными» являются те, которые навязываются индивиду особыми социальными интересами в процессе его подавления: это потребности, закрепляющие тягостный труд, агрессивность, нищету и несправедливость. Утоляя их, индивид может чувствовать значительное удовлетворение, но это не то счастье, которое следует оберегать и защищать, поскольку оно (и у данного, и у других индивидов) сковывает развитие способности распознавать недуг целого и находить пути к его излечению. Результат — эйфория в условиях несчастья. Большинство преобладающих потребностей (расслабляться, развлекаться, потреблять и вести себя в соответствии с рекламными образцами, любить и ненавидеть то, что любят и ненавидят другие) принадлежат именно к этой категории ложных потребностей.
Но вот вопрос: кто вправе претендовать на то, чтобы выносить решение?
Право на окончательный ответ в вопросе, какие потребности истинны и какие ложны, принадлежит самим индивидам — но только на окончательный, т.е. в том случае и тогда, когда они свободны настолько, чтобы дать собственный ответ. До тех пор, пока они лишены автономии, до тех пор, пока их сознание — объект внушения и манипулирования (вплоть до глубинных инстинктов), их ответ нельзя считать принадлежащим им самим.
Чем более рациональным, продуктивным, технически оснащенным и тотальным становится управление обществом, тем труднее представить себе средства и способы, посредством которых индивиды могли бы сокрушить свое рабство и достичь собственного освобождения. Всякое освобождение неотделимо от осознания рабского положения, и преобладающие потребности и способы удовлетворения, в значительной степени усвоенные индивидом, всегда препятствовали формированию такого сознания. Одна система всегда сменяется другой, но оптимальной задачей остается вытеснение ложных потребностей истинными и отказ от репрессивного удовлетворения.
Отличительной чертой развитого индустриального общества является успешное удушение тех потребностей, которые требуют освобождения — в том числе от такого притеснения, которое вполне терпимо или даже сулит вознаграждение и удобства, тем самым поддерживая деструктивную силу и репрессивную функцию общества изобилия. Такое управление обществом стимулирует неутолимую потребность в производстве и потреблении отходов, потребность в отупляющей работе там, где в ней больше нет реальной необходимости, потребность в релаксации, смягчающей и продлевающей это отупление, потребность в поддержании таких обманчивых прав и свобод, как свободная конкуренция при регулируемых ценах, свободная пресса, подвергающая цензуре самое себя, свободный выбор между равноценными торговыми марками и ничтожной товарной мелочью при глобальном наступлении на потребителя.
Под властью репрессивного целого права и свободы становятся действенным инструментом господства. Для определения степени человеческой свободы решающим фактором является не богатство выбора, предоставленного индивиду, но то, что может быть выбрано и что действительно им выбирается. Хотя критерий свободного выбора ни в коем случае не может быть абсолютным, его также нельзя признать всецело относительным. Свободные выборы господ не отменяют противоположности господ и рабов. Свободный выбор среди широкого разнообразия товаров и услуг не означает свободы, если они поддерживают формы социального контроля над жизнью, наполненной тягостным трудом и страхом, — т.е. если они поддерживают отчуждение. Также спонтанное воспроизводство индивидом навязываемых ему потребностей не ведет к установлению автономии, но лишь свидетельствует о действенности форм контроля.
Если рабочий и его босс наслаждаются одной и той же телепрограммой и посещают одни и те же курорты, если макияж секретарши не менее эффектен, чем у дочери ее начальника, если негр водит «кадиллак» и все они читают одни и те же газеты, то это уподобление указывает не на исчезновение классов, а на степень усвоения основным населением тех потребностей и способов их удовлетворения, которые служат сохранению Истеблишмента.
Мы вновь сталкиваемся с одним из самых угнетающих аспектов развитой индустриальной цивилизации: рациональным характером его иррациональности. Его продуктивность, его способность совершенствовать и все шире распространять удобства, превращать в потребность неумеренное потребление, конструктивно использовать дух разрушения, то, в какой степени цивилизация трансформирует объективный мир в продолжение человеческого сознания и тела, — все это ставит под сомнение само понятие отчуждения. Люди узнают себя в окружающих их предметах потребления, прирастают душой к автомобилю, стереосистеме, бытовой технике, обстановке квартиры. Сам механизм, привязывающий индивида к обществу, изменился, и общественный контроль теперь коренится в новых потребностях, производимых обществом.
Преобладающие формы общественного контроля технологичны в новом смысле. Разумеется, в рамках современного периода истории техническая структура и эффективность продуктивного и деструктивного аппарата играли важнейшую роль в подчинении народных масс установившемуся разделению труда. Кроме того, такая интеграция всегда сопровождалась более явными формами принуждения: недостаточность средств существования, карманные правосудие, полиция и вооруженные силы — все это имеет место и сейчас. Но в современный период технологические формы контроля предстают как воплощения самого Разума, направленные на благо всех социальных групп и удовлетворение всеобщих интересов, так что всякое противостояние кажется иррациональным, а всякое противодействие немыслимым. Неудивительно поэтому, что в наиболее развитых цивилизованных странах формы общественного контроля были интроектированы до такой степени, что индивидуальный протест подавляется уже в зародыше. Интеллектуальный и эмоциональный отказ «следовать вместе со всеми» предстает как свидетельство невроза и бессилия. Таков социально-психологический аспект политических событий современного периода: исторические силы, которые, как казалось, сулили возможность новых форм существования, уходят в прошлое.
17.
Феноменологическая социология. Э.Гуссерль о реальности и сознании, интенциональности и жизненном мире людей.
Понимание феноменологии Гуссерля требует необходимости разобраться в содержании и в отношениях друг с другом следующих понятий:
Трансцендентное Эго (трансцендентальный субъект)
Сознание
Интенция и интенциональность
Интенциональный объект
Феномен
Интерсубъективный мир
Осуществим попытку разобраться в этих сложных вещах.
Если Парсонс обращался к «вопросу Гоббса» («Почему существует социальный порядок»?), то Гуссерля интересует «вопрос Декарта»: «В существовании чего усомниться можно – и чего – нельзя»? Ответ Декарта и Гуссерля таков: «При всем желании нельзя усомниться в своем собственном существовании в качестве сознающего существа». Здесь идёт речь о нашем Я как трансцендентальном субъекте, который дан изначально, в первичном опыте восприятия, ощущения, осознания. Такое изначальное восприятие самого себя Гуссерль называет естественной установкой. Гуссерль исходит из того, что феноменологу о своей естественной жизни и своей естественной установке лучше всего говорить «от первого лица».
Я (собственно, каждый из нас, людей) осознаю мир в пространстве и в становлении благодаря чувственному восприятию и непосредственному созерцанию. В понятие «мира» для меня входит не только мир вещей, но и мир ценностей, благ, практический мир, а также различные акты и состояния душевного строя и воления, которые все охватываются картезианским выражением cogito (я мыслю).
По Гуссерлю «естественное познание начинается с опыта и в опыте пребывает. Следовательно, в теоретической установке, которую мы называем «естественной», совокупный горизонт возможного исследования обозначается одним словом – мир».
Каждое человеческое «Я» привычно и «естественно» пользуется не только тем, что мир всегда сам по себе «наличен» и пред-дан нам, но и тем, что само оно составляет «естественное» звено этого мира. Поэтому «естественная» установка по отношению к миру составляет непременную предпосылку жизни отдельного человека в природе и обществе. Какие бы другие установки, например, научная, или религиозная, потом не возникали, «естественная» установка, по Гуссерлю, не меняется, остаётся в силе.
Естественная установка остаётся естественной ещё и потому, что подавляющее большинство людей и в громадном большинстве случаев, привычно и неосознанно её придерживаясь, не рефлектируют на своё поведение в мире и на свою установку по отношению к действительности.
Все люди, включая ученых, являются членами единого естественного мира. Принадлежащие миру человеческие «Я» также находятся внутри естественного мира. Никто из нас даже мысленно не может покинуть естественного мира. Мы можем, однако, сводить этот мир к чему-то специфическому, что становится ценным для нашего сознания. Мир – это интенциональный коррелят, образованный нашей (моей, твоей, его, её) системой переживаний. На основе системы переживаний каждого из нас конституируется мир и остается сконструированным как смысл Эго каждого из нас в мире. Интенциональностью Гуссерль называл направленность сознания на какие-то объекты, которые проявляются посредством интенции. Понятие интенциональности в понимании Гуссерля приспособлено не просто к вещам природы, конкретным реальным объектам, но и к процессам, отношениям, соединениям, целому и части, которые представлены в сознании уже не как внешние ему объекты, а как предметности самого сознания.
Каждый из актов сознания трансцендентного Эго (sum cogito) есть не что иное, как некая направленность, интенция. Всякий акт сознания направлен на что-то. Например, видимое нами за окном дерево является интенциональным объектом, а дерево само по себе, никем и никоим образом не воспринимаемое, существует в действительности лишь проблематически.
Интенционального объекта нет без видящего его субъекта. Такой объект есть объект интенций, есть имманентный коррелят актов сознания.
Гуссерль исходит из мысли о ненарушимой коррелятивности всего вещно-предметного мира и сознания: предметность не может быть ничем иным, кроме как коррелятом сознания. Сознание есть необратимый, бесконечный поток переживаний; феноменолог изучает «чистую форму» этого потока; а также способность сознания придавать потоку целостную интегральную форму.
Сознание непосредственно даётся нам именно как необратимый поток (каких-либо) переживаний, как некоторое «в себе» структурированное и потому доступное (феноменологическому) структурированию текучее единство.
Всё, что проявляется сознанием, Гуссерль называл феноменами. Для него феномен и сознание – два коррелятивных понятия: любое сознание есть сознание «о чем-то» и это «что-то» есть феномен, содержащийся в сознании. Гуссерль старался доказать, что такие феномены духовной культуры людей, как верования, переживания, предрассудки являются не врагами истины и разума (как это казалось еще французским просветителям), но истинами повседневной и действительной жизни людей в естественном мире. На этой основе Гуссерль и считал необходимым исследовать жизненный мир людей, Lebenswelt.
Все объекты, не находящиеся в области «моего» (представляющего для меня интерес), пребывают в области «постороннего», которая располагается на периферии центрированного мира моих интенциональных объектов. В эту область входят (находятся в ней) другие психофизические структуры. За каждой не-моей психофизической структурой «стоит» аналогичный моему, но другой трансцендентальный субъект. Существование других трансцендентальных субъектов является таким же действительным существованием, каким является существование моего трансцендентального субъекта. Моя психофизическая структура находится в центре мира моих интенциональных объектов, а психофизическая структура Другого – на периферии. Для любого Другого его психофизическая структура и трансцендентальный субъект будут центральными, а мои психофизическая структура и трансцендентальный субъект окажутся на периферии. Ни одно трансцендентальное сознание не имеет непосредственных контактов ни с каким другим: каждое из них полностью «замкнуто» само на себя. Получается, что трансцендентальные Эго устроены точно так же, как (закрытые) лейбницевские монады. Гуссерль так прямо и называет трансцендентальные субъекты монадами, а всякое множество сосуществующих друг с другом трансцендентальных субъектов – сообществом монад. Если сообщество монад является по-настоящему и в полном смысле этого слова сообществом, то, во-первых, монады должны иметь средства для общения друг с другом. А, во-вторых, они должны обитать в каком-то общем для всех них мире.
Согласно Гуссерлю, такой мир есть общий для всех монад мир. Но он не «объективный», так как он не имеет не зависящего от трансцендентальных субъектов существования. Этот мир – интерсубъективный. Такое наименование дал ему Гуссерль. Все объекты интерсубъективного мира интенциональные, но это такие интенциональные объекты, которые являются «общими» для всех или, по крайней мере, для некоторых трансцендентальных субъектов. В силу предустановленной гармонии трансцендентальный опыт каждого трансцендентального субъекта так согласуется с трансцендентальным опытом других трансцендентальных субъектов, что образуется интерсубъективный мир, состоящий из интенциональных объектов, общих для всех этих трансцендентальных субъектов. Все они живут и действуют в этом интерсубъективном мире. За счет упомянутой предустановленной гармонии каждый из них может согласовывать свои действия с действиями других; по поводу «общих» для них интенциональных объектов они могут обмениваться информацией: у них есть для этого средства.
Монады не имеют окон и поэтому не способны непосредственно проникать в интенциональные миры друг друга. Однако они имеют средства сообщать друг другу о том, что делается в их интенциональных мирах. Опосредованное общение монад друг с другом вполне возможно и осуществляется посредством устной и письменной речи. Те объекты, о которых мы можем друг другу что-то сказать, суть наши общие объекты. В результате речевого общения и создается общая для нас картина интерсубъективного мира, в котором мы живем. Мы приводим в соответствие наши внутренние, субъективные, времена и пространства и получаем общее интерсубъективное время и общее интерсубъективное пространство. Общими объектами становятся для нас земля и небо, горы и долины, моря и реки, равно как и сообщество людей. Общими объектами становятся для нас законы природы и общества. Лишь о самых интимных сторонах моих переживаний я ничего не могу сообщить другим людям; такого рода переживания навсегда остаются моим личным достоянием. Разница между двумя мирами заключается лишь в том, что объекты трансцендентального мира существуют сами по себе, независимо ни от каких субъектов, объекты же интерсубъективного мира существуют только тогда, когда их кто-то наблюдает, когда о них кто-то думает, о них кто-то помнит.
В результате речевого и других видов общения с Другими мой трансцендентальный опыт значительно расширяется за счет трансцендентального опыта Других. Тем, что я первым обнаружил или создал, я могу поделиться с Другими и обогатить интерсубъективный мир новыми объектами. Мой трансцендентальный опыт может обогатить трансцендентальный опыт Других. Однако ясно, что то, что я даю Другим, неизмеримо меньше того, что я сам беру от них. В трансцендентальном опыте Других имеются такие объекты, которые отсутствуют в моем трансцендентальном опыте. Это означает, что мой личный интерсубъективный мир ýже, чем интерсубъективный мир как таковой.
Наличие общих интенциональных объектов обнаруживается не только в речевом общении, но и в других видах человеческой практики. Напрашивающийся пример – совместное производство какого-либо продукта, то, над чем люди вместе трудятся, - общий для всех интенциональный объект. Например, сооружаемое здание. Другой яркий пример – поведение группы людей в минуту какой-нибудь общей опасности. Сорвавшийся с цепи злой пёс – общий интенциональный объект для всех спасающихся бегством и составная часть их интерсубъективного мира.
Гуссерль отверг позитивистско-натуралистическую концепцию познания за то, что она отделяет объект познания от субъекта познания. (Вспомним про требование Дюркгейма изучать социальные факты как вещи). Согласно Гуссерлю объекты действительности, или предметное бытие только благодаря соотнесенности к сознанию становятся объектами. По Гуссерлю сознание есть всегда только сознание о «чем-то, всегда направлено «к чему-то». Например, на объект.
Гуссерль считал, что дуализм субъекта и объекта есть историческое явление, неизвестное в древности и средние века, когда люди исходили в своих «научных» поисках из идеи целесообразного и живого Космоса. Гуссерль критически относился к европейской философии века Разума и века Просвещения. Новоевропейское человечество выдвинуло идею о том, что целостность бесконечно сущего мира есть внутренне рациональная целостность. Эта идея стала господствующей в универсальной науке. Считалось, что весь мир должен раскрыть себя как математически-объективный. Любое измерение обретает смысл приближения к определенным математическим сущностям, к числовым конструкциям, принадлежащим этим сущностям. Возникло свободное, систематическое, априорное мышление, полностью свободное от всякой связи с чувственно воспринимаемой действительностью, размышление о числах вообще, числовых отношениях, числовых законах. Галилей осуществил замещение единственно реального, опытно воспринимаемого и данного в опыте мира – мира нашей повседневной жизни миром идеальных сущностей, который обосновывается математически.
Но с самого своего возникновения естествознание и геометрия должны служить целям, которые заключены в этой жизни и должны быть соотнесены с жизненным миром. Этот действительно созерцаемый, опытный и в опыте постигаемый мир, в котором практически разворачивается вся наша жизнь, сохраняется неизменным в своей сущностной структуре, в собственном способе бытия независимо от того, постигаем ли мы его непосредственно или с помощью искусственных средств. Одеяние идей, присущее «математике и математическому естествознанию», одеяние символов, характерное для символическо-математических теорий, охватывает все конструкции, с помощью которых ученые замещают жизненный мир, придавая ему покров «объективной, действительной и истинной» природы. Одеяние идей создает то, что мы принимаем за истинное бытие, которое на деле есть метод. Гуссерль делает вывод о том, что природа сама по себе полностью нематематизирована и не может мыслиться как единая математическая система, не может быть выразима в некой единой математике природы, которую естествознание непрерывно ищет как всеохватывающую систему законов, аксиоматическую по форме.
Из работ Эдмунда Гуссерля
1. «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии»
Раздел второй. Фундаментально-феноменологическое рассуждение
Глава первая. Тезис естественной установки и его выключение
