
- •Глава 1
- •Глава 1
- •1 Маркс к., Энгельс ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 729. 38
- •1 Ленин в. И. Поли. Собр. Соч., т. И, с. 38. 4—127 97
- •Эпоха реставрации и переворот 1688 г.
- •Глава 3
- •1 Маркс к., Энгельс ф. Соч. 2-е изд., т. 22, с. 310.
- •Глава 4
- •1 Ленин в. И. Полн. Собр. Соч., т. 38, с. 367. 156
- •Подъем рабочего
- •Глава 5
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Всеобщая стачка
- •Глава 8
- •Глава 9
Глава 7
АНГЛИЯ В 1917-1939 гг.
о
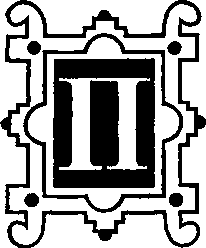
276.
пе общего кризиса капитализма, сложившегося в годы первой мировой войны, Англия стала ареной острейших классовых битв, поставивших под угрозу само существование капитализма. Второй этап общего кризиса капитализма начался в годы второй мировой войны и продолжался до второй половины 50-х годов. В этот период начался распад Британской империи — этой основы экономического и политического могущества английской буржуазии. Наконец, на современном этапе распад Британской империи фактически завершен, а в самой Англии растут силы, борющиеся за демократию и социализм.
НАЧАЛО КРИЗИСА БРИТАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА
Вступая в войну, английская буржуазия рассчитывала утопить рабочее движение в волнах шовинизма, сломить сопротивление рабочего класса чрезвычайными законами военного времени. В действительности же она получила лишь временную передышку от острых классовых конфликтов. В 1915 г. они возобновились и, постепенно нарастая, приобрели уже к 1917 г. масштабы, приближающиеся к высшим точкам предвоенного подъема.
Оживлению антивоенного движения и вообще активизации английского рабочего класса способствовала Февральская революция в России. Английские рабочие стремились использовать революционный опыт пролетариата России. Левое крыло Британской социалистической партии призывало рабочих развернуть борьбу за мир, хотя и не смогло еще выдвинуть лозунг революционного выхода из войны. Под антивоенными лозунгами прошли первомайские демонстрации 1917 г., причем ссылки на «русский опыт» звучали почти во всех речах ораторов.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции оказала на английский рабочий класс неизмеримо глубокое влияние, которое сказалось на всей дальнейшей истории английского рабочего движения. Гарри Поллит, работавший в то время на одной из крупных верфей в предместье Лондона, вспоминал впоследствии, что «когда пришли известия о русской революции, глубочайшее волнение охватило каждого революционного рабочего».
Антивоенные выступления английских рабочих переплетались с борьбой против дороговизны, за рабочий контроль над промышленностью и распределением продуктов, за повышение зарплаты и официальное признание движения шоп-стюардов. Стачки становились все ожесточеннее и, какие бы поводы их не вызывали, неизбежно связывались с борьбой за мир. В стачках 1918 г. участвовало свыше 1100 тыс. рабочих — больше, чем в любой из предвоенных и военных лет, за исключением 1912 г.
В такой обстановке английская буржуазия пошла на значительные экономические и политические уступки.
277
Важной политической уступкой была реформа избирательного права, принятая парламентом в феврале 1918 г. Три парламентские реформы XIX в. (1832, 1867, 1884), постепенно расширяя состав избирателей, оставили без политических прав не только всех женщин, но и бедняков-мужчин. Новая реформа была важным шагом вперед, так как она впервые ликвидировала имущественный ценз. Все мужчины, достигшие 21 года, получили избирательное право. Оставался лишь сравнительно небольшой ценз оседлострг — 6 месяцев. Избирательное право предоставлялось также женщинам, но только начиная с 30-летнего возраста. Количество избирателей сразу возросло с 8 млн. до 21 млн. человек.
Почти одновременно парламент провел реформу народного образования, вводившую обязательное бесплатное обучение до 14 лет. Это был большой шаг вперед. Правительство ввело также пособие для демобилизованных солдат, выплачиваемое вплоть до их устройства на работу.
Революционный подъем сказался и на положении в лейбористской партии. На партийной конференции 1918 г. был принят новый устав, вводивший наряду с коллективным индивидуальное членство. Теперь для вступления в лейбористскую партию не обязательно было состоять в тред-юнионе или социалистической организации. Тем самым широко открывались двери партии для мелкой и средней буржуазии. Но, с другой стороны, в местные организации стали вступать представители левой интеллигенции и рабочих. В большинстве случаев местные лейбористские организации поддерживали левое крыло партии.
Главное новшество устава 1918 г. было сформулировано в пункте 4-м: партия признавала своей конечной целью «обеспечение работникам физического и умственпого труда полного продукта их труда и наиболее справедливого распределения па основе общественной собственности на средства производства». Это было официальное признание социалистических задач партии, чего с момента образования партии в 1900 г. добивалось ее левое крыло. Конечно, лидеры партии оставались на сугубо реформистских позициях и отнюдь не руководствовались впоследствии социалистическими принципами обобществления средств производства. Уже в программе, принятой несколько позже, но в том же 1918 г., несмотря на громкое наименование — «Лейбористы и новый социальный порядок», речь шла лишь о национализации железных дорог, электростанций, угольной промышленности, пароходных компаний, а не о обобществлении всех средств производства.
8 августа 1918 г. войска Антанты прорвали фронт, окружили и вскоре уничтожили 16 германских дивизий и перешли в последнее наступление. Германия проиграла войну, и И ноября 1918 г. было подписано перемирие.
На Парижскую мирную конференцию, которая началась в январе 1919 г., Англия пришла в качестве одной из могущественных держав-победительниц. Более того, по сравнению с основными со-
278
юзниками — с Францией и США — Англия находилась в более выгодном положении, так как еще в ходе войны позаботилась о захвате германских колоний.
Один из опасных конкурентов Англии, выдвинувшихся в конце XIX в., — Германия не представляла больше опасности. Но второй — США был опаснее, чем когда-либо раньше. Оставаясь нейтральными до весны 1917 г., Соединенные Штаты использовали войну для резкого усиления своих экономических позиций. Американские монополии превратили в своих данников народы обеих коалиций. Главным должником Соединенных Штатов стала Англия; в 1919 г. ее долг составлял 850 млн. ф. ст. Это означало, что позиции Англии как мирового кредитора были если не утрачены, то значительно ослаблены. В 10 раз вырос и внутренний долг; к концу войны он составлял 6,6 млрд. ф. ст., а проценты по займам тяжелым бременем ложились на бюджет. Покупательная способность фунта стерлингов упала в два раза.
Относительное ослабление экономических позиций Англии по сравнению с США определялось прежде всего состоянием английской промышленности. В то время как в Америке оборудование систематически обновлялось и совершенствовалось, в Англии машины, станки, шахтное оборудование износились и морально устарели. В связи с этим падали производительность труда и конкурентоспособность английской промышленности. А так как буржуазия пыталась выйти из положения за счет рабочего класса, межимпериалистические противоречия еще больше обостряли классовую борьбу внутри Англии.
Никогда раньше над английской буржуазией не нависало одновременно столько опасностей. В решающую фазу вступила многовековая освободительная борьба ирландского народа. Вооруженное восстание охватило Египет. Стачки, крестьянские бунты, митинги и демонстрации поставили под угрозу позиции британского империализма в Индии. Победила кемалистская революция в Турции. Героическую борьбу за независимость вел народ Афганистана. И в то же самое время— 1919—1920 гг. —достиг невиданных масштабов подъем рабочего движения в самой Англии.
Обстановка, таким образом, отнюдь не давала английским капиталистам возможности почить на лаврах победы. Наоборот, потребовалось напряжение всех материальных ресурсов, понадобился весь политический опыт, чтобы сохранить классовое господство в Англии и колониальное господство над империей. Вот почему верхи буржуазии вполне устраивала созданная в период войны коалиция во главе с Ллойд-Джорджем.
Ллойд-Джордж и Бонар Лоу хотели бы сохранить в качестве младших партнеров в коалиции и лейбористов. Но Гендерсон и другие лидеры предпочли иной путь. Их тактику в условиях революционного подъема можно охарактеризовать той формулой, которую в этот период применили предатели из руководства германской социал-демократии: «Возглавить, чтобы обезглавить».
279
В соответствии с этой задачей лейбористы выдвинули на парламентских выборах в декабре 1918 г. программу радикальных реформ, которая соответствовала требованиям широких масс рабочего класса, хотя и не затрагивала основ капиталистической системы. Речь шла о национализации земли и «жизненно важных отраслей» промышленности, о введении особого налога на крупный капитал (чтобы рассчитаться с военными долгами); кроме того, партия требовала отмены воинской повинности. Поскольку начавшаяся еще весной 1918 г. интервенция против Советской России лишь усиливала чувство классовой солидарности английского рабочего класса с революционным русским пролетариатом, лейбористская предвыборная программа требовала немедленного вывода английских войск из России. Наконец, в программе отстаивалось право народов Ирландии и Индии на независимость.
Если в 1910 г. лейбористы получили 400 тыс. голосов, то в 1918 г.—почти 2400 тыс.; таков был один из результатов огромного сдвига во взглядах и настроениях английского рабочего класса. В новом парламенте лейбористская фракция в составе 60 человек заняла положение официальной «оппозиции его величества». Некоалиционные либералы (сторонники Лсквита), тоже находившиеся в оппозиции, получили всего 26 мест. Прочное большинство завоевала коалиция, искусно сыгравшая на недавней победе и на не слишком конкретных лозунгах Ллойд-Джорджа: «Сделаем Англию страной, достойной ее героев» и «Немцы заплатят за все» (т. е. за обещанные социальные реформы).
Буржуазии нужен был Ллойд-Джордж, уже неоднократно доказавший свое демагогическое мастерство, и именно Ллойд-Джордж сформировал в январе 1919 г. новый коалиционный кабинет (1919—1922). Пост военного министра занял У. Черчилль, а министра иностранных дел — лорд Керзон. Вместе с премьер-министром и Бонар Лоу они составили ту господствующую группировку, которая взяла на себя нелегкую функцию спасения английского империализма.
Период революционного натиска английского рабочего класса совпал с годами послевоенного оживления экономики. Этим облегчалось выдвижение таких чисто экономических требований* как повышение зарплаты, улучшение условий труда и т. д. По этим вопросам буржуазии нетрудно было согласиться па уступки, поскольку доходы в условиях кратковременного промышленного подъема быстро росли. Но рабочий класс шел значительно дальше традиционных тред-юнионистских лозунгов. Идеи национализации ряда отраслей промышленности, хотя бы и капиталистическим государством, субъективно воспринимались рабочими как лозунги социалистического характера.
Одновременно центральное место в борьбе рабочего класса занимала защита молодой Советской республики. В начавшейся исторической борьбе двух систем английский рабочий класс стал на сторону первой страны социализма. В таких условиях даже чисто
280
экономическая стачка вливалась в общий поток антикапиталистической борьбы пролетариата.
В стачках 1919 г. участвовало больше рабочих, чем когда-либо раньше,— 2600 тыс. человек; даже полуторампллионный пик 1912 г. был превзойден. В 1920 г. бастовало около 2 млн. рабочих. Уже одни эти цифры говорят о невиданных масштабах борьбы рабочего класса.
Антисоветская интервенция рассматривалась правящими кругами Англии как решающее средство для сохранения капиталистической системы. Уже в марте 1918 г. английский десант высадился в Мурманске. Английские войска присоединились к японским интервентам на Дальнем Востоке. По окончании мировой войны английские интервенты заняли Закавказье и создали марионеточные буржуазно-националистические правительства в Грузии, Армении, Азербайджане. Вместе с американскими и французскими правящими кругами правительство Ллойд-Джорджа — Черчилля снабжало оружием, деньгами, снаряжением армии Деникина и Колчака. И вот вся эта политика ставилась под удар, и не только из-за успехов Красной Армии, но и в связи с усилившейся борьбой английского народа против интервенции.
Нетрудно понять, как напуганы были правящие круги, когда в такой обстановке Федерация углекопов Великобритании от имени более чем миллиона своих членов потребовала в ультимативной форме национализации шахт и введения рабочего контроля, а также повышения зарплаты и установления 7-часового рабочего дня. В противном случае углекопы намеревались пачать всеобщую стачку. А ведь углекопы входили в тройственный союз, и весьма вероятно, что их поддержали бы железнодорожники и транспортники. О какой интервенции могла бы идти речь, если бы замерли железные дороги и флот и прекратилась бы добыча угля?!
Положение было столь серьезным, что Ллойд-Джордж срочно прибыл из Парижа. Он предложил создать комиссию из шести представителей шахтовладельцев и стольких же углекопов при нейтральном председателе — судье Сэнки. При этом правительство обещало действовать в соответствии с рекомендациями комиссии.
Рядовые рабочие не поверили Ллойд-Джорджу, но вожди Федерации углекопов припяли его предложение и тем спасли английскую буржуазию от страшной опасности. 26 марта 1919 г. конференция шахтеров решила отложить стачку до окончания работы комиссии Сэнки, однако в тот же день она приняла резолюцию, требующую немедленного прекращения интервенции. В противном случае конференция решила прибегнуть к всеобщей стачке.
В пользу политической стачки высказались мощные союзы железнодорожников, текстильщиков и других отрядов рабочего класса, эту идею отстаивали на митингах левые деятели рабочего движения. Газета БСП «Колл» оказалась права, когда еще в январе 1919 г. писала: «Английский рабочий класс не допустит, чтобы его использовали для разгрома социалистической республики».
281
В июле 1919 г. тред-юнион текстильщиков создал в Манчестере комитет «Руки прочь от России!», впоследствии преобразованный в общенациональный комитет под тем же названием. Митинги и демонстрации против интервенции усилились. 25 июля тройственный союз, не дожидаясь действий руководства Парламентского комитета конгресса тред-юнионов, решил провести среди углекопов, железнодорожников и транспортников голосование по вопросу о стачке. Ни у кого не было сомнения в том, каков будет результат голосования. Поэтому Черчилль поспешил сделать заявление о том, что вывод английских войск подходит к концу. Это была капитуляция правительства перед английским рабочим классом.
Некоторый реванш правительство взяло, отказавшись выполнить рекомендации комиссии Сэнки. Комиссия высказалась в пользу национализации, но Ллойд-Джордж, вопреки данному весной обещанию, заявил, что на это не пойдет. Правда, другие рекомендации — о повышении зарплаты и установлении 7-часового рабочего дня в шахтах — были выполнены. Но в целом это было поражением шахтеров, ответственность за которое падала на лидеров.
Революционный подъем продолжался, и это заставило Ллойд-Джорджа занять более гибкую позицию по отношению к Советской России. Первым из глав правительств Антанты он решил установить контакт с Советским правительством (в ноябре 1919 г.) и настоял на отмене экономической блокады Советской России (в январе 1920 г.) Однако Черчилль и Керзон еще раз попытались сокрушить Советскую власть военными средствами, на этот раз — используя армии белополяков и Врангеля.
К тому моменту когда борьба достигла критической точки, в Англии была уже сформирована Коммунистическая партия.
Создание Коммунистической партии было подготовлено всей историей борьбы течений в английском рабочем движении. Но только победа Октябрьской революции помогла левому крылу английских марксистов преодолеть теоретические блуждания, неясность целей и методов борьбы.
В 1919 г. под руководством Ленина был основап Коммунистический Интернационал, и вопрос о присоединении к нему сразу стал перед всеми, кто уже в основном пришел к коммунистическому мировоззрению. Британская социалистическая партия приняла решение о выходе из II Интернационала и о присоединении к Коминтерну.
Большие споры вызвал вопрос о том, должна ли Коммунистическая партия войти в состав лейбористской партии на правах коллективного членства. «Левые» элементы, систематически разоблачая лейбористских лидеров, вскрывая буржуазный характер их политики, считали, что коммунисты лишь скомпрометируют себя в глазах революционных рабочих, войдя в такую партию.
В сущности, ошибки английских «левых» сводились к сек-танству, к отказу от использования тех средств борьбы, которые теснее связали бы партию с массами. Если в английском рабочем
282
движении в целом главным злом по-прежнему был правый оппортунизм, то внутри формирующейся Коммунистической партии главной опасностью в то время стал «левый» оппортунизм.
Огромную помощь молодому коммунистическому движению в Англии оказал Ленин. В письмах, личных беседах, в выступлениях на II конгрессе Коминтерна (19 июля — 2 августа 1920 г.) Ленин терпеливо и убедительно разъяснял английским товарищам принципы коммунистической стратегии и тактики.
На II Конгрессе Коминтерна У. Галлахер выступил еще против вступления в лейбористскую партию. Впоследствии он вспоминал, как много внимания уделил ему в дни работы Конгресса Ленин. В одной из речей Ленин говорил: «Наша цель именно и состоит в том, чтобы это превосходное повое революционное движение, представленное тов. Галлахером и его друзьями, ввести в коммунистическую партию с настоящей коммунистической, т. е. марксистской, тактикой» К
Прошло не более полугода, и лучшие шоп-стюарды района Клайда, включая У. Галлахера, присоединились к Компартии на объединенном съезде в Лидсе (январь, 1921). Спустя два месяца в Компартию вступило ушедшее из НРП революционное крыло во главе с Р. Палм Даттом. Как до учредительного съезда, так и после него коммунисты играли выдающуюся роль в борьбе против антисоветской интервенции.
Пока вооруженная Антантой польская армия одерживала временные успехи и даже заняла Киев, рабочие выступили против поставок оружия буржуазно-помещичьей Польше. В одном из доков Ист-Эида в мае 1920 г. стало известно, что идет погрузка оружия для Польши. Гарри Поллит, который возглавлял тогда шоп-стюардов района Темзы, призвал докеров прекратить погрузку, и рабочие отказались продолжать работу.
Вскоре Красная Армия перешла в наступление и приближалась к Варшаве. В это время в Лондоне находилась советская дипломатическая миссия. Керзон 3 августа «заменил переговоры» ультимативным требованием приостановить наступление Красной Армии, угрожая в противном случае войной. Только решительные действия английских рабочих могли сорвать замыслы Черчилля, Керзона, Ллойд-Джорджа. Уже б августа прошли сотни митингов, причем рабочие требовали политической стачки.
Если бы в этой обстановке правые лидеры не изменили тактики, они были бы отброшены в сторону движением. Но политический опыт, которым в полной мере владела английская буржуазия, был воспринят и ее «рабочими лейтенантами». Они правильно поняли ситуацию и уже на следующий день сформировали Совет действия из представителей парламентской фракции, исполкома и Парламентского комитета. Все они были крайними оппортуниста-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 261.
283
ми. Но не они вели массы, а массовое движение вело их. Вот почему они пригрозили всеобщей политической стачкой.
Уже 10 августа Ллойд-Джордж поспешил заявить в парламенте, что правительство не намерено посылать войска в Россию. Единственной причиной этой капитуляции было то, что, как говорил Ленин, «Англия струсила всеобщей стачки...» 1
В эти августовские дни 1920 г. революционный подъем в Англии достиг высшей точки. Рабочий класс одной только угрозой политической стачки добился победы над правительством. Начали складываться органы, которые противопоставляли себя государственному аппарату. Ленин сравнивал сложившееся в Англии положение с двоевластием, имевшим место в России после Февральской революции, а английские «Комитеты действия» — с Советами2.
Убедившись в том, что реформистские лидеры не допустят перерастания революционного подъема в революцию, буржуазия стала готовиться к контрнаступлению. В октябре 1920 г. правительство провело в парламенте закон о чрезвычайных полномочиях. В случае массовых стачек правительство получало право использовать войска и вводить полицейские меры неконституционного характера.
31 марта 1921 г. правительство прекратило контроль над угольной промышленностью. Рабочие отказались принять предложенные шахтовладельцами условия (включавшие значительное сокращение зарплаты), и 1 апреля начался локаут. Не только железнодорожники и транспортники, которые по условиям тройственного союза обязаны были поддержать шахтеров, но и рабочие других профессий требовали от лидеров объявить стачку солидарности. Но руководители Федерации транспортников Роберт Уильяме и Энрст Бевин и лидер союза железнодорожников Джемс Томас не допустили всеобщей стачки.
День, когда было принято это предательское решение, — 15 апреля 1921 г. — английские рабочие назвали «Черной пятницей». Вполне реальные возможности массовой, а может быть и всеобщей, стачки не были использованы. Углекопы до конца июня продолжали бастовать, но в конце концов вынуждены были выйти на работу, ничего не добившись.
Как и следовало ожидать, после этого снижение зарплаты и ухудшение условий труда затронуло почти все категории рабочих. В течение двух лет рабочий класс потерял в зарплате больше, чем выиграл за годы революционного подъема.
В эти тяжелые годы, когда лидеры тред-юнионов, не желая новых массовых конфликтов, убеждали рабочих смириться с будто
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 254.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т 41, с. 327.
284
бы неизбежным (из-за кризиса) снижением зарплаты, молодая Компартия поддерживала в массах боевой дух. Выдвинув лозунг «Не отступать!», коммунисты настаивали на сопротивлении всем попыткам снижения зарплаты. 70 коммунистов были арестованы за то, что они агитировали за всеобщую стачку в апреле 1921 г., после «Черной пятницы». Постепенно в профсоюзах при участии, а иногда и под руководством коммунистов складывались левые, по-боевому настроенные группы. Это революционное меньшинство впоследствии организовало мощное движение в рамках тред-юнионов. По инициативе коммунистов в 1921 г. было создано Национальное движение безработных всех отраслей промышленности, также сыгравшее немалую роль в борьбе рабочего класса на следующем этапе истории Англии. Во время революционного подъема в самой Англии начался кризис Британской колониальной империи. Границы Британской империи после войны расширились, но господство английских колонизаторов пошатнулось.
Под непосредственным влиянием Октябрьской революции с весны 1918 г. в промышленных центрах Индии началась волна стачек, которая продолжалась до 1922 г. Летом 1919 г. в борьбу включились и крестьяне многих провинций.
Если в Индии английским колонизаторам все-таки удалось подавить антиимпериалистическое движение, то в соседнем Афганистане английскому господству уже в эти годы пришел конец. В феврале 1919 г. эмир Аманнула-хан провозгласил независимость Афганистана. В марте Советское правительство заявило об официальном признании Афганистана независимой страной и установило с ним дипломатические отношения. Англия пыталась сохранить свой контроль над Афганистаном, сломив силой его стремление к независимости. Выставив против небольшого государства 300-тысячную армию, Англия в мае 1919 г. развязала войну. Английские самолеты подвергли бомбардировке Кабул. Афганская армия героически сражалась, но военное превосходство было явно на стороне англичан. Тем не менее английское правительство уже через месяц согласилось на перемирие и признало независимость Афганистана, что было связано в значительной степени с обстановкой в самой Англии.
С мощным подъемом национально-освободительного движения пришлось столкнуться правителям империи и в Египте. Удерживать свою власть только при помощи военной силы Англия больше не имела возможности. Ллойд-Джордж решил формально отказаться от протектората. Об этом было объявлено в феврале 1922 г. Хотя англичанр не собирались уходить из Египта, все же это была уступка, вырванная египетским народом.
Жестокое поражение потерпела английская колониальная политика в Турции. Значительная часть турецкой территории была оккупирована, правительство выполняло все приказы победителей. Только национально-освободительная война турецкого народа могла избавить страну от раздела и превращения в колонию
285
западного, прежде всего — английского империализма. Во главе народного движения стала национальная буржуазия, руководимая генералом Мустафой Кемалем. Для разгрома революционной армии Антанта использовала греческую армию, вооруженную главным образом Англией.
На помощь турецкому народу пришло Советское правительство. В марте 1921 г. был заключен Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией. Летом 1922 г. турецкие войска прорвали греческий фронт и вскоре одержали победу.
Начавшийся кризис Британской империи проявился и в Ирландии. Жестокое подавление восстания 1916 г. лишь временно задержало развитие освободительной борьбы ирландского народа. Уже в октябре 1917 г. возродилась партия шинфейнеров во главе с участником недавнего восстания де-Валера, который находился в тюрьме. На парламентских выборах в декабре 1918 г. республиканцы шинфейнеры получили 73 мандата.
Избранные в парламент шинфейнеры отказались выехать в Лондон. В январе 1919 г., собравшись в Дублине, они объявили себя «Ирландской Ассамблеей» — высшим органом Ирландской республики. По всей стране начали создаваться новые органы государственного управления, не подчинявшиеся английской администрации. Столкновения между органами Республики и английскими властями вскоре вылились в партизанскую войну. В Ирландию были введены войска. В январе 1920 г. в Ирландии было объявлено осадное положение. Война велась англичанами с невероятными жестокостями. Кроме регулярных войск в ней участвовали наемные банды, набранные из уголовных и деклассированных элементов.
Политика правительства в Ирландии вызвала решительный протест со стороны английского рабочего класса и мирового общественного мнения. В июле 1921 г. английское правительство вынуждено было пойти на перемирие, а в декабре 1921 г. был подписан договор. Английское колониальное господство в Ирландии потерпело крах, но победа ирландского народа была лишь частичной. По договору учреждалось «Ирландское свободное государство» на нравах доминиона. Но, во-первых, под контролем Англии оставалась внешняя политика Ирландии; на ее территории сохранялись английские базы. Во-вторых, шесть северных графств — наиболее развитых в экономическом отношении — не вошли в состав «Свободного государства».
Испытав все военные средства борьбы против Советской России, Ллойд-Джордж пришел к выводу, что надо попытаться воздействовать на нее другими средствами. Он — как и многие государственные деятели Англии — рассчитывал на то, что развитие торговли будет способствовать оживлению капиталистических элементов в России и приведет к реставрации капитализма.
Но какие бы надежды ни связывали правящие круги Англии с восстановлением торговых отношений, факт остается фактом: они
286
вынуждены были пойти на заключение торгового соглашения с Советской Россией, которое и было подписано в марте 1921 г. Подписание этого договора было крупной победой советской дипломатии, положившей начало урегулированию дипломатических отношений с крупнейшими капиталистическими странами. Это был важный шаг на пути к мирному сосуществованию государств с различным общественным строем.
ПЕРЕГРУППИРОВКА ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ
По мере того как проходила непосредственная опасность революционного взрыва, английская буржуазия все чаще склонялась к мысли, что Ллойд-Джордж зашел слишком далеко по пути уступок, что, может быть, тактика прямого подавления революционных сил позволила бы выйти из кризиса с меньшими потерями.
Лидер консервативной партии Бонар Лоу и его ближайший сотрудник Стэнли Болдуин, один из основателей Федерации британской промышленности, настаивали на разрыве коалиции с Ллойд-Джорджем. Это означало, что крупная буржуазия, к которой они принадлежали, решила порвать с либерализмом. 19 октября 1922 г. консервативные депутаты после б\рной дискуссии большинством голосов поддержали Бонар Лоу и Болдуина. Тем самым они свалили правительство Ллойд-Джорджа. Поскольку консерваторы после выборов 1918 г. составляли в парламенте большинство, Бонар Лоу сформировал чисто консервативный кабинет.
Проведенные вскоре выборы обеспечили консерваторам прочное положение: они получили 344 места, в то время как прочие партии и группировки — 275 мест. Консерватизм буржуазии в условиях общего кризиса капитализма настолько усилился, что за период от первой до второй мировой войны консервативная партия фактически находилась у власти (включая коалиции, в которых она преобладала) 18 лет, и только три года — в оппозиции.
Если выборы 1922 г. принесли победу консерваторам, то это отнюдь не означало, что в массах избирателей произошел сдвиг вправо. Часть либеральных голосов ушла к консерваторам, но в то же время значительно возросло количество голосов, отданных за лейбористскую партию: в 1918 г. она получила 2,2 млн. голосов, а в 1922 — 4,2 млн. Лейбористская фракция парламента состояла теперь из 142 человек и была самой крупной партией оппозиции. Избраны были и те лидеры НРП во главе с Макдональдом, которые провалились в 1918 г.
Лейбористская партия отныне занимала в английской двухпартийной системе место, раньше принадлежавшее либералам. Макдональд и большинство фракции больше всего заботились о том, чтобы убедить буржуазию в своей респектабельности, доказать свою способность управлять буржуазным государством не хуже консерваторов. Лейбористские депутаты посещали приемы при
287
дворе, проводили «уик-энды» в поместьях знати и утрачивали в этих светских забавах остатки боевых настроений, с которыми некоторые из них пришли в палату.
Имея такую прирученную «оппозицию», Боыар Лоу и Болдуин могли дать волю своим антисоветским устремлениям. Обострить до предела отношения с Советским Союзом, прервать налаживающиеся торговые связи, подготовить почву для новой интервенции — таков был курс консервативного кабинета. 8 мая 1923 г. Керзон, использовав мелкие осложнения в советско-английских отношениях, вызванные провокационными действиями английских агентов, предъявил Советскому правительству наглый ультиматум, невыполнение которого должно было привести к разрыву договора 1921 г. Так было сказано в самом ультиматуме, но на деле конфликт мог окончиться серьезными последствиями.
Однако попытка возродить «политику силы», развязать новую интервенцию встретила не только должный отпор со стороны со^ ветского народа, но и возмущение английского рабочего класса и протест мировой общественности. Английский рабочий класс оставался верен своим интернационалистским традициям. По всей стране началось движение в защиту Советского Союза. Компартия призвала к созданию «Советов действия», и кое-где они начали образовываться.
Даже часть буржуазии выступила против ультиматума — одни из боязни народного выступления, другие — не желая терять выгодные торговые сделки с Советским Союзом. Широко задуманная провокация провалилась.
Выждав несколько месяцев, правительство Болдуина решило объявить о своих протекционистских планах. Это был рискованный шаг. Правительство имело прочное большинство, правомочное управлять страной еще четыре года, а новые выборы всегда чреваты неожиданностями. Менять же экономическую политику, не получив большинства именно под протекционистскими лозунгами, значило бы нарушить данные ранее обещания.
6 декабря 1923 г. состоялись выборы, которые дали необычный для английской парламентской практики результат. Ни одна партия не получила большинства. Консерваторы получили 259 мест; либералы, выступившие единым фронтом в защиту фритредерства,—155; лейбористы—191. Правительство при таких условиях могло быть сформировано на основе коалиции, либо — если оно будет однопартийным — при поддержке еще одной фракции.
Так сложились условия для формирования лейбористского правительства. Трезво мыслящие буржуазные политики не видели в этом ничего опасного: ведь лейбористы будут держаться голосами либералов и от них будет зависеть существование кабинета. Если левое крыло партии, опираясь на массы, заставит Макдо-нальда пойти «слишком далеко», всегда можно будет проголосовать вместе с консерваторами и свалить правительство. В конечном счете эта точка зрения взяла верх, и 23 января 1924 г. Макдо-
288
нальд сформировал первое лейбористское правительство (январь—ноябрь 1924 г.)
Праволейбористская верхушка пришла к власти в очень сложной экономической и политической обстановке. К этому времени капиталистическая система, оправившись от тяжелых ударов в годы революционного подъема, вступила в полосу частичной и временной стабилизации. Зона капитализма сократилась, но на суженном плацдарме капиталистический строй выстоял. Кончился и послевоенный экономический кризис; начался подъем экономики, сопровождавшийся в некоторых странах значительным ростом производства. Но Англия, в сущности, даже этой непрочной стабилизации не переживала.
Сравнительно быстро развивались новые отрасли промышленности — электротехническая, автомобильная, химическая, авиационная. Предприниматели лишь частично размещали соответствующие заводы в традиционно промышленных районах. Благодаря техническому прогрессу стал возможен переход от паровой энергетики к электрической; поэтому уже не было смысла строить предприятия вблизи угольных бассейнов.
В юго-восточных и южных, преимущественно аграрных районах, земля была значительно дешевле, и уже одно это обстоятельство способствовало размещению новых предприятий в этой зоне. Кроме того, существенное значение имела близость к Лондону, где сбывалась часть новой продукции, и к лондонскому порту. Наконец, предпринимателей привлекало и слабое развитие в этих южных районах тред-юнионов и других организаций рабочего класса, отсутствие здесь давних традиций классовой борьбы.
В связи с этим в 20-е годы началось изменение географии британской промышленности, быстрое развитие новых экономических районов и упадок некоторых старых районов. Эта тенденция усилилась в 20—30-х годах в связи с созданием общебританской высоковольтной системы. К началу нового экономического кризиса (1929) английская промышленность пришла, только восстановив довоенный уровень производства. При этом основные отрасли промышленности — угольная, судостроительная, металлургическая — не достигали и этого уровня. Слишком непрочным и кратковременным было и ослабление классовой борьбы. Ни одна крупная капиталистическая страна не знала в годы стабилизации таких острых классовых конфликтов, как Англия.
Взяв власть в этой обстановке, подлинно рабочее правительство могло бы в корне изменить положение страны. Только социалистическое переустройство общества способно было не только обеспечить английскому народу ликвидацию безработицы, повышение уровня жизни, удовлетворение материальных и культурных потребностей, но и вывести английскую экономику из хронического застоя, восстановить позиции Англии как первоклассной промышленной державы.
Но первое лейбористское правительство было бесконечно да-
10-127
289
леко не только от социализма, но и от прогрессивных социальных реформ. В состав кабинета Макдональд ввел крайне правых пар-тийных и тред-юнионистских лидеров. Оставив себе портфель министра иностранных дел, он поручил министерство финансов своему ближайшему сотруднику по руководству НРП Филлиппу Сноудену, министерство внутренних дел — Артуру Гендерсону> министерство торговли — Сиднею Веббу. Министром по делам колоний стал Д. Томас — главный виновник «Черной пятницы». Макдональд, Сноуден, Гендерсон не уставали повторять, что они представляют всю нацию, а не рабочий класс. Исходя из этой доктрины, лейбористское правительство занимало враждебную позицию по отношению к стачкам, а однажды даже пригрозило, что использует антирабочий закон 1920 г. о чрезвычайных полномочиях.
Единственной сколько-нибудь значительной реформой, проведенной лейбористским правительством, был Закон о жилищном строительстве, подготовленный левым лейбористом Джоном Уит-ли. Этот закон действительно способствовал расширению жилищного строительства за счет местных налогов, а также увеличения государственных субсидий. В то же время «пацифист» Макдональд увеличил ассигнования на военно-воздушные силы и продолжал начатое консерваторами строительство крейсеров.
В области внешней политики, которой руководил лично Макдональд, лейбористское правительство столь же ревностно защищало интересы буржуазии, как и в политике внутренней. Центральным вопросом европейской политики был вопрос о положении в Германии. Со времени заключения Версальского договора официальное отношение к нему лейбористской партии было резко отрицательным. В предвыборных манифестах 1922 и 1923 гг, лейбористы обещали пересмотреть условия Версальского мира, в частности отменить взимание репараций с Германии. Но, придя к власти, лейбористские лидеры отбросили свои декларации в пользу демократического мира. Единственной их заботой было укрепление позиций британского империализма в Европе, ослабление чрезмерно усиливавшейся (с точки зрения английских интересов) Франции. На Лондонской конференции 1924 г. Макдональд поддержал предложенный американцами «план Дауэса», согласно которому Германии предоставлялись кредиты для технического перевооружения ее промышленности. Предполагалось, что это даст возможность Германии беспрерывно платить репарации, а Англия и другие страны за этот счет будут выплачивать военные долги Америке. Таким образом, лейбористы действовали в соответствий со старым лозунгом Ллойд-Джорджа «Немцы заплатят за все!», хотя в 1918 г. они его решительно осуждали.
Кредиты Германии предоставляли преимущественно американские и английские банкиры. Для финансовых воротил это было выгодным помещением капитала. Но в то же время это означало дальнейший отплыв капиталов за границу — капиталов, столь необходимых для модернизации самой английской промышленнос-
290
ти. В политическом отношении «план Дауэса» был рассчитан на привлечение Германии к антисоветскому блоку западных держав. Восстановление военно-промышленного потенциала Германии создавало предпосылки для использования ее впоследствии в качестве ударной силы международного империализма в борьбе против Советского Союза.
Только в одном пункте лейбористское правительство выполнило свои предвыборные обещания — это был вопрос об установлении нормальных дипломатических отношений с Советским Союзом. Макдональд слишком хорошо знал, как относится рабочий класс к этой проблеме. Правительство могло тормозить этот важнейший акт, но полностью отбросить требование масс было не в его силах. 2 февраля 1924 г. дипломатические отношения между Англией и СССР были установлены.
Больше четырех месяцев тянулись переговоры об урегулировании спорных вопросов между двумя странами. Попытки английской дипломатии вмешаться во внутренние дела Советского Союза были решительно отвергнуты. В начале августа переговоры зашли в тупик, так как английская сторона, превыше всего ставившая интересы магнатов Сити, требовала безоговорочного признания всех материальных претензий бывших собственников национализированных предприятий. Только решительное вмешательство рабочего класса (кое-где начались политические стачки) заставило Макдональда снять эти требования, и 8 августа Общий договор и Торговый договор были подписаны.
Большие успехи сделало организованное под руководством коммунистов Движение меньшинства. На состоявшейся в августе 1924 г. национальной конференции, представлявшей 200 тысяч по-боевому настроенных рабочих из различных профсоюзов, ведущая роль коммунистов была продемонстрирована как при выборе руководящих органов, так и при утверждении программы действий. Том Манн — член Коммунистической партии, ветеран рабочего движения, руководитель стачки докеров 1889 г. и многих стачек 1910—1914 гг., был избран председателем Движения меньшинства, а Гарри Поллит — секретарем. Программа движения не носила непосредственно социалистического характера, но это была программа нового наступления рабочего класса на капитал. Речь тпла о повышении зарплаты, установлении 44-часовой рабочей недели, отмене антирабочего закона 1920 г. Движение меньшинства требовало, чтобы тред-юнионы контролировали правительство, заставили его изменить политику.
Все это сказалось на решениях конгресса тред-юнионов, состоявшегося в сентябре 1924 г. в Гулле. В то время как «рабочее» правительство всячески тормозило развитие отношений с Советским Союзом, английский рабочий класс решил установить непосредственные контакты с советскими рабочими. На конгрессе присутствовала советская профсоюзная делегация; по решению конгресса ответная делегация вскоре должна была выехать в Москву.
10*
291
Чем активнее становились левые силы, тем больше крепла решимость буржуазных партий свалить лейбористское правительство. Сделать это было не трудно, поскольку консерваторы и либералы вместе обладали прочным большинством в палате общин.
На следующий день после того как парламент вынес вотум недоверия правительству, Макдональд назначил новые выборы на 29 октября. Лейбористы вели избирательную кампанию очень вяло. Оправдываясь перед избирателями, они пытались доказать, что не выполнили своих обещаний из-за того, что не имели парламентского большинства. Была пущена в ход формула — «мы были в правительстве, но не у власти».
Проблема отношений с Советским Союзом стояла в центре избирательной кампании. Консерваторы запугивали избирателен «большевистской опасностью», твердя, что лейбористы — «скрытые большевики», подчиняющиеся «приказам из Москвы».
Накануне выборов они сфабриковали фальшивку, рассчитанную на то, чтобы подтвердить свои «обвинения», вызвать панику среди избирателей. Чья-то рука подбросила редакции консервативной газеты «Дейли мейл» и министерству иностранных дел «письмо Коминтерна», которое будто бы было направлено из Москвы английским коммунистам. В этом подложном документе содержалась инструкция о подготовке к захвату власти, о пропаганде идей ленинизма в Англии и т. д. Хотя Макдональд стоял во главе министерства иностранных дел, он не разоблачил фальшивку; более того, МИД направило ноту протеста советскому посольству, придав этим видимость достоверности подложному документу. В результате нерешительности Макдональда, который уже после выборов дал понять советскому поверенному в делах, что он считает письмо подложным, в день выборов мелкобуржуазные избиратели отдали голоса консерваторам.. Они получили 7,4 млн. голосов — на 2 млн. больше, чем в 1923 г. Но это не были голоса, отнятые у лейбористов. Либералы потеряли больше миллиона голосов — они перешли к консерваторам, равно как и голоса тех избирателей, которые в прошлом не использовали свое избирательное право. Лейбористы же выиграли более миллиона голосов, получив 5,5 млн.
Распределение мест в парламенте отнюдь не соответствовало количеству собранных голосов. Консерваторы получили 413 мандатов, лейбористы — 151, либералы — 40. Партия крайней империалистической реакции располагала сильным большинством, и это наложило печать на всю внутренюю и внешнюю политику нового правительства.
