
- •Творчество с.А.Есенина в контексте традиций русской духовной культуры
- •ВСодержание
- •1.3. Малый эпос с.А.Есенина предреволюционных лет: традиции 71
- •2.2. Традиция православной молитвы и ее роль в формировании мировосприятия поэта. 104
- •Глава 4. Творчество с.А.Есенина и традиции русского религиозного разномыслия: проблема неортодоксальных духовных влияний 183
- •Глава 5. Опыт необиблейского мифотворчества в цикле револю- 233
- •Глава 7. Современные аспекты интерпретации духовного содержания творчества с.А.Есенина. Поэма «черный человек» в 400
- •Глава 1. Духовный генезис раннего творчества с.А.Есенина в
- •1.1. Традиции христиано-языческого двоеверия и крестьянской обрядовой культуры в раннем творчестве с.А.Есенина. «Религия земли» и еофижно-пантеистические мотивы лирики.
- •1.3. Малый эпос с.А.Есенина предреволюционных лет: традиции
- •Глава 2. Художественная модель мира в раннем творчестве с.А.Есенина в свете традиций православной храмовой культуры
- •2.2. Традиция православной молитвы и ее роль в формировании мировосприятия поэта.
- •2.3. Русская икона в художественном пространстве с.А.Есенина как идеал соборного мироустройства
- •3.1. Архетип «Русского Христа» в национальной духовной традиции.
- •3.3. Образ Христа-странника в поэзии с. Есенина. Мотив встречи с неузнанным Христом в историко-культурном контексте.
- •1917-1919 Гг., активным участником мистерии «русской Голгофы»:
- •Глава 4. Творчество с.А.Есенина и традиции русского религиозного разномыслия: проблема неортодоксальных духовных влияний
- •4.1. С.А.Ееенин и духовная культура русского старообрядчества
- •4.2. Народные религиозные ереси и мотивы сектантского фольклора в духовном контексте творчества с.А.Есенина
- •Глава 5. Опыт необиблейского мифотворчества в цикле револю-
- •5.3. Поэма «Инония» как опыт создания «сакрального»текста.
- •5.4. От утсииж к реальности (поэмы «Сельский часослов», «Иорданская голубица», «Иантократор», «Небесный барабанщик»).
- •Глава 6. Архетипические модели в поэзии с. А. Есенина 1920-1925 гг.
- •6.1. Архетип в системе имажинистской поэтики: есенинское «хулиганство» как историко-культурный феномен.
- •6.2. Деревенский Апокалипсис: трагизм противостояния «живого» и «железного» в поэзии с.А. Есенина.
- •6.3. Драматическая поэма «Пугачев» как опыт реконструкции «архаического» сознания. Космологическая модель природы и истории. Ммфофилософня имени и трагедия самозванства
- •6.4. Покаянные мотивы. Евангельская притча о блудном сыне как архетипическая основа лирики с.А.Ееенина последних лет.
- •Глава 7. Современные аспекты интерпретации духовного содержания творчества с.А.Есенина. Поэма «черный человек» в
- •7.2. Фольклорно-мифологические истоки поэмы с. Есенина «Черный человек»
- •Павловски м. Есенин и Ремизов: Отражение русского народного
- •Прокофьев н. Есенин и древнерусская литература //Сергей Есенин: Проблемы творчества. - м., 1978.
- •Бердяев h.A. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // Бердяев h.A. О назначении человека: Опыт парадоксальной этики. - м.,
%1:00 г1 он
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
На правах рукописи
ВОРОНОВА Ольга Ефимовна
Творчество с.А.Есенина в контексте традиций русской духовной культуры
Специальность io.oi.oi — русская литература
Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических нау
к
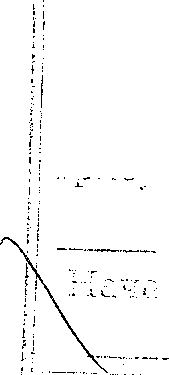
1
Юези.А
¡рашеп^о
от
10"
учзиую
у.БАК
России![]()
МОСКВА
2000
ВСодержание
%1:00 г1 он 1
ТВОРЧЕСТВО С.А.ЕСЕНИНА В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ 1
РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 1
1.1. Традиции христиано-языческого двоеверия и крестьянской обрядовой культуры в раннем творчестве С.А.Есенина. «Религия земли» и еофижно-пантеистические мотивы лирики. 22
1.3. Малый эпос с.А.Есенина предреволюционных лет: традиции 71
соборности и эпического православия. 71
2.2. Традиция православной молитвы и ее роль в формировании мировосприятия поэта. 104
Глава S' образ «русского христа» в творчестве с.а.есенина как отражение национального духовного архетипа. 146
3.3. Образ Христа-странника в поэзии С. Есенина. Мотив встречи с неузнанным Христом в историко-культурном контексте. 173
Глава 4. Творчество с.А.Есенина и традиции русского религиозного разномыслия: проблема неортодоксальных духовных влияний 183
4.1. С.А.Ееенин и духовная культура русского старообрядчества 183
Глава 5. Опыт необиблейского мифотворчества в цикле револю- 233
ЦИОЫНО-романтических поэм С. а.есенина 1917-1919 гг. 233
5-2. Мистерия и миф (поэмы «Певущий зов», «Отчарь», «Октоих», 250
«Пришествие», «Преображение»). 250
Поэма «Отчаръ» 259
Поэма «Октоих» 263
Поэма «Пришествие» 270
Поэма «Преображение» 277
5.3. Поэма «Инония» как опыт создания «сакрального»текста. 288
5.4. От утсииж к реальности (поэмы «Сельский часослов», «Иорданская голубица», «Иантократор», «Небесный барабанщик»). 306
Поэма «Сельский часослов» 306
Поэма «Иорданская голубица» 314
Поэма «Пантократор» 321
Поэма «Небесный барабанщик» 327
Я - все такой же. 354
6.3. Драматическая поэма «Пугачев» как опыт реконструкции «архаического» сознания. Космологическая модель природы и истории. Ммфофилософня имени и трагедия самозванства 372
6.4. Покаянные мотивы. Евангельская притча о блудном сыне как архетипическая основа лирики С.А.Ееенина последних лет. 385
Глава 7. Современные аспекты интерпретации духовного содержания творчества с.А.Есенина. Поэма «черный человек» в 400
системе различных «контекстов понимания». 400
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 432
Т.38. - N.4. 444
Творчество С.А.Есенина - уникальный духовно-эстетический феномен отечественной и мировой поэзии - привлекает сегодня всеобщий и вполне закономерный интерес. На рубеже столетий духовный путь замечательного русского художника все более осознается как поэтически яркое и драматическое отражение духовного самопознания нации в а переломном этапе ее исторического развития.
С. А. Есенин представляет собой редкий в профессиональном искусстве нового времени тип художника - органического носителя народной духовной и художественной культуры, чье образное мышление типологически идентично фольклорному. Поэт естественным образом воплощает в себе, примиряя в гармоническом синтезе, те полюса «стихии» и «культуры», в которых А.А.Блоку виделась одна из трагически неразрешимых антиномий национального сознания.
Отношение к Есенину как к русскому национальному гению, утвердившееся в общественном сознании и в филологической науке1 к концу XX века, ставит перед исследователями задачу изучения природы данного явления, включая сам механизм преломления духовного опыта нации в эстетическом опыте высокоталантливой творческой индивидуальности. Речь в данном случае должна идти не только о литературно-фольклорных традициях, но и о более широко понимаемой национальной культурно-исторической преемственности. Среди выдающихся русских поэтов XX века Есенин имеет наиболее прямое отношение к феномену национальной ментальности, являясь самым ярким выразителем русского национального сознания во всей его самобытности и полноте.
Роль Есенина как национального символа, как соборного поэта XX века, избранного объекта «народной канонизации», была осознана уже давно, в один из самых драматических моментов отечественной истории минувшего столетия, когда после революции и гражданской войны русская нация оказалась расколотой и значительная ее часть волей исторических обстоятельств была рассеяна по миру. «На любви
" См., например: Прокушев Ю.Л. Прозрения гения: К 100-летию Сергея Есенина П Столетие Сергея Есенина: Международный симпозиум. М., 1997. - С. 6-23; Мамлеев Ю.В. Духовный смысл поэзии Есенина // Столетие Сергея Есенина: Международный симпозиум. М-, 1997. - С. 23-35.
к Есенину, — писал уже после его смерти Георгий Иванов, — сходятся два полюса искаженного и раздробленного русского сознания, между которыми, казалось бы, нет ничего общего... Из могилы он объединяет людей звуком русской песни».1
Изучение есенинского наследия в контексте взаимодействия национального самосознания и национальной культуры представляет интерес не только для отечественного литературоведения. Феномен национального гения как серьезная культурологическая и теоретико-литературная проблема привлекает внимание и зарубежных ученых, тем более что художественные открытия и прозрения великого русского поэта выходят далеко за национальные рамки.
Ведь Есенин, возможно, более остро, чем многие другие поэты его столетия, сумел почувствовать такие новые симптомы духовного бытия человека, которые в итоге и составили основное содержание мировой литературы и философии XX века: ощущение богооставленкости и обезбоживания мира; отчуждение и самоотчуждение личности; угрозу тотальной стандартизации, способной нивелировать уникальность каждого человеческого индивида; утрату природных связей и «интимного» состояния духа (К.Ясперс) под натиском технократических, милитаристских и иных глобальных, макротендеыций.
И отечественным, и зарубежным исследователям творчества Есенина должно быть вполне очевидно, что растущую угрозу бытийным основам естественного сознания поэт сумел выразить в наиболее острой форме именно потому, что по самой глубинной своей сути всегда оставался человеком и художником почвеннического склада, прочно укорененным в национальной духовной традиции.
В своем поэтическом диагнозе трагически необратимых изменений, происходящих в структуре сознания современного ему человека, постепенно утрачивающего связь со своими корнями и первоистоками, Есенин художественно предвосхитил многих европейских писателей и мыслителей, в их числе - философа-экзистенциалиста Мартина Хайдеггера, спустя десятилетия сформулировавшего важную мысль, созвучную драматическому пафосу есенинской поэзии: «Сейчас под угрозой находится сама
Иванов Г. Есенин' // Русское зарубежье о Есенине: В 2 тт. / Вступ. ст., сост. и коммент. Н.И.Шубниковой-Гусевой. М., 1993. - Т. 1. - С. 38.
укорененность сегодняшнего человека. Более того: потеря корней не вызвана лишь внешними обстоятельствами, ока не происходит лишь от небрежности и поверхностности образа жизни человека. Утрата укорененности исходит из самого духа века, в котором мы живем». Символично, что М.Хайдегтер приводит далее слова высоко ценимого Есениным немецкого поэта И.-П.Гебеля, упомянутого в «Ключах Марии»:1 «Мы растения, которые — хотим ли мы осознать это или нет - должны корениться в земле, чтобы, поднявшись, цвести в эфире и приносить плоды». Философ так комментирует згу мысль: «Мы задумаемся еще сильнее и спросим: а как обстоит дело с тем, о чем говорил Иоганн Петер Гебель? Есть ли еще родина, в почве которой корни человека, в которой он укоренен?»1
Для Есенина этот вопрос всегда решался однозначно: «Нет поэта без родины».2 Свое расхождение с имажинистами он объяснял отсутствием у них «чувства родины во всем широком смысле этого слова».4 Несомненно, что речь в данном случае шла не только о любви к родной земле, но и об органической связи с духовной культурой своего народа.
Сегодня, на рубеже двух тысячелетий, проблема «почвы», «укорененности» человека и нации приобретает все более актуальное звучание во всем мире, настойчиво сигнализируя о недостаточности «глобалистских» моделей и технологий для многоцветного и плодотворного развития национальных культур как ключевого фактора мирового культурного прогресса.
В этом плане комплексное выявление самого широкого спектра художественных традиций, историко-культурного генезиса творчества С.А.Есенина в контексте взаимодействия национального сознания и национальной духовной культуры определяет актуалъностъ предпринятого исследования, его прямую соотнесенность с современными задачами отечественной и мировой филологической науки.
Научная новизна работы заключается в проблемном разрешении идеи преемственного наследования национального духовного опыта в индивидуальном опыте художника и выявлении механизма авторской рецепции архетипов национальной культуры на основе применения адекватного поставленной задаче понятийного аппарата и соответствующей методологической концепции.
Впервые на системной основе проведено широкое комплексное исследование историко-культурного контекста творчества С.А.Есенина в аспекте взаимодействия с различными «сегментами» национальной духовной кулыуры (славяноязыческая мифология; русский религиозный фольклор; народная календарная и семейная обрядность; древнерусская духовная словесность; библейская и церков- но-книжная традиция; православная литургика, молитвослов и иконография; духовная поэзия и проза; религиозно-философская мысль; паломничество и странничество; раскол о-сектантская духовная практика; традиционные формы сакрали- зованного антиповедения: юродство, ряженье, скоморошество). Выявлен и систематизирован архетипический фонд образных универсалий, послуживших основой для формирования в творчестве Есенина таких ключевых ментальных структур, как национальный образ мира, национальный характер, национальный идеал.
Целъ диссертации состоит в системном изучении духовно-эстетического генезиса и эволюции творчества Есенина в аспекте взаимодействия глубинных ар- хетипических основ национального сознания и национальной духовной культуры.
Данная цель предопределила ряд конкретных задач.:
изучить особенности неортодоксальной есенинской веры в соотнесении со спецификой русской религиозности, включая реликтовые проявления хрис- тиано-языческого двоеверия, истоки культового отношения к земле и природе, богородичные мотивы, соборные, софийные и пантеистические начала поэтического космоса Есенина; проследить основные этапы духовной эволюции поэта;
проанализировать структуру духовного контекста произведений Есенина, выявить и систематизировать факты обращения поэта к различным духовным источникам (мифам и преданиям, обычаям и обрядам русской деревни, народному месяцеслову, апокрифам и духовным стихам, библейским и богослужебным текстам, литургическому опыту православной церкви, произведениям религиозной живописи, включая икону, фреску, лубок; обрядовой практике раскольников и сектантов, народной смеховой культуре, традиционным формам антиповедения);
Ф разработать критерии и методику анализа духовного контекста в произведениях Есенина, принципов и приемов авторской рецепции традиций и их художественной интерпретации;
Ф осмыслить феномены «необиблейского» и «неоязыческого» мифотворчества поэта в контексте художественного сознания революционной эпохи;
выявить инвариантные модели национального образа мира, архетипы национального характера, особенно гти. проявления национального идеала, соотношение между «мифом поэта», «мифом рода» и «мифом этноса» в мегакон- тексте есенинского творчества.
Теоретмко-жепгодологыческуъо основу исследования составили:
труды в области исторической и мифологической поэтики, принадлежащие видным русским ученым XIX — нач. XX в., исследователям национальной духовной культуры: А.Н.Афанасьеву, Ф.И.Буслаеву, А.Н.Веселовскому, В.И.Далю, А.А.Потебне, В.В.Стасову, а также Е.В.Аничкову, П.Ы.Сакулину и др.;
О работы видных деятелей русского религиозно-философского ренессанса, исследователей духовной истории русского народа, русского богословия, неохристианских тенденций в русском общественном сознании XX века: Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, Вяч.И.Иванова, И.А.Ильина, Д.С.Мережковского, В.В.Розанова, Е.Н.Трубецкого, Н.Ф.Федорова, Г.П.Федотова, П.А.Флоренского, Г. 11.Флоровского и др.;
4 исследования отечественных ученых в области семиотики культуры, теории мифа, теории диалога, теории автора, духовных основ русского фольклора и древнерусской литературы: М.М.Бахтина, В.В.Виноградова, Д.С.Лихачева, Ю.М.Лотмана, В.Я.Проппа, Ф.М.Селиванова, а также С.С.Аверинцева, В.П. Аникина, А.К.Вайбурина, Г.Д.Гачева, А.Я.Гуревича, Ю.Г.Круглова, Е.М.Меле- тинского, А.М.Панченко, Б.А.Рыбакова, В.Н.Топорова, Б.А.Усиенского и др.;
ф исследования зарубежных ученых в области теории архетипов, ранних форм культуры, вопросов герменевтики, экзегетики, христианского экзистенциализма: Г.-Г.Гадамера, У.Джеймса, Э.Тэйлора, Дж.Фрэзера, М.Хайдеггера, Й.Хейзинги, О. фон Шульца, М.Элиаде, К.-Г.Юнга, К.Ясперса и др.; ❖ труды в области зсгетическнх основ православной духовной культуры, принадлежащие ученым кз русского зарубежья: С.Зеньковскому, Вл.Ильину, Ю.Миролюбову, Н.Струве, Л.Успенскому, А.Шмеману, Т.Горичевой, Ю.Мамлее- ву, а также отечественным исследователям: В.В.Бычкову, П.Е.Бухаркину, М.М. Дунаеву, И.А.Есаулову, В.Н.Захарову, А.И.Клибанову, В.В.Кожинову, В.А.Котель- иикову, Ю.И.Сохрякову, В.Ю.Троицкому, К.В.Чистову, А.В.Юдину и др.; Ф специальные работы богословского характера, разъясняющие духовный смысл литургических таинств и символику иконы.
В работе используются историко-генетический и системно-типологический методы исследования.
Методологическая концепция работы строится с учетом большого опыта, накопленного отечественным и мировым есениноведением. В книгах и статьях ЮЛ.Прокушева, С.П,Кошеч.кина, П.Ф.Юшика, Е.И.Наумова, А.А.Волкова, В.Г.Ба- занова, А.М.Марченхо, В.А.Вдовина, В.Н.Харчевникова, Л.Л.Бельской, Т.К.Савченко, Э.Б.Мекша, Н.И.Шубнкковой-Гусевой, А.С.Карпова, А.Н.Захарова, Ст.Ю. и С.С.Куняе- вых, Н.М.Солнцевой, В.А.Зайцева, В.И.Фатющенко, С.И.Субботина, Л.А.Киселевой, Н.Г.Юсова, Е.А.Самоделовой, М.В.Скороходова, А.Д.Панфилова, Л.В.Занковской и мн. др. обобщен большой фактический материал, вовлечены в научный обиход новые архивные документы, осмыслены самые различные стороны духовной и творческой биографии поэта. К концу XX века стожилось и мировое есениноведение со своими центрами в ведущих странах Европы, в США. В исследованиях Джесси Дейвис и Гордона Маквея (Великобритания), Мишеля Никё (Франция), Леонарда Кошута (Германия), Серджо Пескатори (Италия), Миодрага Сибиновича (Югославия), Ежи Шокальского (Польша).. Владимира Хазана (Израиль), Эммануила Штейна и Марии Павлов- скк (США) и др. содержатся оригинальные подходы к изучению художественного наследия Есенина в контексте мировой литературы.
Вместе с тем необходимо признать, что вопросы духовной эволюции Есенина, проблема традиций духовной культуры в его творчестве во многих своих аспектах изучены недостаточно. Это можно объяснить целым рядом причин, в том числе внелитературного характера, связанных с вмешательством политико- идеологических факторов, препятствовавших объективной оценке есенинского поэтического наследия и его духовно-эстетического генезиса в течение значительного периода времени.
Анализируя сложившуюся в этой области есениноведения исследовательскую традицию, следует обратить внимание на то, что каждый этап изучения творчества поэта имеет резко выраженную специфику и высокую степень зависимости от «социального заказа» той или иной эпохи.
Дореволюционная критика ставила в заслугу поэту духовную наполненность его ранней лирики, отмечая в ней порыв «к небесному, вечному»: «Славословие природы, поэзия быта, искорки молодой любви и молитвы Богу - вот спектр этой едва распускающейся поэзии».1 Произведения Есенина были особенно тепло встречены неославянофильскими кругами, увидевшими в его поэзии идиллический образ патриархальной русской деревни «с мудро-детскими верованиями, исконно-благолепной обрядностью, языческой, природной непосредственностью».2 Были отмечены и «религиозные настроения» самого автора, присутствие в них «чего-то сродного пантеизму», выразившееся в особом восприятии природы: «она для него - обширный храм, и потому все в ней может считаться священным, все может возбудить молитвенный восторг».3
В критической мысли революционного периода по отношению к поэзии Есенина наблюдаются гораздо более разноречивые реакции. Если критики, представляющие «скифское» направление (Р.Иванов-Разумник, Е.Лундберг, Скальд и др.) активно поддерживали богоискательские тенденции и необиблейское мифотворчество его революционных поэм, видя в них «богоутверждение нового Слова»,
Сакулин П. Народный златоцвет // Вестник Европы. - 1916. - N. 5. - С. 205.
Петроградские ведомости. - Пг., 1915. - 4 ноября. Новое время: Илл. прил. — Пг., 1916, - 27 августа.
«певухций зов нового благовестия», поэтическое воплощение «предначертанного мировой историей крестного пути возрожденного народа к новой исторической Голгофе»,3 то пролеткультовцы (Н.Ангарский, П.Бессалько, П.Лебедев-Полянский, Ф.Радванский и др.) в "крайне резкой форме отзывались о религиозных мотивах есенинского творчества, трактуя их как проявление его идеологической реакционности. «Есенин уходит прямо в лагерь реакции, - писал, например, П.Лебедев- Полянский об «Иорданской голубице». - Он без всяких оговорок, вместе с церковным клиром, на радость всей черной и белой братии, уверяет, что на том свете куда лучше, чем здесь, на земле».4
В контексте революционной и послереволюционной эпохи приверженность Есенина и близких ему новокрестьянских поэтов традициям уходящей культуры не вызывала одобрения и у критиков с более широкой идейно-эстетической платформой. «Их поэзия вправлена в дедовские киоты и старинные ризы, окурена церковным ладаном и пахнет елеем», — писал В.Львов-Рогачевский.5 Язвительно отзывался о поэтическом лексиконе Есенина, пронизанном религиозной терминологией, поэт и критик Н.Асеев: «Церковно-славянский, великопостный, с поджатыми губами словарь этот весьма отдает священным саном колупаевского дьячка».6 Иронически воспринял попытку религиозной интерпретации революционных событий в поэмах Есенина один из наиболее проницательных критиков-современников А.К.Воронский, увидевший в них «мужицкие религиозные акафисты» и «причудливое сочетание язычества времен Перуна и Даждьоога с современным космизмом».5
Отечественная критика первой половины 20-х гг. приветствовала «отход от церковности к реальному миру»,7 поворот к социальной нови в произведениях Есенина этих лет, хотя порой и упрекала его в том, что он не вполне отказался от религиозных мотивов, а придал им формы скрытого, утонченного мистицизма.
После смерти Есенина в рапповской критике возобладала тенденция «развенчания» поэта как выразителя кулацкой идеологии, певца старой деревни и исчерпавшего себя патриархального уклада жизни, враждебного всему новому. Вместе с Есениным сбрасывалась с очередного «парохода современности» и вся традиционная русская духовная культура: «Он, с детства приобщившийся мистических таинств, кликушеских молебствий, шел путем фальшивого воспевания сусальной деревни, в которой - «мир и благоволение в человецех» и которую крепко берегут монастыри да страдные лики святых Микол, что светятся из божниц красных углов».8
Тем не менее уже в это время предпринимались серьезные попытки широкого и объективного осмысления духовного генезиса есенинской поэзии на фундаментальной историко-культурной основе без примеси идеологической конъюнктуры. Особый интерес представляет сохранившаяся запись лекции М.М.Бахтина, прочитанной им в 1927-28 гг. В ней впервые концептуально сформулирована и осмыслена «основная тема» поэзии Есенина: «деревня как микрокосм, отражающий лирически макрокосм мира», причем «космические ценности воплощаются в образы избяной линии, переводятся на избяной язык»; здесь же обоснована символическая природа есенинского образа, предметный характер его метафоры, особая роль интонационного фактора в его поэзии; творчество Есенина органично вписано в контекст народной духовной культуры.9
Однако в конце 20-х гг. попытки более глубокого анализа национальной духовной первоосновы творчества Есенина были грубо прерваны начавшейся кампанией по дискредитации поэта, санкционированной на самом высоком уровне.10
На фоне «обличительной» критики конца 20-х гг., крайним выражением которой стали скандальные книжки А.Крученых («Лики Есенина от херувима до хулигана», «Как Есенин пришел к самоубийству», «Черная тайна Есенина» и др.), особо выделяется исследование Г.Покровского (Медынского) «Есенин - есенин- щина - религия» (М.,1929),
Вышедшая в издательстве «Атеист» под рубрикой «Религия - дурман для народа», книга Покровского, наряду с традиционной для своего времени трактовкой Есенина как «религиозно-реакционного романтика», содержала целый ряд точных выводов о5 истоках формирования есенинского таланта и верных наблюдений о характере его творчества: «Жизнь для него не борьба, не трагедия, даже, может быть, не дело, а какая-то радостная "лития", литургия жизни, полная непосредственной радости от самого существования, сливающегося в бодрой гармонии с красотой природы, где все "благостно и свято"». Исследователь одним из первых обратил внимание на сочетание противоречивых начал в есенинском мироощущении: «радостного приятия жизни» и «неотмирности», «блаженной религиозности» и «озорства и хулиганства», дал первую периодизацию творчества Есенина в аспекте эволюции его отношения к религии, выявил «два корня» есенинской религиозности (народную веру и влияние религиозно-философской мысли начала века), охарактеризовал такие особенности художественного мировоззрения и мышления поэта, как «пантеистическое восприятие природы и анимистическое одухотворение ее», «антропоморфизм религиозных понятий» и «окрестьянивание» религиозных образов, «реалистический символизм» и «революционный космизм», сочетание утопии и идиллии. Вместе с тем попытка автора подойти к творчеству Есенина с аналитических позиций в значительной степени обесценивалась её вульгарно-социологической тенденцией и конечным выводом об объективной вредности поэзии Есенина для дела построения социализма.
Последующие четверть века вплоть до середины 50-х годов вошли в историю отечественного есениноведения как период «умолчания» о поэте, когда само его имя оказывалось под запретом.
В этот период положительную роль сыграло русское литературное зарубежье, обеспечившее непрерывность исследовательской традиции в отношении наследия Есенина. В работах Вл.Ходасевича, КМочульского, Г.Иванова, Г.Адамовича, Д.Святополк-Мирсхого, М.Осоргина, Ал.Фовицкого, С.Маковского, Б.Ширяева и других были восстановлены глубинные связи поэзии Есенина с национальной духовной традицией, выявлена сложная структура его миропонимания, внимательно и сочувственно раскрыты противоречивые стороны его сознания, этапы его духовной эволюции.
В последующие 50-70-е годы отечественными учеными в условиях начавшейся «оттепели» и новой идеологической ситуации была проделана большая работа по созданию научного фундамента современного есениноведения. В первых монографиях о Есенине, написанных Ю.Л.Прокушевым, П.Ф.Юшиным, Е.И.Наумовым, Л.Г.Юдкевичем, А.А.Волковым, С.П.Кошечкиным, в работах В.Г.Белоусо- ва, В.В.Вдовина, П.С.Выходцева, Е.Л.Карпова и др. была воссоздана научная биография Есенина, разработана периодизация его творчества, систематизирован большой фактологический материал, нашли всестороннее обоснование выдвинутая Ю.Л.Прокушелым еще в конце 50-х гг. концепция Есенина как великого русского национального поэта и концепция ПФ.Юшина об идейно-творческой эволюции Есенина.
Вместе с тем в ряде исследований данного периода, наряду с энергичным стремлением к давно назревшей «реабилитации» Есенина как художника и гражданина, проявилась вполне объяснимая духом времени тенденция к «выпрямлению» его духовного и творческого пути, «снятию» излишних противоречий, не вполне укладывавшихся б навое представление о поэте. Поэтому религиозная проблематика есенинского творчества оказывалась периферийной областью исследований, языческий элемент, воспринимавшийся как «более народный», в общей картине есенинской религиозности превалировал над христианским, при этом особо акцентировались моменты, свидетельствовавшие, по мнению авторов различных работ, о богоборческом л атеистическом характере произведений Есенина.
Наиболее объемно в научной литературе тех лет данная проблематика представлена в книге В.В.Коржана «Есенин и народная поэзия» (Л., 1969). В ней предпринята попытка расширить круг фольклорных источников религиозной образности в произведениях Есенина, впервые предложена классификация стихов, содержащих в себе христианские мотивы, подразделяемых автором монографии на четыре группы: 1) отражающие религиозные верования народа как часть его быта и поэтому не свидетельствующие о субъективной религиозности поэта; 2) использующие упоминания о предметах церковного обихода как материал для обра- зотворчества; 3) воссоздающие образы Христа, Богоматери и святых на основе существующей христианской традиции; 4) «ряд самостоятельных, лирически проникновенных стихотворений, выражающих религиозные чувства».
Вместе с тем трактовка религиозных мотивов и образов В.В.Коржаном стереотипна для своего времени: оцениваемые с подчеркнуто атеистических позиций, они трактуются как проявление недостаточной зрелости молодого поэта или результат вредных влияний (отсюда характерные пояснения: «Если у Есенина наблюдаются отдельные отклонения в сторону религиозности, то Клюев весь пропитан патриархальностью...»; «библейские образы и сюжеты затрудняют восприятие стиха» и т.п.).
Заметный поворот к более объективной оценке и углубленному анализу многообразных связей есенинского творчества с традициями национальной духовной культуры наметился в 1970-80-е годы в монографиях А.М.Марченко, В.Г.Базанова, В.И.Харчевникова, отличающихся существенным расширением историко-культурного контекста исследования, обращением к традициям русского духовного фольклора, древнерусской книжности, иконописи. Этому процессу способствовали и коллективные сборники научных трудов: «Сергей Есенин: Исследования. Мемуары. Выступления» (М., 1967), «Есенин и русская поэзия» (Л., 1969), «Есенин и современность» (М., 1975)? «Сергей Есенин: Проблемы творчества» (выпуски 1978 и 1985 гг.), «В мире Есенина» (М., 1986), тематические «есенинские» сборники, выходившие на родине поэта в г. Рязани (1979,1980,1982,1984,1987,1995).
К началу 90-х гг. и в последующие годы была создана широкая научная база, открывшая путь новому поколению есениноведческих исследований.
Особая роль в выработке научной стратегии и координации научных сил принадлежит сегодня есенинскому сектору Института мировой литературы, возглавляемому Ю.Л.Прокушевым. Под его руководством коллективом ученых в составе С.П.Кошечкина, Н.И.Шубниковой-Гусевой, А.Н.Захарова, Н.Г.Юсова, С.И. Субботина, A.A.Козловского, Е.А.Самоделовой, М.В.Скороходова и др. осуществлен выпуск во многом уникального у-томного Полного академического собрания сочинений С.А.Есенина с обширными научными комментариями, издана целая серия сборников-спутников «О Русь, взмахни крылами...» (М., 1994)? «Есенин академический: Актуальные проблемы научного издания» (М., 1995)» «Столетие Сергея Есенина: Международный симпозиум» (М., 1997), проведены международные конференции с участием ученых из разных стран мира, готовится ряд новых научных проектов («Летопись жизни и творчества С.А. Есенина», «Есенинская энциклопедия» и др.).
Новый импульс ееениноведческим исследованиям дали такие издания 90-х гг., как двухтомник «Русское зарубежье о Есенине» (М., 1993)» четырехтомник «С.А.Есенин в стихах и в жизни» (М., 1995)» «С.А.Есенин: Материалы к биографии» (М., 1992), книга мемуарной прозы «Как жил Есенин» (Челябинск, 1992).
Новое содержательное наполнение получило изучение творчества С.А.Есенина в контексте традиций языческой и христианской культуры. В работах отечественных исследователей С.Г.Семеновой, А.И.Михайлова, Ст.Ю. и С.С.Куняе- вых, Н.И.IИубниковой-Гусевой, А.Н.Захарова, Е.А.Самоделовой, Ю.И.Сохрякова, М.В.Скороходова, Н.М.Солнцевой, А.Д.Панфилова, А.Л.Казакова, С.М.Прохорова, Н.М.Кузьмищевой, М.А.Капрусовой, В.А.Сухова, ученых из ближнего и дальнего зарубежья: Л.А.Киселевой (Украина). Э.Мекша (Латвия), Е.Шокальского и А.Май- миескуловой (Польша), М.Нике (Франция), Г.Маквея (Англия), В.Хазана (Израиль), Марии Павловски (США) выявлены новые факты, отражены новые аспекты в исследовании этой проблемы. Данному направлению в есениноведении посвящены также монографии соискателя «Духовные искания Сергея Есенина» (Рязань, 1995) и «Духовный путь Есенина: Религиозно-философские и эстетические иска- кия» (Рязань, 1997}.
Терминологический аппарат диссертации формируется с учетом этнопоэти- ческой и этнокультурной специфики исследуемых реалий. В качестве базовой категории для исследования национальных духовных основ творчества Есенина выдвинута категория менталъности, пока еще не нашедшая должного применения в филологической науке. Перекликаясь с понятиями национальной идентичности, национального своеобразия, ко не отождествляясь с ними полностью, категория ментальности подразумевает совокупность глубинных структур и признаков национальной культуры, проявляющихся в мифологии, фольклоре, формах религиозного культа, в литературе, искусстве, философии и т.п. Ментальность означает нечто общее, лежащее в основе сознательного и бессознательного (в том числе коллективного бессознательного), рационального и эмоционального, в структуре поведенческих механизмов.
Понятие ментального фактора, отражающего органический характер связи художника с судьбами нации, его способность быть своего рода «медиумом» национальной стихии, ее живым голосом, позволяет найти необходимый ключ к уяснению специфики есенинского дарования, понять причины уникальной популярности есенинской поэзии у самого широкого круга читателей независимо от их идеологических, возрастных, образовательных признаков.
Для более четкого определения национальных границ интертекстуального фона есенинского творчества и вводится в научный обиход понятие «ментальный контекст». В его структуру входят традиции русского фольклора и славянской языческой мифологии, национальные формы религиозного культа, православный канон, христиано-языческое двоеверие, раскол и ереси, народная обрядовая культура, православная л тур гика и иконография, отечественная литература, искусство, религиозно-философская мысль.
Метаязык национальной культуры реализует себя в творчестве Есенина посредством ментальных структур, под которыми понимается совокупность этнокультурных единиц, включающих в себя образы-архетипы, надличностные святыни, независимые от времени духовные константы и ценностные ориентации, определяющие собой весь строй, лад и уклад народного бытия.
При этом к базовым ментальным структурам относятся следующие метака- тегории:
национальный образ мира;
национальный характер;
национальный идеал.
Категория ментальности, фиксируя момент органического взаимопроникновения, взаимосвязи и взаимообусловленности национального самосознания и национальной культуры, з том числе в рамках художественного текста, дает ценный методологический ключ к анализу главной проблемы данного исследования.
В основу методологической концепции работы положены и другие современные научные подходы, базирующиеся на парадигме «литература в системе культуры». Один из перспективных путей изучения творчества Есенина как явления русской ментальности -- рассмотрение его творчества в контексте православной этнопоэтики. «Речь идет о своего рода православном коде русской национальной культуры (взятой в ее целом), который только еще начинает осваиваться гуманитарными дисциплинами»/
Корневая связь поэзии Есенина с православной духовной культурой, отразившаяся в характере воплотившегося в ней национального духовного и эстетического идеала, дает основание изучать мир поэта в свете категорий соборности и софийности.
Так, «время пространство» есенинской поэзии дореволюционного и революционного периода органично укладывается в рамки христианского пасхального хронотопа, питается духовными импульсами и идеями Рождества, Преображения, Воскресения. Кризисные тенденции в произведениях 1920-23 гг. образно преломляются в мотивах Апокалипсиса, в траурной мелодике заупокойной литургии. Интонации покаянной молитвы во многом определяют исповедальную направленность есенинской лирики последних лет. Пафос любовно-благодарного отношения к дару жизни, благоволения к людям и братского милосердия к «меньшой твари», свойственный православной этической традиции, одухотворяет поэзию Есенина на всех этапах его художественной эволюции.
Выявляя православную доминанту в духовном мире Есенина, соискатель руководствуется прежде всего эстетическими основаниями: «Православие - не только система догматов и поиск веры, но и культурное творчество русского народа».11
С учетом синкретического характера есенинского текста, совмещающего в себе христианский и дохристианский пласты народной культуры, в исследовании используется ритуально-мифологический подход, позволяющий выявить славяноязыческую составляющую ментального контекста есенинского творчества. Продуктивным представляется в этом плане применение юнгианской теории архетипов, которая в мировой филологической практике давно уже стала «преобладающим методом выявления национальной специфики» искусства.12 Понятие архетипа, широко употребляемое з данной работе, выводится из его классического определения («первообраз», «пред существующая форма», архаические «коллективные представления», первичные «идеи-модели»).13
Ментальный контекст в есенинском творчестве органично взаимодействует с глобальным контекстом: в его произведениях встречаются общемировые мифологемы «космического дреза», «мира-семьи», «мира-храма» и национальные метаобра- зы «земного рая», «иного царства», «сокровенного града», «избяного космоса», архетипы национального характера («инок», «босяк», «странник») с их разнообразными модификациями от юродивого до хулигана, от богоборца до богоискателя.
В творчестве Есенина происходит процесс органического усвоения, адаптации мировых археткпических моделей мира и человека, превращение их в достояние «русского духа к глаза».14 Особый интерес представляет освоение Есениным библейской традиции - «великого кода» мировой литературы, по выражению известного канадского ученого Нортропа Трая,15 - вплоть до попыток создать «русское Евангелие» и образ «русского Христа».
Изучение ментальных основ творчества Есенина в контексте православной этнопоэтики и теории архетипов закономерно приводит к синтезирующей их методологической схем г диалога культур.
Научная концепция исследования основывается на положении М.М.Бахтина о недопустимости отрыва художественной литературы «от остальной культуры», замыкания ее в рамках литературного процесса эпохи, вследствие чего «могучие глубинные течения культуры, действительно определяющие творчество писателей, остаются не раскрытыми, а иногда и вовсе не известными исследователям».16
Поскольку понятие духовной культуры в современных гуманитарных науках имеет различные измерения, в диссертации определяется его терминологическое содержание: в контексте проводимого исследования духовная культура понимается как сфера народного религиозного сознания, народного религиозного поведения и народного религиозного творчества, взятая в ее эстетическом преломлении.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее основные положения могут быть использованы в учебном процессе, в преподавании курса истории русской литературы XX века, при разработке спецкурсов по проблемам «Русская литература и религия». «Русская литература в контексте духовной культуры», спецкурсов и спецсеминаров по творчеству С.Л.Есенина и новокрестьянских поэтов, при подготовке учебно-методических пособий по данной проблематике для вузов и школ.
С учетом того, что в научный обиход есениноведения вовлекается (нередко впервые) большой объем сведений специального богословского характера, проясняющих духовный смысл многих символов, образов, мотивов, встречающихся в творчестве Есенина, а также сведений из других областей духовной культуры, материал работы может быть использован в справочных целях при подготовке научных комментариев к произведениям и собраниям сочинений Есенина.
Разработанная в диссертации методика анализа авторской рецепции традиций духовной культуры может применяться в исследовании духовного контекста творчества других поэтов и писателей.
Апробация работы. Основные положения диссертации нашли свое отражение в докладах соискателя на Международном научном симпозиуме «Сергей Есенин в XXI веке» (ИМЛИ, 1995), на международных научных конференциях: «Актуальные проблемы современного есениноведения» (Рязанский педуниверситет, 1995), «Ф.М.Достоевский и мировая культура» (МГУ, 1996), «A.A.Фет: Поэт и мыслитель» (ИМЛИ, 1996), «Проблемы русской литературы XX века» (МПГУ, 1996), «Столетие Есенина: До и после юбилея: Итоги. Проблемы. Перспективы» (ИМЛИ, 1997), «Язык и культура» (Институт международных отношений, г. Киев, 1998), «К.Бальмонт, М.Цветаева и художественные искания в русской поэзии XX века» (Ивановский госу- киверситет, 1998), «Задачи подготовки "Летописи жизни и творчества С.А.Есенина": Проблемы. Перспективы» (ИМЛИ, 1998), «Пушкин и Есенин» (ИМЛИ, 1999); на заседаниях кафедры русской литературы МГОПУ; в рамках прочитанного лекционного курса, спецкурса и спецсеминара по творчеству С.А.Есенина.
Результаты исследования отражены в двух монографиях: «Духовные искания Сергея Есенина» (Рязань, 1995. - 6,5 п.л.) и «Духовный путь Есенина: Религиозно-философские и эстетические искания» (15 п.л.), а также в 35 статьях.
