
- •1Фб индекс ббк87.3в02 с24
- •Предисловие
- •Проблема символа в свете философии культуры
- •Но вывод такой не был вполне благополучным.
- •Гос. Публичная библиотека
- •2. Трансцендентализм. Из сказанного вытекает, что философия есть философия науки. Задача ее—а выявлении логической правомерности научного знания;
- •Природа символа
- •Символ и реальность
- •Современный позитивизм, провозгласивший себя
- •Символ в свете учения Гёте о прото-феномене
- •Природа символа. Проблема градации
- •Термин, эмблема, образ, морфема как таковая,
- •4. Эмпиричен (ранний Беркли), 5. Трансцендентален 185.
- •Антиномия символа
Символ и реальность
Исследование морфемы символа в десяти выборочных эмблемах ее явило нам градацию символических негативов, диалектически соотнесенных с метаморфе· мой, вносящей существенный корректив в эту градацию и нарушающей формальнологическое ее благополучие. Ибо, взятый в аспекте только формы, символ всецело негативен; определяя содержание, форма тем самым отрицает его—эта диалектическая очевидность чревата самыми решительными последствиями, приводящими з итоге к кризису формы в ее формалистическом облачении. Символ—мы видели уже—не исчерпывается в анализе форм; лишь одной стороной своей он тождествен проявляющей его форме, и сторона эта—антитезис символа, или небытие его. Парадокс формализма заключается, строго говоря, в отсутствии предмета исследования; гипертрофия формы неизбежно связана '-· упразднением самого предмета, ибо гипертрофия эта есть гипертрофия антитезиса, или небытия, и, стало быть, каким бы блистательным ни был анализ самой формы, он бессмыслен (в прямом смысле слова) до тех пор, пока форма мыслится как самоцель, как исток и завершение. Методологические рафинированности -довлеют здесь себе вплоть до забвения исследователем исконной цели анализа: познать предмет в его существе.
Цель эта требует прояснения. Что значит: познато предмет в его существе? Исторически нам явлена гра дация ответов на этот вопрос, расщепляющаяся в ос новном на две группы. В ракурсе нашей проблематики группы эти мы обозначили уже как символизм и антй-символизм: концепции Кассирера и..Бергсона кульми нируют в этом смысле потенции обеих групп. В одном случае утверждение предмета связано с решительной тенденцией -к десимволизации; познать предмет в его существе значит здесь отстранить всякий опосредствую-119
щий символизм и непосредственно интуировать предмег в его чистой и адекватной сущности. «По самому своему существу, поскольку она направляется на последние начала, философия в своей научной работе принуждена двигаться в атмосфере прямой интуиции,—заявлял Гуссерль, этот «подлинный бергсонианец», как он охарактеризовал себя однажды,—и величайшим шагом, который должно сделать наше время, является признание того, что при философской в истинном смысле слова интуиции, при феноменологическом постижении сущности, открывается бесконечное поле работы и полагается начало такой науки, которая в состоянии получить массу точнейших и обладающих для всякой дальнейшей философии решающим значением познаний без всяких косвенно символизирующих и математизирующих методов, без аппарата умозаключений и доказательств»'. Но если утверждение предмета связано здесь с антисимволизмом, то утверждение символизма, напротив, ведет к элиминации предмета. Существо подменяется термином. Термин вызывает к жизни целые школы и направления, предающиеся ожесточенным спорам о... термине, в результате чего происходи г смена терминов, уточнение их и ювелирная обработка под знаком все растущих призывов к полнейшей формализации знания, признанной за научный идеал. Математика—формальнейшая из наук—становится конкретным воплощением этого идеала; ей уготовлена в XX столетии миссия интеграции наук и даже всей культуры; роль ее аналогична роли отжившей теологии:
быть окруженной многочисленными «служанками»-науками, от социологии или, скажем, биологии до поэтики и музыкознания, которым неукоснительно вменено в обязанность уподобление «царице наук», некоего рода «imitatio mathematicae», заменившее «imitatio Chrisii» и спародировавшее опыт «контемпляций» Фомы Кемпийского в «протокольных предложениях» Р. Карнапа. Здесь в первую очередь встает ряд вопросов:—Знание сводится ли к знанию термина? И может ли прогресс терминологии считаться прогрессом самого знания? Старая схема поступательного движения мысли от незнания к знанию не должна ли быть подвергнута решительному пересмотру, если мысль явлена нам
120
в ней как термин и только термин? Очевидно .одно:
формализация знания вплоть до иссушения последних капель «живой воды» знания в каркасе оцепенелой эмблемы, идола, выдаваемого за идеал, подменяет предмег исследования внеположными этому предмету средствами собственного анализа и есть—это следовало бы подчеркнуть со всей резкостью—незнание. Или, в противном случае, пришлось бы пересмотреть самое понятие знания, растворяя его в эмблеме. К этому явно или неявно приходит всякий формализм: предмет исследования он отождествляет с самой формой—вспомним у Кассирера: вопрос о реальности помимо и вне символической формы он считает неуместным вопросом, а между тем следует учесть, что формализм Кассирера сдерживается в достаточной степени приверженностью этого философа к мысли Гёте и Гердера и, стало быть, полон всяческих отклонений и двусмысленностей, которые, на наш взгляд, представляют собою наиболее интересный аспект его концепции, несмотря на свою чисто логическую проблематичность (взять хотя бы одно, немыслимое для кантианца, допущение «интеллектуального созерцания», последовательное присутствие которого ставит под вопрос самое возможность формализма)—как бы ни было, растворение предмета в форме есть неизбежное условие формализации знания, и оно же приводит к незнанию предмета, который парадоксальным образом становится вдруг неуместным.
Но неуместность предмета влечет за собою неуместность и самой формы. Провозглашается (или молча подразумевается) автономность формы, ее самодостаточность и себетождественность, в результате чего блистательная регистрация формальных особенностей довлеет себе и сама становится своего рода «предметом». Между тем форма тождественна не себе, а содержанию (и здесь различное положено как тождественное); тождественная себе, без перехода в содержание. она бессмысленна, как бессмыслен жест вне функции душевного выражения, как бессмысленна же, скажем, стрелка барометра вне функции указания атмосферных изменений. Можно без конца изучать структурные особенности иного бодлер.овского стихотворения: выявлять своеобразие его просодии, ритмики и рифмики, при-121
стально вслушиваться в эвфоническую ткань его и обнаруживать в ней скрытую гармонию Расина или изощренную мелодику Виктора Гюго, забывая при этом действительное- назначение всех отмеченных своеобразий: быть транспарантом предметного смысла стихотворения, его, так сказать, толмачом; «цветок зла» в анализе таком будет вырван из животворительной почвы своей и обессмыслен в формалистическом «гербарии» при фантастическом умении исследователя долго и почтенно судить о запахе иссохшего цветка.
Аберрации обратного подхода нами отмечены; на
них мы не будем останавливаться вновь. Заметим лишь:
претензия обходиться без символов и непосредственно постигать самое сущность предмета неизбежно ведет ;< отрицанию символических форм и, стало быть, мира культуры. Первоначальный психологизм (или иначе— биологизм) Бергсона, перенесенный им в «Двух источниках морали и религии» на сферу культуры, обернулся лишь негативным перечнем искажений этой сферы;
Бергсону нечего сказать о культуре как таковой; культура как таковая оказывается расстрелянной мишенью его «симпатических вживаний»; амплитуда исследовательских интересов автора «Творческой эволюции» простирается в крайних точках своих от насекомых энтомолога Фабра до... «невыразимых смыслов» мистики Хуана де ля Крус; посредине зияет провал, или собственно культура, оставшаяся невскрытой. И то же видим мы у Гуссерля, обратившегося к проблеме культуры в последние годы жизни. Дегуманизированному миру культуры противопоставляет он «жизненный мир» («Lebenswelt»)—мир повседневного опыта и «первоначальных очевидностей» донаучной, допредикативной жизни, к которой должна обратиться философия через радикальное преодоление всех «символических картин»
мира.
Наличие этих двух крайностей—негативных по
существу—слагает нам позитивный аспект проблемы. Мы выяснили в предыдущем отрывке несводимость метаморфемы символа к репрезентирующим ее формам. Это значит, что в диалектике формы и содержания содержание отнюдь не поглощается формой, целое всегда больше частных своих проявлений, или—вспом-
122
ним слова Гёте—«сущее не делится на разум без остатка». Негативность этих характеристик требует однако своего проявления, положительного вскрытия оппозиции «форма-содержание», которая, по существу, прочитываема и так: символ и реальность.
В свете предшествующих изысканий мы выяснили уже, что 1. символ отражает реальность, 2. выражает ее, 3. тождествен и различен с ней, 4. несводим к ней Остается охарактеризовать эти пункты; иными словами, их преобладающая логичность должна быть дополнена феномено-логичностью, позволяющей взаимодействие диалектического метода с любой жизненной ситуацией. В сущности, символ как диалектика формы и содержания есть логический ракурс проблемы, феноменологический ракурс которой—символ и реальность. И если предыдущий анализ выявил нам 3 и 4 из отмеченных выше пунктов, то сейчас нам остается сосредоточить внимание на первых двух. Проблема, стало быть формулируется так: в каком смысле символ есть отражение реальности и как он выражает ее?
Форма, понятая диалектически, мыслится нами как антитезис метаморфемы, положенной тезисом в распаде некоего изначально тотального «интеграла»: формо-содержания. Анализ предваряется синтезом; само понятие синтеза имеет двоякую значимость—логическую 'л генетическую. Генетически . синтез образуется после анализа; логически он дан до анализа; анализ есть не что иное, как трансформация его; самоотрицание синтеза в анализе есть различение тезиса и антитезиса (индифферентных в истоке), ведущее к новому утверждению синтеза, уже различенного. Что принцип этог представляет собою не досужее измышление спекулятивного сознания, но вскрывает глубочайшую смысловую природу явлений, подтверждается торжеством его в самых разных сферах исследования: от математики до, скажем, музыкознания. Так, господство математического анализа сменяется в XIX столетии быстрым ростом и первостепенной значимостью теории чисел, представленной работами Гаусса, Галуа, Абеля, Софу-са Ли и других математиков. Анализ оказывается в зависимости от аритмологии; понятие о числе дано теперь не учением об элементах («бесконечно-малых»), 123
но учением о комплексах; комплекс первичен по отношению к входящему в него элементу; сами элементы суть зависимые переменные целого, понятого уже не как число в устаревшем смысле (единица счета, сумма), а как фигура числа (Кантор сближает ее с «эйдосом».)2, обусловливающая свободную вариационность суммы входящих в нее элементов, и таким образом вчерашняя стабильность аналитических эмблем оказывается зависимой величиной вариационного исчисления. Первопо-.ложенный синтез, данный как принцип конфигурирования элементов, лишает анализ гнетуще-детерминистического господства, подчиняя самый этот детерминизм законам «точной фантазии», могущей конструировать любые синтезы в рамках первично определенного порядка. Аналогичное видим мы и в музыке, где, по словам крупнейшего знатока ее, «основой мелоса с психологической точки зрения является не последовательность токов..., а момент перехода от одного тона к другому»3. Лучше было бы сказать с диалектической точки зрения, ибо психология устанавливает лишь переживание момента перехода, не говоря ничего о сущностной его стороне. Между тем вопрос заостряется диалектически в следующем: возможен ли этот переход, если за основу мы будем считать последовательность тонов, т. е. аналитический аспект мелоса? Переход, или собственно музыка, может иметь место тогда лишь, если утвердить его первичность по отношению к тонам и тем самым изменить причинно-следственную связь между ними. Строго говоря, в вопросах подобного рода правильное решение зависит от того, насколько мы в состоянии, прослеживая явленный, феноменальный р'азрез, одновременно усматривать и сущностную сторону. В таком случае меняются наши обычные представления о причине и следствии. Диалектика сущности и явления рисует нам картину, где предмет дан не в одностороннем смещении перспектив, но в их полном круге. Так, если феноменальный ряд представлен градацией следующих друг за другом форм: а, в, с, и если в этой градации мы видим причинную связь, то, будучи верной с генетической точки зрения, она теряет свое значение в ракурсе сущностного соотношения. Здесь мы видим обратную связь: с, в, а, по отношению
124
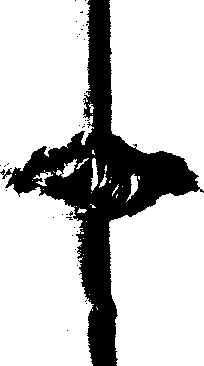
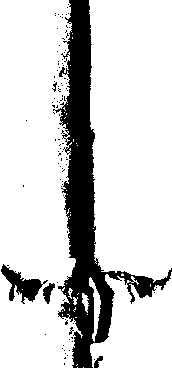
к которой генетический ряд явлен, музыковедчески говоря, в «ракоходном движении»; его можно сравнить также с зеркальной репризой, рокирующей главную и побочную темы. Генетический post factum, таким образом, обнаруживает себя как логический prius, и причинная связь выявляется во всей перспективе. Это и подчеркивает Маркс в следующих словах: «В конце процесса труда получается результат, который уже & начале этого процесса имелся в представлении человека; т. е. идеально»4. Но тогда уже не а будет причиной. в и т. д., («после этого не значит вследствие этого»), но в, предопределяющее а в ракурсе сущности, определяется им во временном ряде, и мы получаем не линейное представление причинности, а подлинно диалектическое, чей символ—развертываемая спираль. Переведем на язык музыки: если мы имеем, скажем, следующий генетический ряд: последовательность тонов, тема, фуга, то, несмотря на то, что тема складывается из тонов, а фуга из темы, было бы ошибкою связать их причинной зависимостью. Ибо здесь нам явлена неполная картина: градационный веер, так сказать, раскрыт не полностью. Достаточно нам раскрыть его до конца, и соотношение изменится. Мы увидим, что самая возможность post factum', а темы и фуги обусловлена их динамическим (аупапш^возможность) prius'OM, и в этом смысле тема не порождается тонами, но проявляется в них, фуга не порождается темой, но проявляется в ней, создавая материал для своего проявления, который в бесперспективной аналитике видится причиной.
Подобные примеры можно было бы продолжить. Значимость их неоспорима. Но именно в свете этап значимости падают многочисленные претензии пози-тивистического догматизма, нашедшего такое распространение в наше время. Примечательный факт! Поклоняясь идолу точности, в строгом смысле—математической точности, позитивизм чалит ко вчерашнему дню математики, к точности анализа, проходя мимо огромных завоеваний сегодняшнего дня ее, где самое понятие точности взорвано революцией в аритмологии, где точность мыслится уже не в рассудочной коросте однозначных номенклатур, но в свободной фантазийностд 125
волемыслия, не в рациональном ряде условий (отсутствие контрадикторности и т. д.), но в принципах композиционной стилистики, обусловливающей сами эти условия. Выдвижение аритмологии как самостоятельной ветви математики не может не учитываться и попытках математизации знания. Между тем, попытки эти ограничиваются сферою лишь анализа, объемлющего непрерывные функции. Но сам анализ оказыва-' ется частным случаем аритмологии, а математический детерминизм впадает в зависимость от прерывности, что меняет все господствующие представления об объяснении явлений и революционизирует самое понятие точности. Вот что говорит нам об этом крупнейший русский математик: «Кроме анализа, в математике существует аритмология, кроме непрерывных функций—прерывные... Аритмологическое миросозерцание не принуждает нас понимать течение событий только в их роковой и необходимой последовательности... Аритмо-логический взгляд пополняет миросозерцание аналити ческое... Природа не есть только механизм, а организм, в котором действуют с напряжением всех сил самостоятельные и самодеятельные индивидуумы. Рядом с универсализмом индивидуализм имеет полное право на существование. Универсализм и индивидуализм не исключают, а дополняют друг друга... До сих пор полагали, что на каждый научный вопрос должен существовать только один определенный ответ, и не допускали случаев, когда могло быть несколько решений. Между тем, в аритмологии встречаются функции, обратные прерывным. Их можно назвать функциями произвольных величин. Они обладают свойством иметь бесчислен ное множество значений для одного и того же значения независимого переменного»5. Точность, стало быть, отнюдь не котируется однозначностью; нам точнейшая из наук выводит возможность многозначной точности, не умещающейся в рамках анализа, точность которого механистична и безлика. Но, выходя за рамки анализа, мы сталкиваемся с понятием органической точности, берущей явление не в истине однозначного подхода, но в круге всех возможных подходов, в подвижном контрапункте отдельных самостоятельных и самодеятельных—индивидуальных!—голосов, правомерность и точ-
126
ность которых зависит от композиции, от стиля их расположения в круге целого.
Анализ, стало быть, генетически предваряющий синтез, логически предваряется им. С этой точки зрения априорность формы выказывает всю свою логиче-скую сомнительность. Ведь будучи априорной, форма должна быть условием данного; аналитика познания ν Канта утверждает такой ее статус, и в разрезе аналитики Кант, бесспорно, прав. Но стоит лишь раздвинуть грани аналитики и охватить проблему в «началах» ее, как сама форма оказывается данностью с точки зрения первичного единства, и это радикально меняет суть дела. Форма в такой перспективе не определяет данное» и кантовская субординация элементов познания становится координацией их. Субординация, являющая нам содержание как нечто под-лежащее и зависимое, а форму—как нечто над-лежащее и надмевающее, диалектически устраняется, открывая нашему познавательному взору первоположенный «синтез» (кантовский «общий корень»), на фоне которого оппозиция тезиса к антитезиса выглядит в модусе не под-чиненности, а сочиненности; в сущности, форма настолько же опреде ляет материал, насколько определяется им; в одном отношении она—причина, в обратном рассмотре—цель, и, стало быть, причина ее—материал. Легко понять, что такой подход лишает ее всяческой стабильности и незыблемости; подвижность метода вскрывает нам ее не как догмат, а как процесс. Строго говоря, то, что мы называем формой, есть не что иное, как формование6, форма как ставший продукт оказывается лишь иллюзорной эмблемой статизации процесса, ибо подлинно форма жива лишь в метаморфозе, в превращении; вне его она лишь шлак, «сброшенная кожа», если воспользоваться выражением Г. Малера, рассудочная аберрация, уместная в «гербарии», но самозванно имитирующая живой цветок, жест, мимику, жизнь в конвульсиях эксперимента, производимого с помощью электричества.
Вполне понятно, что в рамках такого эксперимента вопрос о жизни становится неуместным. Реальность поглощается формой; досадный остаток (если таковой принимается во внимание) по-разному «интерпретируется» экспериментатором. От этого «остатка» истово 127
отшаркивался Кант, силясь оправдать его то в презумпции· «als ob», то в соблазнительных аналогиях эстети- -^ ки (Кант-эстетик—лукавый и·скуситель Канта-гносео-лога; онтологические возможности кантовской эстети--ки—драматичнейший эпизод в умственной жизни великого мыслителя, эпизод, сулящий ему, наконец, обладание Метафизикой—Брунгильдой!—и закончившийся победой... Миме, нашептывающего эстетику благоразумные предостережения гносеолога о невозможности рациональной онтологии; освобождение Брунгильды осталось, ну конечно же, за Шеллингом, зачатом в греховной связи кантовского «критицизма» с «догматизмом» Плотина). Современные последователи буквы и духа Канта отделываются от этого «остатка» иначе;
наличие его, по их мнению, вызвано несовершенством научного метода, и, стало быть, мнение это—достаточно бодрое и оптимистическое, так как несовершенное сегодня может ведь стать совершенным завтра. Перспектива—скажем прямо—убийственная!
