
- •Шейнов в.П. – Психологическое влияние
- •Глава 1. Сущность, виды, модель и механизмы психологического влияния 5
- •Глава 2. Скрытое управление 28
- •6.5 Фоновые факторы в нлп. Раппорт. Наведение транса 260
- •Глава 2 скрытое управление
- •Скоро месяц, а вопрос все не решается.
- •3. Может быть, нам с вами встретиться по этому вопросу или с тем, кого вы порекомендуете ?
- •Глава 3
- •1.1. Сущность и виды психологического влияния 4
- •1.2. Модель психологического влияния 8
- •Глава 2 скрытое управление 24
- •2.1. Сбор управляющей информации об адресате 24
- •Глава 9 390
- •Глава 15 принуждение 582
- •Большинство из обманутых вкладчиков (68 %) были явными поклонниками оздоровительных сеансов а. М. Кашпировского, причем половина из них чувствовала влияние психотерапевта через экран.
- •Глава 6
- •1.1. Сущность и виды психологического влияния 4
- •1.2. Модель психологического влияния 8
- •Глава 2 скрытое управление 24
- •2.1. Сбор управляющей информации об адресате 24
- •Глава 9 390
- •Глава 15 принуждение 582
- •Вызов переживания.
- •Присоединение якоря к переживанию.
- •Тестирование якоря.
- •Неповторимость (уникальность)
- •Повторяемость
- •Своевременность
- •Фоновые факторы в нлп. Раппорт. Наведение транса
- •Глава 7
- •10 Способов доказательств
- •Не спорьте против несомненных доказательств и верных мыслей оппонента.
- •Глава 9
- •3. Фрейд
- •3. Фрейд
- •Глава 10
- •Глава 11
- •Глава 13 спмопродвижение
- •Глава 14
- •Глава 15 принуждение
- •3. Френд
- •Глава 17
3. Френд
Давление в малой группе — психологическое или иное воздействие, которое оказывается на тех ее членов, которые не подчиняются или игнорируют ее требования.
В ходе развития в малой группе естественно и закономерно формируются и закрепляются нормы, которые представляют собой общие для всех требования, разработанные ее членами и принятые ими в интересах регулирования взаимоотношений. Нормы группы связаны с ценностями, так как любые требования могут приниматься лишь на основе каких-либо социальных предпочтений, складывающихся на базе выработки определенного отношения к социальной действительности. Нормы и ценности группы должны принимать и соблюдать все. Для этого и осуществляется групповое давление.
Можно выделить следующие функции такого давления:
обеспечение достижения групповых целей;
сохранение группы как целого;
разъяснение членам группы тех принципов жизни и деятельности, на которые они должны ориентироваться;
определение членами группы своего отношения к социальному окружению.
Давление — важный механизм поддержания внутренней однородности и целостности малой группы. Значение его в том, что оно служит поддержанию общего постоянства и сплоченности в изменяющихся условиях совместной деятельности. Осуществляется групповое давление в форме санкций, применяемых к тем членам группы, которые не соблюдают общепринятых норм или ведут себя вызывающе, конфликтно по отношению ко всем другим. Санкции обычно бывают двух видов — поощрительные и запретительные.
Возможны четыре варианта поведения человека в группе:
сознательное, свободное принятие норм и ценностей группы;
вынужденное подчинение группе под угрозой санкций;
демонстрация антагонизма по отношению к группе;
свободное, осознанное отвержение групповых норм.
Наиболее распространенным является второй вариант поведения человека по отношению к группе. Феномен вынужденного принятия человеком норм и ценностей группы под угрозой потери членства или устойчивого положения в ней получил название конформизма, и его можно считать одним из важнейших факторов поддержания целостности группы, укрепления единства в ее рядах [154, 57].
Конформизм — разновидность социального воздействия, результатом которого является показное подчинение воле большинства. Термин часто используется в негативном смысле как «бездумное подчинение распространенным взглядам, гра ничащее с косностью». Однако сточки зрения признания и подчинения нормам общественного поведения конформизм может рассматриваться как социально желательное явление.
Считается, что конформизм обусловлен двумя основными причинами:
социальным воздействием — конформизм вызван чувством принадлежности к группе или обществу, а также потребностью в одобрении окружающих;
личностным влиянием — конформизм вызван неуверенностью человека и его желанием поступать «правильно».
Наиболее известные исследования в области конформизма были проведены в 1950-е годы американским социальным психологом С. Ашем. Ситуация, в кото рой большинство оказывает воздействие на взгляды неуверенной в себе личности, получила название «эффект Аша». Аш обнаружил, что, столкнувшись с мнением большинства, отдельные люди выказывают склонность отвергать свидетельства, полученные через собственные органы чувств, и соглашаться с большинством. Дальнейшие исследования показали, что склонность к конформизму резко ослабевает при определенных условиях — например, если к мнению человека присоединяются другие люди, разделяющие мнение меньшинства [154, 116].
Конформизм пристально изучался в социальной психологии, начиная с классических исследований М.Шерифа [507] и С. Аша [219].
Шериф воспользовался «аутокинетическим эффектом» — иллюзией видимого движения неподвижного источника света, наблюдение за которым ведется в абсолютно темной комнате. В классическом варианте эксперимента испытуемые оценивали направление и расстояние, на которое передвигался луч в их восприятии. Для разных людей луч двигался неодинаково: одни утверждали, что он сдвинулся совсем ненамного, другие уверяли, что наблюдали заметное смещение и даже замысловатые узоры, вычерченные лучом. Каждый из участников экспери-
мента построил собственную линейную диаграмму передвижения источника света. Затем несколько испытуемых получили задание в порядке очереди высказать свои суждения относительно нарисованного ими. В контексте группового обсуждения результатов не заставило себя ждать создание новой групповой диаграммы. Те, кто прежде уверял, что луч сдвигался на небольшие расстояния, теперь свидетельствовали о более протяженных перемещениях, и наоборот. В общем и целом, одна только возможность услышать мнения других привела к достижению согласия между «судьями». Возникла групповая норма, под которую оказались подогнаны индивидуальные наблюдения [507].
С. Аш в экспериментальных группах из 4—6 человек предъявлял отрезки разной длины. Участники должны были оценить, какой из них равен по длине предъявленному эталону. Все участники группы, кроме одного (испытуемого), были подставными и дружно давали ответ, ошибочность которого была очевидна испытуемому. Поразительным оказалось то, что большой процент испытуемых отказывался доверять собственным безошибочным впечатлениям и поддался давлению группы, изменив свои показания в пользу «общего» мнения. В среднем 35 % всех ответов оказались конформными по отношению к неверным суждениям, сообщаемым помощниками Аша. 70 % респондентов хотя бы раз в течение серии опытов проявили конформизм. И только 25 % испытуемых постоянно сохраняли независимость суждений вопреки групповому давлению [219].
В эксперименте Ф. Зимбардо студенток-испытуемых попросили прийти в лабораторию вместе с близкими подругами. Каждую пару подруг познакомили с результатами исследований подростковой преступности и затем попросили их поодиночке высказать свое мнение об услышанном и собственных рекомендациях. Каждой из них сообщили, что мнение подруги отличается от ее собственного. Зимбардо обнаружил, что после этого мнения испытуемых кардинально менялись в направлении «мнения» подруг [552].
Стенли Милграм задался вопросом: способна ли вербальная конформность трансформироваться в действие — может ли группа одним только своим мнением заставить человека совершить действия, которые он не совершил бы при отсутствии группового давления?
В базовой экспериментальной ситуации команда из трех человек (двое из них — подставные испытуемые) проверяет четвертого человека по тесту парных ассоциаций. Всякий раз, когда четвертый участник дает неверный ответ, команда наказывает его ударом тока. Подставные испытуемые каждый раз предлагают применить более сильный удар. Экспериментатор наблюдает за тем, в какой мере третий член команды (наивный испытуемый) уступает или противостоит давлению группы.
Основной результат данного исследования состоит в демонстрации того факта, что группа способна формировать поведение индивидуума в области, которая, как думалось, крайне устойчива к подобным влияниям. Идя на поводу у группы, испытуемый причиняет боль другому человеку, наказывая его ударами тока, интенсивность которых намного превосходит интенсивность ударов, примененных при отсутствии социального давления.
Акт причинения вреда человеку для большинства людей имеет важное психологическое значение, ибо тесно связан с вопросами совести и морали. Экспериментаторы предполагали, что протесты жертвы и существующие в человеке внутренние запреты на причинение боли станут фак торам! i, эффективно противостоящими тенденции подчинения групповому давлению. Однако, несмотря на широкий диапазон индивидуальных различий в поведении испытуемых, можно сказать, что значительное число испытуемых с готовностью подчинились давлению подставных испытуемых [437; 438].
Было установлено, в частности, что конформизм в большей степени присущ менее образованным испытуемым.
Сила группового давления
Аш проводил эксперименты с незнакомыми студентами, встретившимися лишь в процессе короткого эксперимента. Можно представить, насколько более мощным будет групповое давление в сплоченной группе, где высоко ценится хорошее отношение ее членов и действуют групповые нормы. И насколько же усилится давление в религиозной секте, когда ее членов систематически обучают подавлять свою индивидуальность в угоду адептам секты!
Несогласие с другими, девиантное поведение неминуемо приводят к столь нежелательной холодности окружающих. Исследователь Стэнли Шехтер [497] набирал группы из студентов колледжа для совместного обсуждения того, насколько строго нужно наказать юного правонарушителя. Типичную группу составляли девять человек, трое из которых были помощниками исследователя, проинструктированными относительно ролей, которые им приходилось играть. Один «подсадной» играл роль конформиста и должен был разделить мнение шестерых настоящих студентов (вне зависимости от самого мнения). Второй был «диссидентом», занимал позицию, диаметрально противоположную мнению большинства, и должен был отстаивать ее на протяжении всего эксперимента. Третий сообщник исследователя был «перебежчиком», которому предстояло сначала спорить с группой, но под конец сдаться и «позволить» большинству себя переубедить.
Группа за группой демонстрировали одинаковый набор реакций. Входе обсуждения начинали все чаще адресовать свои реплики «диссиденту», гораздо чаще, чем «конформисту». Поначалу эти комментарии были вполне дружелюбными, однако чем больше упорствовал «диссидент», тем более раздраженными становились его противники. Некоторые группы в какой-то момент сдавались и предпочитали объявить «диссиденту» бойкот.
После окончания дискуссий студентам предлагалось оценить друг друга, в том числе «подсадных» участников эксперимента. Как показали результаты, меньше всего симпатий вызвал «диссидент», больше всего — последовательно соглашающийся с большинством. Подбирая по заданию ведущего кандидатов в члены комиссий для рассмотрения подобного рода инцидентов, студенты практически ни разу не включили «диссидента» в наиболее значимые для них самих списки. Границы групп перестраивались так, чтобы исключить «диссидента» отовсюду и максимально изолировать. Бедняга превратился во «врага народа» только лишь потому, что последовательно придерживался другого мнения. Ни «перебежчика», ни «конформиста» подобная дискриминация не коснулась. Как позднее выразился Шехтер в одном из интервью, наказание для человека, «единственным грехом которого было несогласие с большинством», оказалось Несоразмерно жестоким [63,70].
Давление подтекстом
В школе, в группе продленного дня, мальчики 4-го класса решили покурить. Для этого они постарались выбрать наиболее укромное место за зданием школы. Сидят, курят... За этим делом и застала их учительница. Она, решив, что кричать ц ругать
бесполезно, начала популярно рассказывать о вреде курения. Мальчики согласно кивали головами и дали слово, что больше такого не будет. Однако на следующий день их «застукали» за старым занятием. Об этом было доложено директору, который дал указание учителям провести урок о вреде курения, что и было сделано во всех классах начальной школы. Но вот беда, мальчикам 1-го класса, у которых и мыслей не было о курении, после прослушанной лекции срочно захотелось попробовать покурить. Чтобы осуществить свою затею, они просят ребят постарше помочь им купить сигарет и спички. За полпачки сигарет в обмен на эту услугу те согласились. Сделка была совершена, и вот первоклассники уже курят.
Почему учителя оказались неубедительными? Их объяснения содержали подтекст — старшие курят. Потребность в самореализации удовлетворяется ребенком посредством копирования более старших. К тому же статус и мнение последних значат для детей больше, чем мнение учителей. Поэтому и их пример является более убедительным, нежели лекторское слово, возбудившее к тому же интерес к предмету, который их до того не занимал.
На эту тему проведены обстоятельные исследования. Поводом к ним явились следующие обстоятельства.
Во многих американских школах введены программы по сопротивлению вредным привычкам. В ходе проведения этих мероприятий школьников учат противостоять влиянию сверстников, когда те искушают их попробовать закурить или провоцируют развитие вредных для здоровья привычек. Когда преподаватели пытаются привить школьникам навыки сопротивления, то часто проводят тренинги типа «просто скажи “нет”». На этих тренингах школьникам дают практические советы, как уклоняться от негативного влияния одноклассников.
Эти программы по навыкам сопротивления привели к совершенно неожиданному результату: несмотря на то что сами школьники стали считать себя более стойкими к влиянию сверстников, участники программ чаще приобретают нездоровые привычки!
Как так могло получиться? Исследования, проведенные в школах Лос-Андже- леса и округа Сан-Диего, дали ответ на этот вопрос. В этой работе исследовалось воздействие программ средней школы, направленных на снижение употребления алкоголя среди подростков. После того как школьники приняли участие в многочисленных пародиях и упражнениях типа «просто скажи “нет”», которые должны были укрепить их сопротивляемость давлению сверстников, побуждающих выпить спиртное, они стали верить в то, что выпивка больше распространена среди их сверстников, чем они думали раньше.
Когда школьникам прививают навыки сопротивления, используя метод «просто скажи “нет”», то программа непроизвольно сообщает и другое послание: «Многие ваши сверстники так поступают и хотят, чтобы и вы гак поступали». Таким образом, хотя эти ребята учатся все лучше сопротивляться давлению сверстников, у них меньше мотивации так поступать, потому что они начинают воспринимать выпивку среди сверстников как норму.
Такую обратную реакцию дают не только программы по борьбе со злоупотреблением алкоголем среди подростков. После того как студентки колледжа приняли участие в программе.Стэндфордского университета по борьбе с расстройствами питания, то впоследствии расстройств питания у девушек стало еще больше. Почему? В программу входили свидетельства одноклассников об их собственных расстройствах, и поэтому такое поведение казалось участницам вполне обычным.
Точно так же по результатам программы по предотвращению самоубийств, проводившейся для тинэйджеров в Нью-Джерси, сообщалось о тревожно высоком числе самоубийств среди тинэйджеров. В результате участники программ увидели в самоубийстве еще одну возможность решить свои проблемы.
В целом кажется понятной, но неправильной тенденция программ по охране здоровья, когда работники образования привлекают внимание к проблеме, изображая ее как распространенную и опасную. Ведь в послании «Взгляни на людей, таких же, как ты, кто совершает такие вредные для здоровья поступки» содержится мощный провоцирующий подтекст: «Посмотри на всех людей, таких же, как ты, которые это делают» [175, 247—248].
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНФОРМНОСТЬ
Конформизм — это соревнование в неотличимости.
А. Круглов
В ситуациях, смоделированных в исследовании Аша, одним из решающих факторов, определяющим вероятность того, что мнение испытуемого окажется конформным к мнению большинства, было единодушие этого большинства.
Наличие поддержки
Если к испытуемому присоединяется хотя бы один «союзник», давший правильный ответ, то тенденция подчиниться ошибочному суждению большинства резко падает [220; 445; 246]. Фактически, даже если единодушие разрушено несо- юзником, власть группы все равно серьезно ослабевает [199]. Иначе говоря, если один из членов группы тоже дает неправильный ответ, который, однако, отличается от ошибочного ответа большинства, то присугствие еще одного «диссидента» серьезно уменьшает давление, вызывающее конформное поведение, и испытуемый, весьма вероятно, даст правильный ответ.
Таким образом, существование еще одного инакомыслящего вызывает мощный эффект освобождения человека от влияния большинства. Однако если единодушие все-таки имеет место, то для достижения максимальной конформности испытуемого уже не столь существенно, насколько велико будет это большинство. Оказывается, что склонность индивида к конформности под влиянием группового давления остается примерно одинаковой и мало зависит от того, состоит ли это единодушное большинство всего из трех членов группы или из шестнадцати.
Приватность высказывания
Конформизм уменьшится, если на сей раз не настаивать на том, чтобы испытуемые высказывались в присутствии «подставных» членов группы.
В нескольких экспериментах, результаты которых согласуются друг с другом (несмотря на то, что ни в одном эксперименте гарантия полной тайны суждения не была достигнута), прослеживается тенденция: чем выше степень приватности высказывания, тем меньше конформность. Этот результат устойчиво повторялся вне зависимости от того, судили ли испытуемые о длине отрезков [290], о числе ударов метронома [446] или об эстетической ценности произведения современного искусства[208].
Таким образом, оказывается, что давление, направленное на то, чтобы подчинить человека суждениям других людей, мало (если вообще) влияет на суждения испытуемых, высказанные конфиденциально.
Влияние первоначального суждения
Еще один способ уменьшить конформность по отношению к групповому давлению — это подтолкнуть индивида к тому, чтобы он каким-то образом закрепил верность своему первоначальному суждению.
Подобное сравнение было проведено в эксперименте Дойча и Джерарда [290]. Они использовали парадигму Аша и обнаружили, что в случае, когда испытуемые ничем не связывали себя, — также, как у Аша, — конформность по отношению к ошибочному суждению большинства проявили 24,7%. Когда же индивиды публично высказали свое суждение перед тем, как услышали суждения других «судей», и тем самым были вынуждены сохранять верность первоначальному высказыванию, доля «конформистов» снизилась до 5,7 %.
Тип личности человека
Потребность социального одобрения — источник конформизма. То есть индивиды, чьи тесты показывают сильную потребность в одобрении, чаще соглашаются с группой.
Индивиды с заниженной самооценкой больше подвержены групповому давлению, нежели индивиды, обладающие высокой самооценкой. Более того, на самооценку индивида, выполняющего какое-либо задание, в конкретной ситуации можно оказывать влияние. Так, испытуемые, которые уже добились успеха в выполнении похожего задания (например, они правильно определили длину отрезка), продемонстрируют куда менее конформное поведение, чем те испытуемые, которые введены в эксперимент без предварительной подготовки. Таким образом, если люди убеждены, что они совсем (или отчасти) не способны выполнить поставленную перед ними задачу, их склонность к конформному поведению увеличивается [428; 348; 542]. Кроме того, можно говорить и о культурных различиях: установлено, что норвежцы ведут себя более конформно, чем французы, а японские студенты в большей степени готовы оказаться в положении меньшинства, чем американские [436; 333].
Женский и мужской конформизм
Исследования, проведенные ранее, показали, что нельзя, по-видимому, сбрасывать со счетов и половые различия: так, женщины, сталкиваясь лицом к лицу с единодушным суждением группы, ведут себя более конформно, чем мужчины [421]. Однако эти различия оказались невелики. Кроме того, в других исследованиях, проведенных с большей тщательностью, обнаружилось, что женщины вели себя конформнее мужчин лишь в тех случаях, когда экспериментатором был мужчина либо поставленное перед группой задание было изначально ориентировано на мужчин [310; 384; 328]. Мужчины же проявляют большую конформность, если объект спора более понятен и интересен женщинам. Сопротивление конформизму (нонконформизм) мужчины и женщины производят, защищая разные стороны своей Я-концепции. Исследователи полагают, что мужской нонконформизм более высокого уровня: образ мужской независимости включается в идентичность большинства мужчин [307]. В то же время женщины чаще основывают свою самооценку на факторах, присоединяющих их к членам своих групп.
Состав группы
Не менее важен и состав самой группы, оказывающей давление на индивида. Привлекательность группы или кого-то из входящих в нее увеличивает конформность членов группы. Наиболее эффективно навязывание конформного поведения достигается в случае, когда группа состоит из экспертов, когда члены группы по отдельности или сообща по тем или иным причинам значимы для индивида или когда члены группы, опять же по отдельности или сообща, по каким-то параметрам «сравнимы» с индивидом (иначе говоря, принадлежат к одной среде).
Существует, однако, по крайней мере, одно исключение из феномена сравнимости. Исследования показали, что в случае, когда единодушное большинство состоит из белых детей, оно способно навязать большую конформность другим детям — как белым, так и черным [501]. Очевидно, в детской среде белые считаются людьми, обладающими большей властью, чем черные [200]. И, следовательно, власть белых, признаваемая нашей культурой, достаточна для того, чтобы преодолеть тенденцию, когда люди более подвержены влиянию «сравнимых» с ними членов общества.
Можно предположить, что если бы участник считал, что остальные относятся к нему с симпатией, то он с большей вероятностью высказал бы несогласие с ними, чем в том случае, когда в компании он чувствовал бы себя неуверенно. Последнее предположение получило убедительное подтверждение в эксперименте Джеймса Диттса и Харольда Келли [298], заключавшемся в том, что студенты колледжа были приглашены присоединиться к привлекательной и престижной группе, а позже они были проинформированы о том, насколько прочными стали в ней их позиции.
Конкретно эксперимент состоял в следующем. Всех его участников предупредили о том, что на протяжении всего исследования в целях повышения эффективности группы как целого каждый ее член по своему усмотрению может исключить из группы любого из участников. После этого группа приступила к обсуждению проблем подростковой преступности. Дискуссия время от времени прерывалась, и каждому предлагалось определить ценность для группы всех остальных; после завершения дискуссии ее участников ознакомили с оценками, выставленными им другими членами группы. На самом же деле всем раздали предварительно подготовленные ложные отзывы. С их помощью одних испытуемых убедили в том, что группа хорошо их приняла, других же — в том, что они не смогли завоевать в ней особой популярности. Степень конформности каждого члена группы определялась содержанием его высказываний в процессе обсуждения проблемы подростковой преступности, а также его уязвимостью по отношению к групповому давлению во время выполнения простого задания на восприятие.
Результаты показали, что среди индивидов, для которых членство в группе представляло определенную ценность, более конформными к ее нормам и стандартам оказались те, кого убедили, что в группе им был оказан весьма средний прием, и менее
конформными — те, которые считали, что были приняты в ней «по первому классу». Иными словами, отклоняться от норм, принятых в группе, гораздо легче удается тому, кто чувствует себя в ней уверенно и комфортно.
Индивид как источник влияния
В случае, когда вместо группы источником влияния на человека выступает другой индивид, то факторы, связанные с конформностью, остаются теми же. То есть мы с большей вероятностью будем вести себя конформно по отношению к поведению или мнению индивида, если он похож на нас (или важен нам), или же представляется нам специалистом в какой-либо области, или же он является человеком, который наделен властью в данной ситуации.
К примеру, установлено, что люди в большей степени готовы исполнить требование, высказанное человеком, одетым в форму, нежели человеком, одетым в штатское, даже когда дело касается совершенно тривиальных указаний. В одном исследовании [254] пешеходов просили помочь мелочью (кто сколько может) водителю, у которого истекло время парковки автомобиля. На самом деле обращавшаяся с этой просьбой женщина была одним из экспериментаторов: в том случае, когда она была одета в форму полицейского, следящего за парковкой, испытуемые выполняли ее просьбу гораздо охотнее, чем тогда, когда на женщине была повседневная мятая одежда либо деловой костюм. Таким образом, всего лишь внешнее проявление власти, надежным символом которой служит форма, способно придать просьбе оттенок «легитимности» и в конечном итоге вызвать у тех, к кому она обращена, более высокую степень уступчивости [6, 46—49].
МОДЕЛЬ ПРИНУЖДЕНИЯ
Чего не понимаете, тем не владеете.
В. Гстс
Приведенные результаты позволяют составить модель влияния в случае принуждения:
Мишень воздействия — инстинкт подчинения адресата, присущий в определенной мере каждому индивиду, конформизм адресата.
Вовлечение — возможность адресату избежать наказания со стороны инициатора и (или) неодобрения группы.
Фоновые факторы — все, что способствует послушанию: власть, статус инициатора, его присутствие (а тем более — близкое расположение).
Побуждение — явное или неявное давление инициатора или группы, понуждающее исполнить что-либо.
(лово 1 6 НАПАДЕНИЕ
Столкновение интересов между людьми разрешается путем применения насилия, и это всеобщий принцип.
ФреГщ
ПЕРВИЧНОСТЬ АГРЕССИИ
Довольствуйся простым, как тварь морей, Глотай других, слабейших, и жирей. Успешно отъедайся, благоденствуй И постепенно вид свой совершенствуй.
В. Гете
Агрессия (от лат. aggressio — нападение) — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т.п.) [26, 19].
Насилие в нашей жизни
Насилие издавна сопровождает отношения индивидов, группировок, народов и наций, часто оказываясь средством поддержания порядка внутри организаций и государств. История человечества пестрит бесчисленными примерами индивидуальной и групповой борьбы за власть с применением силы. Феномен насилия не только преследует людей всех эпох, но и вдохновляет их. Даже такие тонко чувствующие писатели, как Бернард Шоу и Жан-Поль Сартр, вместе со многими другими западными интеллектуалами восхищались мощью Сталина. Многие и сегодня боготворят тиранов.
Почти во всех религиях божественной личности первоначально приписывается жестокость, а ее проявления тесно связываются в сознании верующего со страхом. Более того, проповедуется принцип «око за око»: «...все взявшие меч, мечом погибнут» (Евангелие от Матфея, 26:52). Насилию не нашлось места в списке семи смертных грехов.
Нередко насилие прославлялось. Примером тому могуг служить хотя бы упоительные описания кровавых битв, начиная с Гомера. Герои вступают в единоборство, заканчивающееся для многих участников сражения смертью.
В современных фильмах, снискавших себе множество фанатичных поклонников, особенно среди молодежи, постоянно реалистично изображаются убийства,
разбой и разрушения. На наших телеэкранах проламывают черепа, убивают, расчленяют, калечат, взрывают. Насилие является составной частью таких видов спорта, как бокс, борьба, футбол, регби и др.
Однако насилие проявляет не только человек. Это один из общих принципов природы: ешь других или будешь съеденным.
Итак, насилие — естественная склонность, являющаяся составной и неотъемлемой частью человеческого существа.
Насилие сопровождает нас повсюду. Однако существует физическое, телесное насилие, заключающееся в издевательстве, надругательстве над другим человеком, причинение ему боли, и насилие психологическое, психическое, которое столь же отвратительно. Оно встречается чаще, чем прямая жестокость, хотя и не имеет той огласки, которую имеет физическое насилие. Эгоизм, зависть, ревность, желание самоутвердиться или достичь корыстных целей и другие обстоятельства толкают людей на применение силы, позволяющей им добиваться своего.
Психологическими средствами можно измучить человека, будь то ребенок или взрослый, не меньше, чем физическим насилием. Человеческие отношения содержат более или менее выраженную борьбу за власть, вне зависимости от того, работа это или семья. Поэтому в той или иной степени психологическое насилие проявляется повсюду.
С психологической точки зрения, насилие — сила как таковая, близка к архе- типической тени. Она стремится к уничтожению как способу разрешения конфликта даже в том случае, когда стоит на службе у добра [51, 66—69].
Вот что пишет по этому поводу создатель этологии (науки.о поведении животных) лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц:
«Многим событиям истории человечества нельзя дать логическое объяснение. “Разумная” человеческая натура заставляет две нации бороться друге другом, даже когда их не вынуждает к этому никакая экономическая причина. Она подталкивает к ожесточенной борьбе политические партии или религии, несмотря на поразительное сходство их программ всеобщего благоденствия. Она подвигла Александра Македонского, Тамерлана и Наполеона пожертвовать миллионами своих подданных ради попытки подчинить себе многие народы. В школе мы учимся относиться к людям, совершавшим все эти насилия, с уважением; даже почитать их как великих мужей.
Невозможно уйти от вопроса: как же получается, что предположительно разумные существа могут вести себя столь неразумно?
Все эти поразительные противоречия находят естественное объяснение и полностью поддаются классификации, если заставить себя осознать, что социальное поведение людей диктуется отнюдь не только разумом и культурной традицией, но по-прежнему подчиняется еще и тем закономерностям, которые присущи любому филогенетически возникшему поведению; а эти закономерности мы достаточно хорошо узнали, изучая поведение животных.
Знание того, что агрессия является подлинным инстинктом — первичным, направленным на сохранение вида, — позволяет нам понять, насколько она опасна. Главная опасность инстинкта состоит в его спонтанности. Если бы он был лишь реакцией на определенные внешние условия, что предполагают многие социологи и психологи, то положение человечества было бы не так опасно, как в действительности. Тогда можно было бы основательно изучить и исключить факторы, порождающие эту реакцию. Фрейд впервые распознал самостоятельное значение агрессии; он же показал, что недостаточность социальных контактов и особенно их исчезновение (“потеря любви ”) относятся к числу сильных факторов, благоприятствующих агрессии» [96, 56—57].
Виды агрессии по Э. Фромму
Механизм оборонительной агрессии «вмонтирован» в мозг человека и животного и призван охранять их жизненно важные интересы от угрозы.
Необходимо отличать агрессию биологически адаптивную, способствующую поддержанию жизни, доброкачественную от злокачественной агрессии, не связанной с сохранением жизни.
Человеческая психология оказалась значительно более деструктивной (по сравнению с животными) в связи с тем, что человек не только сам создал себе условия жизни, способствующие агрессивности (перенаселение и т.д.), но и сделал эти условия не исключением, а нормой жизни.
В отличие от животных индивиды и целые группы могут иметь такие черты характера, вследствие которых они с нетерпением ждут ситуации, позволяющей им разрядить свою деструктивную энергию. И если таковой не наступает, они подчас искусственно создают ее.
В основе злокачественной агрессии не инстинкт, а некий человеческий потенциал, уходящий корнями в условия существования человека.
Обобщая, можно сказать, что в живом мире только человек бывает деструктивным независимо от наличия угрозы самосохранения и вне связи с удовлетворением потребностей.
Под псевдоагрессией Фромм понимал действия, в результате которых может быть нанесен ущерб, но которому не предшествуют злые намерения.
Важнейший вид псевдоагрессии можно в какой-то мере приравнять к самоутверждению.
Концепция агрессии как самоутверждения находит подтверждение в наблюдении за связью между воздействием мужских гормонов и агрессивным поведением. Эксперименты с шимпанзе Г. Кларка и X. Берда в 1946 г. показали, что мужской гормон повышает уровень агрессии, а женский — снижает.
Агрессия, направленная на достижение цели, не ограничивается сферой сексуального поведения [169, 243—253].
Серьезным источником оборонительной агрессии является реакция человека на попытку лишить его иллюзий; это бывает, когда кто-то пытается «вытащить на свет божий» вытесненные влечения и фантазии.
Другой вид биологического приспособления составляет инструментальная агрессия, которая преследует определенную цель: обеспечить (достать) то, что необходимо или желательно.
Биологически адаптивная агрессия служит делу жизни.
Однако только человек подвержен влечению мучить и убивать, и при этом испытывать удовольствие.
Деструктивность возникает как возможная реакция на психические потребности, которые глубоко укоренились в человеческой жизни, результат взаимодействия различных социальных условий и экзистенциональных потребностей человека [169, 269, 272].
ПОБУЖДАЮЩИЕ ФАКТОРЫ АГРЕССИИ
Не все люди есть в зверях, но все звери есть в людях.
Китайская мудрость
Главной целью исследований в области агрессии являются поиски причин и наиболее эффективных средств ее контроля.
Направления поисков
а) Выявление ряда индивидуально-личностных параметров, содействующих осознанию роли и места самого субъекта агрессии.
В частности, используя основные парадигмы теории социального научения, американские социологи и социальные психологи К. Джеклин, Р. Джин, Э. Мак- коби, Дж. Уайт и др. сконцентрировали свое внимание на различии половых характеристик субъекта и ответе на вопрос о том, влияют ли они на характер враждебного поведения.
б) Стремление раскрыть природу действия внешних факторов, оказывающих весьма существенное влияние на проявления агрессивности. Речь в данном случае идет о негативных факторах окружающей человека среды, таких как влияние шума, загрязнения воды и воздуха, температурных колебаний, большого скопления людей, посягательств наличное пространство и т.д. (Р. Бэрон, Д. Зилманн, К. Лоо, Дж. Карлсмит, Ч. Мюллер, Дж. Фридмен, X. Холдин и др.). Сюда же относится выяснение роли таких факторов, как алкоголь и наркотики, безудержный рост употребления которых отмечается сегодня во всех странах мира (работы
А. Арменти, Р. Боятжиза, X. Кэппела, Дж. Карпентера, Д. Капассо, К. Леонарда и
С. Тейлора).
Становление агрессивности
Становление агрессивного поведения — сложный и многогранный процесс, в котором действует множество факторов. Агрессивное поведение определяется влиянием семьи, сверстников, а также СМИ.
Дети учатся агрессивному поведению посредством наблюдения агрессивных действий, в том числе и относительно самих себя. На становление их агрессивного поведения влияют стиль семейного руководства, степень сплоченности семьи, близости между родителями и ребенком, характер взаимоотношений между братьями и сестрами. Дети, у которых в семье сильный разлад, чьи родители отчуждены и холодны, сравнительно более склонны к агрессивному поведению. Из реакции родителей на агрессивные взаимоотношения между детьми ребенок также извлекает урок о том, что ему может «сойти с рук». П ытаясь пресечь негативные отношения между детьми, родители могут ненамеренно поощрять то самое поведение, от которого хотят избавиться. Родители, применяющие крайне суровые наказания, как и не контролирующие занятия своих детей, рискуют обнаружить, что те агрессивны и непослушны. Хотя наказания часто неэффективны, при грамотном их применении они оказывают сильное позитивное влияние на ребенка.
У детей один из главных путей научения агрессивному поведению — наблюдение за чужой агрессией. Дети, которые встречаются с насилием у себя
дома и которые сами становятся жертвами насилия, склонны к агрессивному поведению.
Дети также учатся вести себя агрессивно, наблюдая за поведением других детей. Однако те, кто чрезвычайно агрессивен, скорее всего окажутся отверженными большинством в своей группе. С другой стороны, эти агрессивные дети найдут друзей среди других агрессивных сверстников. Это создает дополнительные проблемы, так как в агрессивной компании происходит взаимное усиление агрессивности ее членов.
Установлено, что поведение в детстве позволяет довольно надежно предсказывать поведение в зрелые годы. Человек, в детстве оценивавшийся сверстниками как агрессивный, став взрослым, скорее всего, будет оцениваться так же. Отсюда следует, что изучение ранних влияний на становление агрессивности является важной областью исследований [32, 123—124].
Один из самых спорных источников обучения агрессии — средства массовой информации. После многолетних исследований с использованием самых разнообразных методов и приемов все еще не выяснена сила и степень влияния СМИ на агрессивное поведение, хотя наличие такого влияния — вне сомнений. Представляется, что масс-медиа все же оказывает какое-то влияние. Однако сила его остается неизвестной.
Мужская и женская агрессивность
Блияние половых гормонов
До недавнего времени традиционным было мнение о том, что представители сильного пола более агрессивны, нежели женщины, а также и то, что мужчины значительно чаще выступают в роли непосредственных объектов нападения. Это объяснялось главным образом ссылками на физиологические особенности, прежде всего на высокий уровень концентрации в мужском организме ряда гормонов.
Большую роль в обосновании этой тонки зрения сыграли многочисленные опыты, проводившиеся на животных еще в конце 40-х годов минувшего столетия. Их основной целью было установить связь между мужскими половыми гормонами и агрессией. Один из классических экспериментов в этой области .был в свое время описан Э. Бименом. Когда взрослые самцы серых мышей были кастрированы, то уже через некоторое время после операции они не включались так активно во внутривидовую борьбу, как это было до операции, и вели себя абсолютно миролюбиво. Если же им вводили мужской гормон, они начинали драться до тех пор, пока его действие не прекращалось.
Подобные эксперименты позволили Бимену и ряду его коллег сделать вывод о том, что мужские гормоны являются побудителями агрессивного поведения, хотя их не следует рассматривать как условие, без которого это поведение не может иметь места [344, 215].
К таким же выводам пришли Г. Кларк и Г. Берд, которые провели в 1946 г. опыты с шимпанзе. Ими же было установлено, что женский гормон понижает уровень агрессивности [275, 320—331].
Однако в том случае, когда речь заходит о человеке, становится явно недостаточно объяснений исключительно с позиций биологических факторов.
Установлено, что половые гормоны, и особенно тестостерон, в какой-то степени действительно «замешаны» в преступлениях, связанных с применением насилия.
Однако специальные исследования показали, что степень их влияния довольно ограничена.
В свое время возможность существования связи между половыми хромосомами и агрессивным поведением была предметом бурных дискуссий. Однако обзор литературы показывает, что если такая связь и существует, то она весьма слаба. Гораздо вероятнее, что любая ассоциация между половыми хромосомами и агрессивным поведением при ближайшем рассмотрении может оказаться следствием недостаточного интеллектуального развития, которые нередко сопутствуют аномалиям половых хромосом [32, 254—255].
Гендерные различия агрессивности
Но является ли агрессивность не общечеловеческой, а мужской чертой, следствием патриархата? Быть может, мужчины склонны к насилию, а женщины проявляют кротость? Сейчас подобное можно услышать на каждом шагу. Полагают, что, преодолев патриархат и получив места в правительстве, женщины избавят мир от войн и жестокости вообще. Так ли это? Отнюдь нет.
Оказалось, что сегодня женщины, пробившиеся на вершину властного Олимпа, демонстрируют ничуть не меньшую, а подчас и большую агрессивность. Маргарет Тэтчер объявила войну Аргентине в споре за Фолклендские острова и была ярой противницей ядерногоразоружения. «Железного» госсекретаря США Мадлен Олбрайт сменила еще более агрессивная Кондолиза Райс. Не унимаясь, злобствует по адресу России президентша Латвии. Наполовину русская Юлия Тимошенко многое сделала для ухудшения отношений Украины с Россией. Канцлер Германии Ангелина Меркель превосходит в жесткости своих предшественников, канцлеров-мужчин. Из российских политиков- женщин достаточно вспомнить Валерию Новодворскую, Елену Боннер, Светлану Горячеву. Так что агрессии современным женщинам вполне хватает.
Природа распорядилась так, что мужчины оказались физически сильнее, чем женщины. Этим и объясняется склонность мужчин решать проблемы путем применения физической силы. В этом смысле власть мужчины и поныне закреплена физическим превосходством. До недавнего времени в большинстве европейских стран даже не существовало закона, ограждающего женщину, например, от избиений мужа. Однако сейчас физическое насилие нередко уступает насилию психологическому. А в этой области и женщины, и мужчины могут изрядно отравить жизнь друг другу.
Однако вышесказанное о сексуальном насилии не означает, что женщины терпимее мужчин. Бог отказал женщине в физической силе, ограничил возможности ее сексуальной агрессии, поэтому женщина в совершенстве овладела искусством психологического насилия, опередив в этом мужчину. Снижение роли физической силы в современном мире пропорционально успеху, которого добиваются женщины в борьбе полов.
Мужчин, оскорбленных и униженных женщинами — женами, возлюбленными, дочерьми и даже матерями, — гораздо больше, чем женщин, подвергшихся физическому насилию со стороны мужчин. Там, где физическая сила продолжает играть значительную роль, в частности в среде рабочего класса, мужчины почти не испытывают страха перед жен- ищнами, скорее наоборот. Чем меньше ценится в определенной среде физическая сила, тем значительнее роль женщины и тем больше страх мужчины. Так, мужчины из высшего и среднего класса часто находятся «под каблуком» у своих жен. Путем осмеяния и сокрушенного вздоха в ответственный момент можно добиться куда больше, чем битьем.
Многие женщины не уступают мужчинам по степени физического насилия. Да и богини часто предстают не менее жестокими, чем боги; они и другие мифологические образы, имеющие важное архетипическое и символическое значение, очень далеки от представления о женской кротости. Вспомним жестоких и воинственных амазонок; медузу Горгону, один взгляд которой сулил смерть; Кали, хозяйку царства мертвых, лакомящуюся человеческой кровью из чаши-черепа, которой приносили в жертву тысячи людей; египетскую богиню Та-Урт, львицу, крокодила и женщину в одном лице, жестокую и безжалостную; богиню войны Хатор; кельтскую богиню Мориган, которую представляли в образе вороны, пожирающей трупы, и т.д.
Таким образом, насилие не является прерогативой исключительно мужчин или женщин. По половому признаку можно подразделять лишь типы насилия [51, 75-76].
Исследования показали, что если сравнивать мужчин и женщин, то первые демонстрируют более высокие уровни прямой, а последние — непрямой, т.е. не выраженной в физических действиях агрессии. Кроме того, мужчины чаще, чем женщины, выступают в качестве объекта физического нападения, в то время как женщины чаще становятся жертвами сексуальных домогательств и грубости в супружеских отношениях [32, 226].
Сегодня накоплено достаточное количество документальных подтверждений, свидетельствующих о случаях, когда женщины ведут себя так же или даже более агрессивно, чем мужчины. Имеет место подъем женской преступности. Как свидетельствует американский Институт по проблемам молодежи, по числу мошенничеств, магазинных краж, драк и потребления наркотиков, девушки в возрасте от 13 до 19 лет вполне сравнялись с юношами. При этом женщины разделяют с мужчинами способность к овладению всеми видами причинения вреда, и существуют женщины, которые так же агрессивны, как и мужчины. Не случайно поэтому в психологии и социологии все чаще звучит мысль о существовании целого ряда исключений, не соответствующих традиционно сложившемуся стандарту о большей агрессивности мужчин по сравнению с женщинами.
Все это приводит ряд специалистов к мысли о необходимости признать «минимальным биологический вклад по сравнению со значением ситуационных и социализирующих факторов» [539, 5].
Достаточно хорошо изученным оказался вопрос о том, какое влияние на человеческое поведение может оказывать порнография. Многочисленные исследования показали, что порноматериалы, изображающие женщину в качестве объекта насилия, в отличие от обычной, «ненасильственной» порнографии, оказывают более сильное «подбадривающее» воздействие и во многих случаях подталкивают мужчин к сексуальной агрессии. (Сказывается фактор подражания.)
Роль У-хромосомы
Другим основанием для широкого распространения идеи о решающей роли биологических факторов явились открытия природы Y-хромосомы.
Было, в частности, установлено, что у значительной части полных мужчин, совершающих преступления, отмечается наличие лишней хромосомы Y. Обычно у людей их 46. Они содержат основной генетический материал. Две из них определяют пол индивида. У мужчин пара хромосом состоит из одной X- и одной Y-хромосо-
мы — XY, у женщин — это хромосомы XX. Однако в процессе клеточного деления могут произойти отклонения от нормы. Одним из таких важнейших, с точки зрения изучения агрессии, отклонений может быть появление лиц мужского пола, имеющих одну X- и две Y-хромосомы (XYY).
Открытие зависимости между такой аномалией (XYY) и преступными наклонностями связано с именем англичанки П. Джекобе, которая пришла к этому выводу в результате обследования одной из тюрем Шотландии в 1965 г. У людей, не совершавших уголовных преступлений, заявила она, комбинация XYY встречается гораздо реже, чем у преступников.
Вместе с тем многие исследователи заявили о том, что сама идея о зависимости преступных наклонностей от структуры хромосом является не чем иным, как возвратом к теории Ч. Ломброзо, утверждавшего, что люди с определенными особенностями в строении черепа более склонны к совершению насильственных актов. Более того, уже в 70-е годы прошлого века был проведен ряд аналогичных исследований в Англии, Франции, Дании, США и других странах, инициаторы которых так и не получили данных, подтвердивших бы выводы Патриции Джекобе [173, 130].
Например, Эрнст Хук и другие обнаружили комбинацию XYY у тех, кто принадлежал к вполне уважаемым категориям граждан — врачей, управляющих, учителей и т.д., никогда не совершавших преступлений и не отличавшихся высокой степенью агрессивности [372].
В настоящее время невозможно утверждать то, что XYY-комплект определенно или неизбежно связан с поведенческими отклонениями. Более того, несмотря на широкую рекламу этих идей, индивиды с XYY-аномалией не обнаруживают большей агрессивности по сравнению с обычными преступниками с нормальной хромосомной конституцией. В этом отношении надо иметь в виду, что преждевременные и необоснованные спекуляции могут неоправданно зачислить XYY- личностей в разряд необычайно агрессивных по сравнению с обычными преступниками [344, 217].
Гормональные предпосылки агрессии
В ряде работ по биохимии были высказаны предположения о том, что избыточное выделение тестостерона (а не просто его наличие) у лиц мужского пола вызывает неконтролируемую агрессивность.
Неопровержимые данные говорят о решающей роли гормональных нарушений в предменструальный период и во время менструаций, что может приводить женщин к излишней раздражительности, резким изменениям настроения, несчастным случаям, вспышкам гнева и неконтролируемым действиям. Так, К. Мойер пишет, что такое поведение имеет много причин, но сегодня хорошо известно, что существует периодичность в раздражительности женщин.
«В период овуляции, — считает он. — беспокойство и чувство враждебности находятся на относительно низком уровне; в период, предшествующий менструации, значительное число женщин проявляет ряд симптомов, которые могут быть обозначены как предменструальный синдром. Он включает головную боль, отек лица, рук, ног, изменения аппетита, эмоциональную нестабильность». Мойер делает вывод, что этот отрезок времени очень опасен: «62 процента насильственных преступлений совершается в течение предменструальной недели и только 2 процента в конце периода. Эта связь очень значительна, так что в некоторых странах закон признает менструацию как смягчающее обстоятельство» [448, 66].
Видимо, современное состояние исследований о роли этих гормонов пока мало что дает для психологического изучения враждебности. Гораздо лучше изученными являются половые различия в деструктивном поведении, обусловленные особенностями процесса социализации.
Агрессивность мальчиков и девочек
Часто для обоснования подобных различий использовались результаты наблюдений за детьми на ранних стадиях их социализации. Аргументы здесь сводились главным образом к следующему: разница в агрессивности мальчиков и девочек проявляется уже примерно к двухлетнему возрасту, поэтому дело якобы не в особенностях процесса социализации у тех и других, а во врожденной предрасположенности к агрессии лиц мужского пола.
Результаты экспериментов Р. Рохнера показывают, что в 71 % случаев наблюдается большая предрасположенность к агрессивному поведению со стороны мальчиков, чем со стороны девочек. Проведя огромную работу (Рохнер сделал обзор 101 сообщества и проанализировал более 130 работ, опубликованных в США, по проблемам психологии половых различий), исследователь пришел к выводу, что имеются довольно существенные, распространенные по всему миру колебания, свидетельствующие о том, что конкретная культура часто в большей степени предопределяет агрессию, нежели пол индивида. Иначе говоря, в пределах конкретных единичных обществ половые различия в агрессии обычно невелики, но с перевесом в пользу мужчин. Однако, подчеркивает Рохнер, эти незначительные различия в силу их определенной устойчивости дают на выходе вполне достоверный межкультурный стандарт большей агрессивности у сильного пола, чем у женщин. Ученый отметил также рост в процентах отчетов об отсутствии половых различий во враждебности у детей. Так, 23 % мальчиков и девочек отличались примерно одинаковым уровнем агрессии, у 6 % девочек он был выше. Применительно к подросткам эти цифры выглядели как 37 и 6 % [485, 57-62].
Таким образом, имеется определенная предрасположенность к агрессии у мужчин, что, однако, не исключает возможных влияний со стороны культуры конкретного общества на формирование поведения индивидов обоих полов [143, 93-97].
Алкоголь И АГРЕССИЯ
Статистика удручающа: поданным исполкома Всемирной организации здравоохранения, в мире под влиянием опьянения совершается до 50 % всех изнасилований, до 72 % вооруженных нападений, до 86 % убийств и т.д.
Следует заметить, однако, что здесь надо учитывать и целый ряд опосредствующих переменных, которые, как оказалось, не могут быть выявлены с помощью статистики.
Высокий процент лиц, находящихся в состоянии опьянения, среди преступников можно объяснить тем, что, во-первых, их легче задержать, чем трезвых. Кроме того, подсчеты часто опираются на данные, полученные из устных или письменных донесений органов правопорядка, порой весьма субъективных, а не на прямые измерения уровня алкоголя в крови задержанных. И наконец, при этом отсутствуют сведения о количестве лиц, которые хотя и увлекаются спиртным, но отнюдь не склонны при этом к применению насилия.
Для того чтобы установить тесную связь между пьянством и агрессией, необходимо доказать, что в строго контролируемых экспериментальных условиях употребление алкоголя ведет к большой вероятности враждебного поведения.
Экспериментальные работы показали, что алкоголь следует рассматривать в качестве фактора, способствующего выражению физической агрессии. При этом, чем больше доза потребленного спиртного, чем сильнее выражено агрессивное реагирование.
Поэтому встала задача создания моделей, описывающих различные факторы, под влиянием которых алкоголь вызывает агрессивное поведение.
Модель «растормаживания»
Первоначально наиболее влиятельной была модель фармакологического растормаживания, представленная двумя основными своими разновидностями — физиологической и психодинамической.
Согласно этой модели, решающую роль имеет прямое фармакологическое действие на определенные нервные процессы, прежде всего процессы торможения. В первом варианте алкоголь первоначально воздействует на доли мозга, в значительной мере ответственные за сдерживающий контроль над поведением. Как результат повреждения этих корковых процессов происходит псевдостимуляция более низких, относительно примитивных центров мозга.
По психодинамической версии, спиртное дает простор подавленной агрессии путем ослабления системы цензуры. Р. Джеллес и М. Штраус показывают, что в основе этой модели лежит утверждение о том, что «алкоголь и наркотики нарушают торможение в суперэго и тем самым высвобождают человеческий врожденный или приобретенный потенциал к насилию» [346].
В основе вышеописанных механизмов лежат два основных предположения: 1) алкоголь непосредственно воздействует или, образно говоря, имеет прямое попадание на сдерживающие нервные центры; 2) люди обладают некой врожденной тенденцией причинять вред себе подобным, и этот мотив будет обязательно выражаться в том случае, если нарушены сдерживающие нервные механизмы.
Таким образом, пьянство неизбежно усиливает агрессивность, сдерживаемую в обычных условиях. Но эта широко распространенная модель описания взаимосвязи между алкоголем и агрессией оказывается неспособной ответить на целый ряд важных вопросов: почему среди принявших алкоголь не все и не всегда ведут себя исключительно враждебно? Почему без наличия предшествующего побуждения ни трезвые, ни находящиеся в состоянии опьянения не стремятся обычно к причинению вреда окружающим?
Модель «возбуждения»
Предложенная Р. Боятжизом модель, как и предыдущая, основана главным образом на фармакологическом воздействии. Однако если в первой акцент делался на растормаживающем влиянии спиртного, то здесь на первый план выдвигаются его физиологически побуждающие эффекты.
В соответствии с взглядами ученого алкоголь вызывает состояние повышенного физиологического возбуждения, которое похоже на состояние, сопровождающее враждебное поведение. К числу таких предполагаемых изменений относятся: возросшее кровяное давление, увеличение содержания сахара в крови, прилив крови к мускулатуре и т.д. Боятжиз пишет, что главный эффект алкогольного потребления связан с межличностной агрессией через индивидуальную интерпретацию чьего-либо состояния возбуждения 1247].
Но модель Боятжиза также не разъясняет процессов, посредством которых алкоголь способствует агрессии. Выделяется только один из возможных аспектов его действия на человека и игнорируются все другие важные факторы. Как и в первой интерпретации, в ней излишне акцентируются медико-биологические стороны воздействия спиртного, т.е. признается только его прямое влияние на физиологические процессы в организме. Не учитывается то, что связь алкоголь—агрессия представляет собой необычайно сложный комплекс, имеющий несколько взаимообусловленных переменных. Они обязательно взаимодействуют с социальными и средовыми факторами, и лишь в некоторых случаях физиологические моменты являются более важными и значительными в определении враждебного поведения личности.
Модель «обучаемого растормаживания»
Ее авторы (В. Адессо, Д. Гоэкнер, А. Ланг, Б. Марлатт и Д. Розенау) утверждают, что ответственной за возрастание враждебности, следующей за приемом спиртного является сигнальная значимость самого акта этого употребления.
При этом главенствующая роль отдается социально-культурным факторам научения. Авторы этой позиции делают акцент, в частности, на том, что вся жизнь современного общества наставляет людей относиться к некоторым общественно неприемлемым поступкам более терпимо тогда, когда они совершаются под влиянием алкоголя. При этом само употребление алкоголя воспринимается человеком как временное отступление от норм социального поведения.
То есть люди проникаются убеждением, что могут действовать более свободно в том случае, когда пьяны, и окружающие поймут их.
Что касается отечественной традиции, то, действительно, многие воспринимают отклонение поведения пьяных от нормы как неизбежное. Зная это, виновные в агрессивном поведении ссылаются на состояние опьянения как на все объясняющую причину.
Б. Марлатт и Д. Розенау утверждают, что прием спиртного Служит неким отличительным сигналом для растормаживающего поведения даже в том случае, если употребляемый напиток — безвредное лекарство, или, как его называют медики, плацебо. Таким образом, данная точка зрения предполагает, что именно вера в сам факт, что употребление алкоголя служит определенного рода сигналом, делает позволительной агрессию. И она не будет меняться в зависимости от фармакологической силы напитка, ибо главное — вера в то, что спиртное принято. Даже получив безалкогольный напиток, такие субъекты будут отличаться повышенной враждебностью [425, 190].
«Синтетическая» модель
Учитывая ограниченность предшествующих моделей, дальнейшие работы были направлены на создание более совершенной схемы описания взаимозависимости алкогол ь—агрессия.
Тейлор и Леонард показали, в частности, что агрессия не является ни прямым следствием фармакологических свойств спиртного, ни опосредованным результатом сигналов, связанных с его употреблением. Результаты проведенных ими многочисленных экспериментов свидетельствуют, что агрессия — это «совместная функция как фармакологического состояния, вызванного алкоголем, так и ситуативных факторов» [528, 94].
Показано, что незначительные доли выпитого и манипуляции с плацебо не приводят к возрастанию враждебности. Более того, эти авторы получили важный результат, согласно которому само по себе фармакологическое состояние опьянения в отсутствие соответствующих ситуативных сигналов не способствует агрессии. Она возникает и изменяется при взаимодействии видоизмененного состояния, вызванного алкоголем, и провоцирующих сигналов.
Американские исследователи Дж. Карпентер и Н. Арменти пришли к выводу, что алкоголь изменяет проявления агрессивного поведения в том случае, если он соответствует некоторому набору стимулирующих условий [262, 540]. А вот что пишут по этому поводу П. Плинер и Г. Кэппел: «Фармакологическое действие порождает состояние пластичности, в котором организм отвечает более интенсивно, чем обычно, на превалирующее социальное окружение» [472, 418].
Почему все-таки возникает такое состояние, или, иначе говоря, что способствует возрастанию агрессивных склонностей индивида? Медики давно установили, что отравление спиртными напитками характеризуется ослаблением основных нервных процессов, оказывающих отрицательное влияние на поведение, мышление, память, речь и т.д. Именно этим определяется и возникновение нарушения способности усваивать внешние впечатления, перерабатывать их в своих суждениях и закреплять в памяти. Ведь даже самые незначительные количества алкоголя заметно понижают способность человека к физическому и умственному труду. Представления утрачивают ясность и остроту, а тончайшие детали и отношения между ними ускользают от внимания.
При этом нарушаются сложные когнитивные процессы, наступает дефицит памяти, происходит замедление мозговых процессов и т.д. Спрашивается, как все эти нарушения влияют на агрессию? Тейлор и Леонард справедливо полагают, что она контролируется посредством побуждающих и сдерживающих сигналов в виде различного рода угроз, словесных оскорблений. Последние увеличивают возможность опасного реагирования через постепенно возрастающие уровни возбуждения и посредством обеспечения информацией, касающейся как угрожающих намерений потенциального противника, так и позитивных последствий возможных агрессивных актов. Внешние и внутренние сдерживающие сигналы (нормы взаимности, физическая сила потенциального противника и т.д.) всячески уменьшают саму вероятность таких межличностных столкновений путем понижения уровня возбуждения, переоценки ситуации и своевременного доступа информации о негативных последствиях агрессии. Однако она, с точки зрения Тейлора и Леонарда, будет иметь место лишь в том случае, если влияние провоцирующих сигналов, переработанных индивидом, оказывается сильнее, чем сопротивление сдерживающих сигналов [528, 96].
В мозгу человека под влиянием алкоголя уменьшается способность индивида осуществлять адекватную переработку сигналов среды и одновременно с этим своевременно переключать внимание от одного источника информации к другому. Такое сокращение поля внимания означает, что «для опьяненного субъекта, находящегося во враждебном столкновении, будет достаточно меньшего количества ситуативных сигналов, чем для того, кто алкоголь не принимал» [528, 96].
Таким образом, сужение поля восприятия понижает количество сигналов, доступных для человека. Поэтому он будет оценивать действия других людей неправильно, случайно, наобум, т.е. здесь увеличивается опасность для индивида встать на путь агрессии. «Действие другого человека, — пишет по этому поводу американский исследователь К. Пернанен, — будет казаться опьяненному субъекту произвольным и поэтому вызовет больше агрессии» [464, 415].
Блокируя способность мозга анализировать несколько сигналов одновременно, алкоголь тем самым вынуждает субъекта отвечать на них неадекватно и часто акцентирует его внимание лишь на доминирующих сигналах, что с большей вероятностью заставляет отвечать на них агрессивным образом. Однако, по мнению Тейлора и Леонарда, если количество провоцирующих сигналов будет минимальным, такой реакции не будет. «Алкогольное опьянение, — пишут они, — может способствовать агрессивному поведению в присутствии доминирующих провоцирующих сигналов посредством привлечения к ним чьего-либо внимания и понижения доли внимания в направлении всех других непровоцирующих сдерживающих сигналов» [528, 97].
По причине когнитивного нарушения после опьянения индивид становится более связанным внешними стимулами и, следовательно, в меньшей мере способен управлять своими действиями. Он немедленно реагирует на доминирующие сигналы, отвечая на них не вполне адекватно. Если же они идут в виде угроз, словесных оскорблений и т.д., то опьяненные индивиды будут неизбежно реагировать с большей агрессивностью, чем трезвые. Однако те же субъекты ведут себя более спокойно при отсутствии таких сигналов.
Резюме: Исследователи сегодня уже не исходят из признания простого соответствия между алкоголем как чисто фармакологическим агентом и агрессией индивида. Согласно итогам многочисленных экспериментов, проводившихся прежде всего в США, большую роль в возникновении такого поведения выполняют различного рода сигналы среды, с которыми так или иначе вынуждены взаимодействовать опьяненные субъекты. Непосредственное социальное окружение, в котором они находятся, во многом приобретает роль и значение опосредствующего фактора, который, взаимодействуя с индивидами, побуждает их (или сдерживает) к враждебным действиям: Отсюда становится ясна та важная роль, которую призвано играть непосредственное окружение субъекта в процессе предотвращения актов насилия [143, 125-132].
В свете вышесказанного становятся вполне объяснимыми бесчинства болельщиков на стадионах и публики на концертах. Шум, нарушение личного пространства, возбуждение от зрелища (а часто и от алкоголя), а во время концертов еще и жара в зале — все это, безусловно, провоцирует на агрессию участников этих зрелищ.
КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕОРИИ АГРЕССИИ
Самая серьезная потребность есть потребность в познании истины.
Гегель
Типы и примеры агрессии
Агрессия может быть представлена в виде дихотомии (физическая — вербальная, активная — пассивная, прямая — непрямая).
Физическая активная прямая: нанесение человеку ударов холодным оружием, избиение или ранение при помощи огнестрельного оружия.
Физическая активная непрямая: закладка мин-ловушек; сговор с наемным убийцей с целью уничтожения врага.
Физическая пассивная прямая: стремление физически не позволить другому человеку достичь желаемой цели или заняться желаемой деятельностью (напри мер, запереть его в каком-то помещении).
Физическая пассивная непрямая: отказ от выполнения неких действий (например, отказ освободить территорию во время сидячей демонстрации).
Вербальная активная прямая: словесное оскорбление, унижение другого человека.
Вербальная активная непрямая: распространение злостной клеветы или сплетен о другом человеке.
Вербальная пассивная прямая: отказ разговаривать с другим человеком, отвечать на его вопросы, не замечать протянутой руки или даже самого человека и т.д. [32, 29].
Враждебная и инструментальная агрессия
Рассмотрим еще один вариант дихотомического деления агрессии — агрессию враждебную и инструментальную.
Термин враждебная агрессия приложим к тем случаям проявления агрессии, когда главной целью агрессора является причинение страданий жертве. Проявляющие враждебную агрессию просто стремятся причинить зло или ущерб объекту нападения. Понятие инструментальная агрессия, наоборот, характеризует случаи, когда агрессоры нападают, преследуя свои эгоистические цели, при этом причинение вреда является не главным, а побочным продуктом их действий. Нанесение ущерба другим при инструментальной агрессии не является самоцелью. Агрессивные действия используют в качестве инструмента для осуществления собственных желаний, понимая, что они могут принести вред объекту нападения.
Цели, не предполагающие причинения ущерба, включают, в частности, принуждение и самоутверждение. В случае принуждения зло может быть причинено с целью оказать влияние на другого человека или «настоять на своем». Например, по наблюдениям Паттерсона, дети используют разнообразные формы негативного поведения: стучат кулаками, капризничают и отказываются слушаться — и все это делается с целью удержать власть над членами семьи. Подобное поведение закрепляется, когда маленьким агрессорам периодически удается вынудить своих жертв пойти на уступки. Аналогично агрессия может служить цели самоутверждения или повышения самооценки, если такое поведение получает одобрение со стороны других. Например, человек может оказаться «несгибаемым» и «сильным» в отношениях с другими, если нападает на тех, кто его провоцирует или раздражает.
Другой пример инструментальной агрессии представляет собой поведение подростковых банд, которые слоняются по улицам больших городов в поисках случая вытащить кошелек у ничего не подозревающего прохожего, силой завладеть бумажником или сорвать с жертвы дорогое украшение. Насилие может потребоваться и при совершении кражи — например, в тех случаях, когда жертва сопротивляется. Однако основная мотивация подобных действий — нажива, а не причинение боли и страданий намеченным жертвам. Дополнительным подкреплением агрессивных действий в этих случаях может служить восхищение ими со стороны приятелей [32, 31].
Теории агрессии
Агрессия, в какой бы форме она ни проявлялась, представляет собой поведение, причиняющее вред или ущерб другому живому существу, имеющему все основания избегать подобного с собой обращения.
Данное комплексное определение включает следующие частные положения:
агрессия обязательно подразумевает преднамеренное, целенаправленное причинение вреда жертве; 2) в качестве агрессии может рассматриваться только такое поведение, которое подразумевает причинение вреда или ущерба живым организмам; 3) жертвы должны обладать мотивацией избежания подобного с собой обращения.
Существует несколько разнонаправленных теоретических перспектив, каждая из которых дает свое видение сущности и истоков агрессии. Старейшая из них, теория инстинкта, рассматривает агрессивное поведение как врожденное. Фрейд, самый знаменитый из приверженцев этой весьма распространенной точки зрения, полагал, что агрессия берет свое начало во врожденном и направленном на собственного носителя инстинкте смерти; по сути дела, агрессия — это тот же самый инстинкт, только спроецированный вовне и нацеленный на внешние объекты. Теоретики-эволюционисты считали, что источником агрессивного Поведения является другой врожденный механизм: инстинкт борьбы, присущий всем животным, включая и человека.
Теории побуждения предполагают, что источником агрессии является, в первую очередь, вызываемый внешними причинами позыв (побуждение) причинить вред другим. Наибольшим влиянием среди теорий этого направления пользуется теория фрустрации-агрессии, предложенная Доллардом и его коллегами. Согласно этой теории, у индивида, пережившего фрустрацию, возникает побуждение к агрессии.
В некоторых случаях агрессивный позыв встречает какие-то внешние препятствия или подавляется страхом наказания. Однако и в этом случае побуждение остается и может вести к агрессивным действиям, хотя при этом они будут нацелены не на истинного фрустратора, а на другие объекты, по отношению к которым агрессивные действия могут совершаться беспрепятственно и безнаказанно. Это общее положение о смещенной агрессии было расширено и пересмотрено Миллером, выдвинувшим систематизированную модель, объясняющую появление этого феномена.
Когнитивные модели агрессии помещают в центр рассмотрения эмоциональные и когнитивные процессы, лежащие в основе этого типа поведения. Согласно теориям данного направления характер осмысления или интерпретации индивидом чьих-то действий, например, как угрожающих или провокационных, оказывает определяющее влияние на его чувства и поведение. В свою очередь, степень эмоционального возбуждения или негативной аффектации, переживаемой индивидом, влияет на когнитивные процессы, занятые в определении степени угрожающей ему опасности.
Еще одно теоретическое направление рассматривает агрессию прежде всего как явление социальное, а именно как форму поведения, усвоенного в процессе социального научения. В соответствии с теориями социального научения глубокое понимание агрессии может быть достигнуто только при обращении пристального внимания на: 1) то, каким путем агрессивная модель поведения была усвоена;
факторы, провоцирующие ее проявление; 3) условия, способствующие закреплению данной модели поведения. Агрессивные реакции усваиваются и поддерживаются путем непосредственного участия в ситуациях проявления агрессии, а также в результате пассивного наблюдения проявлений агрессии. Согласно взгляду на агрессию как на инстинкт или побуждение индивидуумов постоянно заставляют совершать насилие либо внутренние силы, либо непрерывно действующие внешние стимулы (например, фрустрация). Теории же социального научения утверждают, что агрессия появляется только в соответствующих социальных условиях, т.е. в отличие от других теоретических направлений теории этого направления гораздо более оптимистично относятся к возможности предотвращения агрессии или взятия ее под контроль [32, 53—54].
ДЕТЕРМИНАНТЫ АГРЕССИИ
Как все в единстве сплетено, Одно в другом воплощено.
В. Гете
Внешние детерминанты агрессии
Это те особенности среды или ситуации, которые повышают вероятность возникновения агрессии. Многие из этих детерминант тесно ассоциированы с состояниями физической среды. Так, например, высокая температура воздуха повышает вероятность проявления агрессии либо, напротив, эскапизма (стремления личности уйти от действительности в мир иллюзий, фантазий). В соответствии с моделью негативного аффекта Белла и Бэрона умеренно высокие температуры, по сравнению с низкими или очень высокими, в наибольшей степени способствуют заострению агрессивных тенденций. Умеренно высокая температура воздуха усиливает негативный аффект (т.е. дискомфорт), вследствие чего возрастает вероятность проявления индивидом агрессивных реакций. Однако если дискомфорт, вызванный ненормально высокой температурой воздуха, очень силен, то не исключено, что индивид предпочтет бегство, поскольку вступление в агрессивное взаимодействие может продлить переживание дискомфорта.
Другие средовые агрессоры также могут сыграть роль внешних детерминант агрессии. Так, например, шум, усиливая возбуждение, способствует возрастанию
агрессии. Определенные данные свидетельствуют о том, что теснота (скученность) также может спровоцировать агрессию. Наблюдения показывают, что агрессивные реакции усиливаются и в том случае, когда в воздухе содержатся некоторые загрязняющие агенты (например, сигаретный дым, неприятные запахи).
Разнообразные аспекты ситуаций межличностного взаимодействия, так называемые «посылы к агрессии», также могут подталкивать индивида к агрессивным реакциям. Эти «приглашения» могут исходить из множества разнообразных источников. Если у потенциального агрессора некоторые индивидуальные характеристики потенциальной жертвы просто ассоциируются с агрессией, он будет склонен реагировать агрессивно. Оружие также служит «приглашением к агрессии», как, впрочем, и демонстрация сцен насилия в масс-медиа.
В то время как большинство людей полагают, что наркотики способствуют повышению агрессивности, эмпирические данные свидетельствуют об обратном.
Некоторое влияние на то, как мы будем вести себя в ходе конфликта, оказывают личностные факторы. Но, похоже, в гораздо большей степени это будет зависеть от ситуационных факторов и характера наших отношений с человеком, с которым мы конфликтуем. Установлено, что спортивные зрелища, включающие элемент насилия, способствуют усилению агрессии в зрительской среде.
И наконец, агрессия может как усиливаться, так и подавляться за счет аспектов ситуации, которые влияют на степень и характер личностного самоосознания. Когда человек сообразует свои поступки с потенциальной реакцией жертвы или представителей правопорядка, говорят о публичном самоосознании; когда человек сосредоточен преимущественно на собственных мыслях и переживаниях — говорим о приватном самоосознании.
Любой из двух указанных типов личностного самоосознания способствует снижению вероятности проявления агрессивных реакций. Аналогичным образом снижение уровня личностного самоосознания способствует возникновению агрессии [32, 186-187].
По мнению большинства специалистов, наличие стрессора, как среды, так и межличностного, оказывается явно недостаточным для возникновения агрессивного поведения личности. При этом разрабатываются своеобразные модели, предусматривающие здесь самые различные варианты взаимосвязи и взаимодействия.
Ряд стрессоров среды вызывают состояние эмоционального возбуждения, которое может выступать в роли генералирующего мотива всего последующего поведения. Это имеет наибольший эффект на доминирующую реакцию индивида. Поэтому если человек был предрасположен действовать агрессивным образом, то переменная среды как бы «взвинчивает», электризует его, подталкивая к такому поведению [449, 52].
Экспериментально этот вывод может быть проиллюстрирован на следующем примере. Американские психологи взяли две группы испытуемых, одной из которых был предложен шум на уровне 45 децибел, который воспринимается индивидами относительно спокойно. Другая группа подверглась действию шума в 60 децибел — возбуждающего, но не раздражающего. Перед этим каждой из групп был продемонстрирован фильм либо агрессивного, либо противоположного характера, после чего им было предложено проэкзаменовать друг друга с помощью применения электрических ударов небольшой силы за неправильный ответ.
Индивиды, которым показали киноленту агрессивного характера и на которых обрушился шум на уровне 60 децибел, проявили несравненно большую степень враждебности, чем те, которым был показан тот же фильм, но которые подверглись при этом воздействию нераздражающего шума. Враждебности не возникало и после просмотра неагрессивного фильма.
По свидетельству ряда исследователей, воздействие стрессоров среды может привести к перегрузке стимулов, в результате чего индивид оказывается как бы ошеломлен, а значит, и не способен эффективно перерабатывать поступающую в мозг информацию. Это вынуждает его активно приспосабливаться к ситуации. Если данный процесс проходит успешно, стрессор, скорее всего, не вызывает агрессию. В противном же случае, когда адаптация протекает с большими трудностями, человек может либо вообще пропустить, либо неадекватно проинтерпретировать смысл поступающих извне сигналов. Такие неадекватные восприятия могут раздражать личность и толкать ее к вызывающему поступку.
Если стрессор помешал совершающемуся в данный момент действию, то это способно оказать угнетающее воздействие на индивидов, вызвать у них ощу щение безысходности. Уже сама фрустрация может привести к агрессии. Кроме того, потеря контроля над ситуацией часто становится добавочной мотивацией для индивида, стремящегося вновь обрести свое влияние. Часто это осуществляется именно в форме агрессии [449, 52].
Многие специалисты экспериментально демонстрируют, что стрессоры среды делают человека раздражительным и создают своеобразное ощущение дискомфорта. Однако Р. Бэрон и П. Белл утверждают, что отношение между негативным эффектом и агрессией можно представить в виде своеобразной кривой, Так, до определенной точки негативный стрессор, жара, к примеру, увеличивает враждебность, но как только эта точка достигнута и даже превышена — отрицательный раздражитель становится настолько силен, что индивиды всячески стремятся избавиться от него и переходят от агрессии к инструментальному поведению. Если при этом дискомфорт уменьшается, враждебность резко падает [232, 245-255].
Таким образом, при рассмотрении данного вопроса психологи приходят к следующим выводам;
стрессоры среды не увеличивают прямо и однозначно степень агрессивности;
стрессоры могут влиять на нее лишь в том случае, когда: а) возбужденный таким образом индивид как бы заранее был предрасположен к нападению; б) нарушается способность личности к адекватной переработке получаемой ею информации; в) прерывается осуществляемое в данный момент поведение;
физические стрессоры увеличивают степень враждебности лишь до определенного предела, после которою она резко падает по мере того, как замещающие ее инструментальные акты устраняют негативные последствия действий стрессора [143,108-110].
Территориальные факторы
Актуальным является вопрос о влиянии на агрессию межличностных стрессоров, к которым относят: а) территориальное вмешательство, б) нарушение персонального пространства, в) высокую плотность населения.
Среди авторов, работающих в этой области, можно назвать С. Барски, J1. Ле- фебра, М. Пассера, Б. Швартца. В их книгах выдвигаются и анализируются понятия первичной и вторичной территории. Под первичной понимают область, принадлежащую и используемую исключительно одной личностью или первичной группой. Здесь индивиды не подвергаются угрозам, чувствуют себя в безопасности, расслабленны, доброжелательно настроены и менее скованны; свое пространство они защищают от какого бы то ни было нежелательного вторжения извне.
Вторичная территория играет менее важную роль в жизни человека. Кроме тою, как утверждают некоторые авторы, она более доступна для других, менее протяженна по сравнению с первичной. По мнению Б. Швартца и С. Барски, индивид осуществляет меньше контроля над этими областями и, как правило, владеет вторичной территорией в течение менее продолжительного срока. Однако именно здесь, как заявляют они, чаще всего дают о себе знать доминирование и агрессия.
А. Эссер полагает: если физическое столкновение имеет место на нейтральной территории, то поединок обычно заканчивается победой доминирующего в конкретной иерархии индивида; если же столкновение происходит на чьем-либо более или менее фиксированном пространстве, то в 85 % случаев выигрыш приходится на долю того, кто постоянно проживает здесь, причем независимо от субординации.
Можно сказать, что большая часть всех выводов, касающихся влияния вторичных территорий на человеческое поведение, получены при изучении различных спортивных состязаний. Подавляющее большинство авторов обнаружили, что спортивные команды выигрывают значительно больше игр у себя дома, чем в гостях. В этом и проявляется, на их взгляд, эффект вторичного пространства, суть которого они видят в том, что свое поле, площадка и т.д. придают силу их обладателю, способствуя возникновению ярко выраженного наступательного поведения. Это преимущество хозяев территории известно настолько хорошо, что постоянно учитывается. Например, в кубковых матчах гол, забитый «в гостях», приравнивается к двум, забитым на своем поле. Преимущество принимающей стороны учитывается и при организации переговоров.
Суммируем вышесказанное. Выводы, к которым приходят исследователи, можно свести кратко к следующему: у себя «дома» индивиды находятся в большей безопасности, располагают большим влиянием, более склонны к соперничеству, а иногда и более агрессивны.
( Нарушение персонального пространства
Что касается выяснения связи между так называемым личным пространством, его границами и их нарушениями, с одной стороны, и агрессией, с другой, то здесь имеется в виду другой, существующий наряду с первичным и вторичным, вид свободного пространства, представляющий собой воображаемую границу вокруг индивида, в пределы которой никто не может войти. Любые пересечения этой незримой границы могут заставить человека броситься в бегство, вызвать у него чувство возмущения или помешать нарушителям в исполнении их задач.
Такое нарушение может привести к агрессии главным образом по двум причинам:
возбуждение, появляющееся при этом, будет всячески способствовать выполнению индивидом доминирующей реакции. Если же такой доминантой в поведении является враждебность, то можно предположить возможность со стороны индивида отыскать облегчение в такого рода агрессивной реакции;
в том случае, если человек не сможет никакими своими другими действиями избавить себя от излишнего стресса, то агрессивное поведение может выступить в
роли инструментального. Если, к примеру, при нарушении личного пространства возможность бегства полностью исключается, индивид может прибегнуть к прямой агрессии [449, 62].
Подобные ситуации вовсе не обязательно завершаются нападением со стороны пострадавшего. Оно здесь выступает только как одна из возможных реакций личности и проявляет себя лишь в том случае, когда исчерпан весь арсенал альтернативных ответов. Исключение составляют случаи с необычайно разгневанными индивидами, для которых, согласно Мюллеру, агрессия является доминирующим мотивом, а также те, кто обладает своеобразной «афессивной историей».
Установлено в ряде исследований, что люди по-разному переживают нарушение их личного пространства и возникающее как следствие этого состояние телесной близости. Одно из возможных объяснений этого факта основывается на сравнении главных функций межличностного дистанцирования. Здесь возможны два вариан.па — либо позитивно окрашенное притяжение, интимность, либо ассоциация с угрозой применения силы и доминированием. Как оказалось, разгневанные и обладающие своеобразной «агрессивной историей» люди воспринимают подобную близость именно как угрозу и стремятся по мере возможности предотвратить или избежать ее. Склонные к насилию, они отличаются, как считает Мюллер, завышенными по сравнению с другими индивидами требованиями в отношении личного пространства. Для иллюстрации этого вывода Мюллер ссылается на многочисленные исследования, проводившиеся в федеральных тюрьмах США и ФРГ [325, 221-231].
В частности, было установлено, что для большинства лиц, совершивших тяжкие преступления, «безопасное» личное пространство значительно превышает средние показатели.
Но ведет ли предрасположенность к враждебности к появлению завышенных требований в отношении личного пространства или само наличие у человека этих кажущихся аномальными по сравнению с другими людьми территориальных границ вынуждает его прибегать к частым насильственным нападениям?
Окончательного ответа на этот вопрос мы так и не находим в работах по данной проблематике, хотя отдельные авторы высказывают ряд догадок и склоняются скорее в пользу первого предположения. Аргументация здесь чаще всего опирается на результаты исследований среди заключенных, и поэтому она вряд ли может быть перенесена без соответствующих оговорок на всех других индивидов.
Так, показано, что возмущенные и оскорбленные личности демонстрируют чрезвычайно высокие требования относительно личного пространства. Это же касается и лиц, склонных к насилию [449, 63].
Высокая плотность
Большое число работ за рубежом посвящено влиянию эффекта высокой плотности населения на поступки и действия людей, в том числе и враждебные. Под высокой плотностью населения понимается большое количество людей на относительно малом пространстве.
В работах 60 — начала 70-х годов прошлого века это влияние, бесспорно, считалось негативным. При этом большинство исследователей опиралось главным образом на данные, полученные при изучении животных, на которых такой фон действительно оказывает неблагоприятное воздействие.
Затем начался кардинальный пересмотр подобных представлений. По этому поводу канадский исследователь Дж. Фридмен пишет: «Нам говорили в течение ряда лет, что скученность вызывает напряжение, агрессивность, умственную болезнь, преступления и даже войну.
Результаты последующих исследований показывают, что все это не так. Скученность, проживание или работа в условиях высокой плотности населения не всегда плохо воздействуют на людей. Крысы, мыши, цыплята и другие животные испытывают ужасные последствия от скученности, но люди — нет»; «люди точно так же живут и действуют в условиях скученности, как и в нормальных услови ях, и не проявляют при этом какой-либо физической или умственной патологии» [335, 91].
Наиболее полно вопрос о влиянии на агрессивность плотности населения представлен в работах Дж. Фридмена, его коллег и учеников С. Клевански, П. Эрлиха и др.
Были взяты две группы испытуемых (одна в обычных условиях, а другая — в состоянии скученности). Их членам было предложено решить ряд задач различной степени сложности. Результаты анализа показали, что высокая плотность существенно влияет на качество ответов [335, 95].
Учитывая, однако, тот факт, что скученность все же оказывает довольно сложное воздействие на определенные виды социального поведения, Фридмен и его коллеги в следующей серии своих исследований сосредоточили внимание на влиянии высокой плотности на агрессивность, конкуренцию и те или иные чувства, возникающие в группе людей. Вывод был следующий: скученность может усиливать эти реакции. Так, если первоначальным состоянием индивидов в группе был страх, то в условиях высокой плотности они стали бояться еще больше. Если же атмосфера была сердечной и доброжелательной, она становилась еще теплее и привлекательнее. Примерно аналогичным образом дело обстояло и с агрессией.
Все эти эксперименты проходили в лабораторной обстановке, где испытуемые хорошо осознавали исключительный характер ситуации и возможность ее скорого завершения. Поэтому Фридмен и его коллеги не спешили с выводами и предприняли еще одну попытку оценить воздействие высокой плотности в естественных условиях. Фридмен сравнил отношения между плотностью населения в различных регионах США и количеством проявлений в них социальной патологии.
Наиболее убедительны те аспекты его анализа, которые связаны с насилием. Ведь именно в крупных городах немало жертв таких преступлений. Последнее и привело многих специалистов к выводу о том, что скученность людей и агрессия причинно обусловлены. Но, как показали исследования Фридмена, такие заключения оказались преждевременными.
Он и его сотрудники сравнили данные о плотности населения в столицах всех штатов США с количеством криминальных происшествий в этих районах. При этом не обнаружилось какой-либо связи между этими двумя переменными. Она совершенно отсутствовала между числом убийств, изнасилований, грабительских нападений и плотностью населения. Это было особенно впечатляющим фактом. «Если скученность вызывает агрессивные чувства, — пишет Фридмен, — то ясно, что насильственные преступления должны более тесно ассоциироваться с плотностью. Но этого нет».
Ярким примером, иллюстрирующим отсутствие подобной строгой зависимости, является ситуация на Манхэттенском острове в Нью-Йорке, являющемся наиболее перенаселенным районом США — примерно 70 ООО человек на 1 кв. милю. «Этот остров, — пишет он, — был еще более перенаселен в 1900, 1915, 1920, 1925годах, чем сейчас. Плотность населения здесь сегодня меньше, а число преступлений — значительно выше».
Почти все американские города населены сегодня значительно менее плотно по сравнению с предыдущими десятилетиями, и живущие в них люди имеют гораздо больше пространства, однако кривая правонарушений в них не падает, а продолжает расти бурными темпами [143, 90—100].
Межличностные детерминанты агрессии
Фрустрация
Агрессия не возникает в «социальном вакууме». Именно различные аспекты межличностных взаимодействий приводят к ее возникновению и предопределяют ее формы и направленность. Возможно, именно поэтому столь пристальное внимание уделяется фрустрации, т.е. блокированию разворачивания целенаправленного поведения.
Фрустрация увеличивает вероятность агрессивной реакции. Отношение фрустрации к агрессии демонстрирует классический эксперимент Баркера, Дембо и Левина [230]. Эти психологи вызывали фрустрацию у детей, показывая им комнату, заполненную очень привлекательными, но недоступными игрушками, которые были отделены от детей прозрачным экраном. Дети стояли перед экраном, глядели на игрушки и надеялись, что смогут поиграть в них, но никак не могли до них добраться; наконец, после долгого и болезненного ожидания детей допустили до заветных игрушек. В данный эксперимент была введена еще одна группа детей, которым позволили поиграть с игрушками без предварительного фрустрирования. Дети из этой группы счастливо наслаждались игрой, в то время как поведение фрустрированных детей, получивших в конце концов доступ к игрушкам, отличалось крайне деструктивным характером: дети пытались сломать игрушки, швыряли их о стену, наступали на них и т.д. Так было показано, что фрустрация может привести к агрессии.
Аналогичная закономерность продемонстрирована в полевом исследовании Харрис [363]. Она попросила студентов периодически «вклиниваться» в очереди людей, стоящих за билетами, к дверям ресторанов или к кассам продуктовых магазинов; в одних случаях студенты пристраивались перед вторым из стоявших в очереди, в других — перед двенадцатым. Как легко предположить, реакция стоявших в очереди позади «вторгшегося» оказывалась более агрессивной в том случае, когда студент пристраивался перед вторым из «очередников»: фрустрация возрастает, когда цель близка, но ваше движение к ней внезапно приостановлено.
Фрустрация возрастет еще больше, если вмешательство оказывается для вас неожиданным или выглядит нелегитимным. На это указывает эксперимент Кулика и Брауна. В этом эксперименте испытуемым сказали, что они смогут немного заработать, обзванивая людей с просьбой внести пожертвования на благотворительные цели и получая от них согласие. При этом некоторым из испытуемых внушили, что они мотуг ожидать хороших результатов, от числа которых зависит оплата их труда, поскольку якобы почти две трети предыдущих звонков оказались успешными; других испытуемых подвели к мысли, что следует ожидать значительно более скромных успехов. Когда очередной потенциальный жертвователь отвечал отказом, а отказывались все, поскольку на самом деле испытуемые звонили подставным участникам эксперимента, то агрессивная реакция была значительно более сильной у тех испытуемых, которые были настроены на хорошие результаты [6, 285].
Хотя фрустрацию принято считать одной из мощнейших детерминант агрессии, данные о значительности ее влияния довольно разноречивы. В то время как результаты одних экспериментов свидетельствуют о том, что фрустрирующие взаимоотношения способны привести к возникновению агрессии, из других следует либо то, что данный фактор оказывает весьма незначительное влияние, либо, что фрустрация вообще не имеет никакого отношения к агрессии.
Как бы то ни было, влияние фрустрации на агрессию опосредовано рядом промежуточных факторов. То есть фрустрация с наибольшей вероятностью может вызвать агрессию, когда она сравнительно интенсивна, когда присутствуют так называемые «посылы к агрессии», когда фрустрация кажется внезапной или воспринимается как произвол либо когда она когнитивно привязывается к агрессии.
Провокация
Второй и, по всей видимости, намного более сильной и устойчивой детерминантой агрессии является провокация.
Физическая провокация. Большое количество экспериментов указывает на то, что, как правило, люди отвечают ударом на удар и контратакой на атаку. Более того, часто агрессивная реакция возникает при одном лишь предположении, что у другого человека имеются какие-то враждебные намерения — независимо от того, выражается ли это в прямых действиях «недоброжелателя».
Вербальная провокация. Существующие данные позволяют утверждать, что ответной реакцией на оскорбления, издевки и подобные им провокации зачастую оказывается физическое нападение. В результате инциденты, начавшиеся с перебранки, нередко переходят в фазу прямого насилия. В силу закономерности эскалации конфликтогенов [177, 13] люди, как правило, стремятся «дать сдачи», чтобы предупредить возможность возобновления нападок или не показаться окружающим «проигравшими» или беспомощными жертвами.
Провокация подсказкой. Такой подсказкой может служить простое присутствие объекта, вызывающего ассоциации с агрессией. В еще одном исследовании [236] участвовали две группы испытуемых-студентов, которых привели в состояние гнева: одна группа находилась в комнате с лежавшим на полу ружьем (его якобы случайно забыли после предыдущего эксперимента), а другая — в комнате, где вместо ружья на полу был «забыт» более нейтральный предмет — ракетка для бадминтона. После этого испытуемым была предоставлена возможность подвергнуть своего однокашника ударам электрическим током. Те индивиды, которых рассердили в присутствии объекта, стимулирующего агрессивность (ружье), наносили больше ударов током, чем те, которых рассердили в комнате с лежащей на полу бадминтонной ракеткой. Снова мы видим, что определенные подсказки, ассоциирующиеся с агрессией, увеличивают тенденцию человека к агрессивному поведению.
Берковиц пишет: «Разгневанный человек может нажать на курок ружья, если желает совершить акт насилия; но и курок может «нажать» на палец или вызвать какие-либо иные агрессивные реакции со стороны человека, если тот готов к агрессии и не имеет сильных тормозов для предотвращения подобного типа поведения» [236].
Одним из аспектов социального научения, который может затормозить агрессию, является тенденция к принятию на себя ответственности за свои действия, которую испытывает большинство людей. Но что произойдет, если это чувство ответственности ослабнет?
Анонимность
Зимбардо [553] продемонстрировал, что люди, которые действуют анонимно и которых нельзя опознать, склонны вести себя более агрессивно, чем люди, которые выступают под своим именем.
В его эксперименте от студенток-испытуемых требовали нанесения ударов током другой студентке (на самом деле, это была сообщница экспериментатора) якобы в целях «изучения эмпатии». Одним испытуемым обеспечили анонимность: они сидели в скудно освещенной комнате, на них были надеты просторные робы с большими капюшонами и к ним никто не обращался по имени. Других испытуемых, наоборот, идентифицировать было достаточно легко: они находились в ярко освещенной комнате, никаких камуфлирующих роб на них не было, а кроме того, каждая из испытуемых носила специальную бирку со своим именем. Как и ожидалось, сохранявшие анонимность студентки наносили жертве более продолжительные и сильные удары электрическим током. Зимбардо предположил, что анонимность порождает «деиндивидуацию» — состояние сниженного самосознания, пониженного беспокойства по поводу социальной оценки и ослабления внутренних ограничителей, удерживающих человека от запрещенных форм поведения.
Будучи частью контролируемого лабораторного эксперимента, агрессия, проявившаяся у испытуемых в исследовании Зимбардо, бледнеет в сравнении с дикими, импульсивными актами агрессии, обычно ассоциирующимися с восстаниями, групповыми изнасилованиями и так называемым «стихийным правосудием масс» типа суда Линча. Тем не менее, есть основания полагать, что подобная деиндивидуация имеет место и вне стен лаборатории.
Например, Маллен [450] проанализировал газетные сообщения о 60 случаях линчеваний за период с 1899 по 1946 г. и обнаружил сильную взаимосвязь между размерами толпы линчевателей и уровнем насилия: чем больше была толпа, тем на более отвратительные проявления жестокости она была способна. Исследование Маллена свидетельствует, что. став частью толпы, люди превращаются в безликих существ с пониженным самосознанием, в меньшей степени обращающих внимание на запреты действий, связанных с агрессией и разрушением. И следовательно, они с меньшей охотой принимают на себя ответственность за такие действия [6, 289-291].
Пол и раса
Характеристики объекта агрессии, в особенности его пол и раса, также являются мощными детерминантами агрессивного поведения.
В отличие от мужчин женщины, оказываясь в ситуации агрессивного межличностного взаимодействия, сталкиваются со сравнительно более мягкими формами агрессии, вероятно, потому, что воспринимаются агрессорами как заведомо более беззащитные. В том же случае, когда женщины нарушают этот стереотип и начинают вести себя более воинственно или провокационно, уровень направляемой на них агрессии резко возрастает.
Что касается расовой принадлежности объекта агрессии, то целый ряд экспериментов показал, что белые испытуемые демонстрируют более высокий уровень агрессивности по отношению к своим черным жертвам и более низкий по отношению к белым, когда уверены, что их действия останутся безнаказанными.
Сторонние наблюдатели
По всей видимости, весьма мощным «посылом к агрессии» являются «сторонние наблюдатели».
Эксперименты Милграма показали, что когда испытуемым приказывают «наказать» другого человека мощным и потенциально опасным для жизни разрядом электротока, многие из них охотно подчиняются, даже в том случае, если команды исходят от лица, не облеченного сколь-нибудь значительными властными полномочиями. К счастью, этой тенденции к слепому и деструктивному послушанию можно оказать противодействие, возложив на участников эксперимента личную ответственность за причиняемый ими вред и подавая им пример неповиновения.
Сторонние наблюдатели могут играть роль «подстрекателей», даже не будучи непосредственными участниками агрессивных взаимодействий. Существует множество фактов, свидетельствующих о том, что сторонние наблюдатели могут оказывать существенное влияние на агрессию, причем происходит это двояким образом. Во-первых, они могут подогревать либо, наоборот, подавлять агрессию прямыми действиями (например, давая участникам конфликта советы). Во-вто- рых, сходный эффект может быть вызван просто самим фактом их присутствия на месте действия. В частности, присутствие посторонних может усиливать прямую агрессию, если агрессор полагает, что его действия вызовут одобрение со стороны наблюдателей, и подавлять ее, если агрессор опасается, что ею действия вызовут неодобрение или порицание [32, 155—156].
Личностные детерминанты агрессии
Во многих случаях мощными детерминантами агрессии могут являться некоторые устойчивые характеристики потенциальных агрессоров — те личностные черты, индивидуальные установки и склонности, которые остаются неизменными вне зависимости от ситуации.
Личностные черты
Что касается агрессии «нормальных» (т.е. не страдающих явной психопатологией) личностей, то в качестве аффектирующих агрессивное поведение психологических характеристик обычно рассматриваются такие личностные черты, как боязнь общественного неодобрения, раздражительность, тенденция усматривать враждебность в чужих действиях (предвзятость атрибуции враждебности), убежденность индивидуума в том, что он в любой ситуации остается хозяином своей судьбы (локус контроля), модель поведения типа «А» (постоянное стремление первенствовать) и склонность испытывать чувство стыда, а не вины во многих ситуациях.
Важную категорию агрессоров составляют экстремисты, т.е. мужчины и женщины, проявляющие агрессию либо слишком часто, либо в крайних формах. Экстремисты отчетливо подразделяются на две группы, к первой из которых относятся лица со сниженным, а ко второй — с повышенным самоконтролем. У агрессоров первого типа внутренние сдерживающие механизмы развиты весьма слабо, и потому они прибегают к насилию чрезвычайно часто. Агрессоры второго типа, напротив, обладают необычайно развитыми внутренними сдерживающими механизмами и способны воздерживаться от агрессивных проявлений даже в случае чрезвычайно мощной провокации. Когда же ресурс внутренних ингибиторов иссякает, агрессия, проявляемая лицами с повышенным самоконтролем, может принимать крайние, а порой даже фатальные формы.
Установки и стандарты
Поведенческие реакции индивидуума зависят также от его установок и внутренних стандартов. К числу наиболее важных установок, аффектирующих агрессивное поведение, относятся различные формы предрассудков. Например, расовые предрассудки являются одним из важнейших источников межрасовой агрессии: так, лица, питающие сильное предубеждение против представителей другой расы, ведут себя гораздо более агрессивно с вызывающими у них неприязнь «чужаками», нежели с членами собственной группы. За последние годы расовые установки как белых, так и черных американцев претерпели достаточно серьезные изменения. С одной стороны, это привело к снижению уровня агрессии, проявляемой белым населением Америки по отношению к черному меньшинству, а с другой — к тому, что в некоторых случаях черные стали вести себя по отношению к белым более агрессивно, чем прежде.
Однако в ситуации стресса или повышенного эмоционального возбуждения обе группы могут возвращаться к своим более ранним установкам относительно межрасовой агрессии. Это явление получило название регрессивного расизма.
Иллюстрацией этого могут служить ночные бесчинства эмигрантов во Франции в 2005 г., спаливших тысячи машин в «белых» кварталах, и межэтнические столкновения в Австралии в тот же период.
Одна и та же поведенческая реакция разными индивидами может восприниматься и как недопустимо агрессивная, и как нормальная — все зависит от системы норм и ценностей конкретного индивида [32, 225].
Агрессия: индивидуальное + социальное
Различные структуры нервной системы и протекающие в них процессы оказывают серьезное влияние на человеческое поведение. Так, наши эмоциональные переживания органически взаимосвязаны с функционированием лимбической системы, и в особенности гипоталамуса и миндалевидного тела. Лобные доли коры головного мозга, которые у человека отличаются обширностью и сложным устройством, отвечают за сложные когнитивные процессы, в частности за опознание той или иной ситуации как содержащей угрозу и за выбор реакции в ситуации, опознанной таким образом. В ведении симпатической нервной системы находится наша готовность «драться или удирать»: именно эта нейроструктура по достижении организмом определенного уровня физиологического возбуждения производит запуск механизма агрессивного реагирования. Впрочем, существуют данные, свидетельствующие о том, что реактивность симпатической нервной системы имеет индивидуальный характер, и потому в угрожающей ситуации одни лица испытывают большее, а другие меньшее возбуждение.
Всегда нужно иметь в виду, что биологические процессы протекают в социальном контексте. То есть внешняя среда влияет на нейрогенные связи, а внутренние биологические процессы в значительной степени предопределяют характер наших реакций на средовые воздействия. Правильнее было бы говорить не о решающем влиянии биологических либо, наоборот, социальных факторов как детерминант агрессии, а признать, что на агрессию действуют оба типа факторов и что биология и окружающая среда оказывают взаимное влияние друг на друга [32, 255].
СРЕДСТВА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АГРЕССИИ
Помоги себе сам, и тогда тебе помогут другие.
Публий Сир
Извинения или оправдания: почему выгодно ГОВОРИТЬ «ПРОСТИТЕ»
Представьте себе следующую сцену. Вы договорились с девушкой о свидании, а она опаздывает. Время идет, и вы начинаете сердиться. Наконец спустя полчаса она все-таки появляется. Прежде чем вы успеваете произнести хотя бы слово, девушка извиняется за свое опоздание. Как вы поступите? Ответите злобно и агрессивно или поймете и простите? Исследования роли извинений или оправданий показывают, что ваш ответ зависит от ряда дополнительных факторов. Если извинения искренни, а приводимые сю доводы убедительны, то гнев ваш улетучится сам собой. Если же, наоборот, извинения кажутся вам неискренними, а объяснения неубедительными, вы будете продолжать сердиться и даже, может быть, рассердитесь еще сильнее, услышав объяснения.
Результаты исследований показывают, что извинения или оправдания со ссылкой на внешние обстоятельства, неподконтрольные извиняющемуся (например, «У меня не завелась машина», «Поезд опоздал»), более эффективны для элиминации гнева, чем ссылка на обстоятельства, которые человек в состоянии контролировать («Я совершенно забыл об этом»). Точно так же гнев скорее улетучится после извинений и объяснений, которые кажутся искренними, чем после тех, искренность которых вызывает сомнения. Данные, наиболее убедительно свидетельствующие о потенциальной способности извинений снижать уровень агрессии, были представлены Обучи, Камедой и Агари.
В поставленном ими эксперименте в результате целой серии ошибок, совершенных помощником экспериментатора, испытуемые женщины оказались не в состоянии правильно выполнить поставленные перед ними задачи и поэтому получили негативную оценку со стороны экспериментатора, что привело их в замешательство. Позднее помощник экспериментатора извинился перед некоторыми из них за свои ошибки. Причем свои извинения он приносил либо в присутствии экспериментатора, либо в его отсутствие. При публичном извинении помощник экспериментатора, с одной стороны, снимал с испытуемых ответственность за плохое выполнение задания, а с другой — пытался исправить свои ошибки. При
ватное же извинение, напротив, не снимало с испытуемых ответственности за плохое выполнение задания.
После такого обращения испытуемые оценивали помощника экспериментатора по некоторым характеристикам (например, искренность-неискренность, ответственность — безответственность), описывали собственное состояние (например, приятное — неприятное) и оценивали способности ассистента как психолога. Последняя оценка отражала величину уровня агрессии испытуемых, поскольку им сообщили, что выставленные баллы отразятся на карьере ассистента.
Результаты показали, что извинения действительно играют весьма существенную роль в подавлении ответной агрессии. Испытуемые, перед которыми помощник извинился, дали ему более высокую оценку, сообщив о том, что чувствуют себя лучше, и демонстрировали более низкие уровни агрессии, чем те, перед кем он не извинился. Более того, простое «возмещение ущерба» — путем приватного извинения или признания экспериментатором ошибок, совершенных его помощником, — оказалось менее эффективным для снижения уровня агрессии, чем публичное извинение [32, 314—315].
Эмпатия, юмор и секс
КАК СРЕДСТВА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АГРЕССИИ
К числу давно устоявшихся принципов психологии можно отнести принцип, согласно которому все живые организмы, включая человека, не способны осуществлять две несовместимые реакции в одно и то же время. Например, трудно (практически невозможно) одновременно мечтать и выполнять сложные когнитивные действия, такие как работа на компьютере или чтение научной статьи. Подобным же образом, трудно одновременно находи ться в состоянии восторга и депрессии.
Этот основной принцип нашел свое отражение в проблеме предупреждения или управления человеческой агрессией в виде так называемой гипотезы несовместимых реакций. Согласно этой теории, можно уменьшить и гнев, и уровень открытой агрессии, вызывая тем или иным способом у людей чувства, несовместимые с гневом и агрессией. Несмотря на то что несовместимыми с чувствами гнева и открытой афессии могут оказаться самые разные реакции, исследователи обратили особое внимание на три из них: чувства эмпатии по отношению к потенциальным объектам афессии, юмор и ощущение умеренного сексуального возбуждения, возникающее в результате воздействия умеренных эротических стимулов.
Эмпатия: реакция на страдания других
Ведя себя агрессивно по отношению к другим людям, человек нередко становится свидетелем боли и Сфаданий своих жертв. Успешно реализованный акт агрессии, в конце концов, подразумевает нанесение вреда намеченной жертве. Какие чувства испытывают при этом афессоры? Вполне возможно, что они переживают эмпатию — испытывают чувства, аналогичные испытываемым жертвой. В зависимости от степени эмпатии афессора уровень афессии в последующих актах может быть снижен. Иными словами, в тех случаях, когда жертвы агрессии демонстрируют признаки негативных эмоциональных реакций, уровень последующих проявлений афессии может снизиться.
Результаты многих экспериментов, проводившихся как с детьми, так и со взрослыми, документально подтверждают это. Полученные результаты дают один и тот же ответ — чем выше уровень эмпатии, переживаемой участниками эксперимента, тем ниже уровень агрессии в последующих актах насилия.
Однако боль и страдания жертвы не всегда вызывают эмпатию. Когда агрессор очень раздражен или уверен в правильности своих действий, демонстрация боли со стороны жертвы (сигналы о боли) может доставлять ему удовольствие и вызывать скорее положительные, нежели отрицательные эмоции. Другими словами, страдания врага могут выступать в качестве своеобразной формы подкрепления. Таким образом, когда гнев силен, страдания жертвы не в состоянии предотвратить агрессию в последующих актах насилия: напротив, они могут способствовать ее проявлению.
Можно сказать, что страдания жертвы, а также сила гнева агрессора и кажущаяся праведность совершаемых им действий могут действовать друг на друга при принятии решений по поводу открытой агрессии в том случае, когда на агрессоров влияют последствия совершенных ими поступков. Возможность подобного взаимодействия была исследована в целой серии работ с помощью прибора, известного под названием «измеритель интенсивности боли». У этого прибора есть шкала с делениями, описывающими уровень боли, которую испытывает другой человек под воздействием неприятных раздражителей (например, ударов электрическим током). На самом же деле все показания контролируются исследователем и систематически изменяются так, чтобы создалось впечатление о контрастных уровнях боли и дискомфорта, испытываемых реципиентом.
В исследованиях с использованием этой аппаратуры испытуемые из различных групп ощущали на себе влияние очень контрастных уровней сигналов о боли (показаний на шкале прибора), нажимая на разные кнопки на «машине агрессии». Например, для испытуемых, поставленных в экспериментальные условия «сигналы о сильной боли», нажатие кнопки 5 на «машине агрессии» приводило к появлению на шкале надписи «сильная боль». Напротив, испытуемые, поставленные в условия «сигналы о слабой боли», после нажатия аналогичной кнопки могли прочесть надпись «умеренная боль».
Для того чтобы проверить гипотезу, согласно которой сильно раздраженные индивиды на сигналы о боли будут отвечать усилением агрессии, а нераздраженные — ослаблением, в нескольких экспериментах помощник экспериментатора получал задание разозлить испытуемых на первой стадии эксперимента, т.е. до того как им представилась бы возможность отомстить ему. В состояние сильного гнева испытуемых приводили грубые замечания по поводу выполнения ими задания и негативные оценки их работы. Испытуемые, которые в соответствии с целями эксперимента не должны были испытывать гнева, не слышали подобных замечаний и получали нейтральные оценки за выполнение задач. На половину испытуемых из каждой группы во время агрессивных нападок на своего обидчика воздействовали сигналами о боли (измеритель интенсивности боли показывал «сильную боль»). Другие испытуемые не попадали под влияние подобных сигналов.
Как и предполагалось, испытуемые, не подвергавшиеся раздражению, реагировали менее агрессивно, если регистрировали сигналы о боли, поступающие от своих жертв. Напротив, подвергавшиеся раздражению демонстрировали большую агрессию при наличии сигналов о боли, нежели при их отсутствии. Результаты опросников, заполненных после эксперимента, наводят на мысль о том, что такое действие объясняется эмоциональной реакцией испытуемых на сигналы о боли, поступающие со стороны их жертв. Согласно самоотчетом испытуемых, спровоцированных на начальном этапе эксперимента, появление сигналов о боли улучшило их настроение (например, они чувствовали себя счастливее, комфортнее и более расслабленно при наличии сигналов о боли, нежели в их отсутствие). Однако среди испытуемых, не подвергавшихся раздражению, сигналы о боли вызывали ухудшение настроения.
Эти результаты, как и данные других исследований, показывают, что сигналы о боли и эмпатия, возникающая в результате их появления, иногда могут быть эффективным средством для снижения уровня открытой агрессии. Жертвы, плачущие от боли, умоляющие о пощаде или посылающие сигналы о своем страдании другим способом, зачастую добиваются прекращения агрессивных действий по отношению к себе. Но, по всей видимости, этот метод оправдывает себя только в тех случаях, когда агрессоры до этого не подвергались сильному раздражению. Если же агрессоры перед этим подвергались сильным провокациям, попытки уменьшить агрессию посредством прямой обратной связи со стороны жертвы могут сыграть противоположную роль и только усилить интенсивность действий, которые собирались предотвратить.
Юмор и смех
Многим из нас приходилось сталкиваться со следующей ситуацией. Нас раздражает или выводит из себя какой-то человек, затем совершенно неожиданно он делает или говорит что-то, что нас смешит. Когда это происходит, наше раздражение ослабевает. Такие случаи наводят на мысль о том, что юмор и вызываемый им смех могут быть еще одной реакцией, несовместимой с открытой агрессией.
Эта гипотеза подвергалась проверке в различных исследованиях. В самом первом из них, непосредственно посвященном данной проблеме, помощник экспериментатора старался разозлить мужчин-испытуемых в одной из двух групп. Затем, прежде чем предоставить им возможность ответить на действия помощника с помощью «машины агрессии», обеим группам предъявляли один из двух наборов стимульного материала.
Один набор стимулов представлял собой нейтральные изображения — пейзажи, интерьеры, произведения абстрактного искусства — и оказывал очень незначительное воздействие на эмоциональное состояние испытуемых. Другой набор стимулов являл собой целую серию довольно смешных комиксов. Результаты не вызывали сомнений: как и предполагалось, рассерженные испытуемые, рассматривавшие карикатуры, в отличие от рассматривавших нейтральные фотографии, демонстрировали более низкий уровень агрессии по отношению к помощнику экспериментатора. Кро ме того, по сообщениям испытуемых, рассматривавших карикатуры, у них отмечался более низкий уровень гнева и раздражения, они чувствовали себя.более веселыми и испытывали другие положительные чувства.
На основании ряда лабораторных исследований [449, 173—182] показано, что шутка, добродушный смех могут уменьшить агрессию.
Однако некоторые исследователи сообщают о том, что предъявление юмористического стимульного материала может усиливать агрессию в последующих актах насилия. Чем же объясняется это очевидное противоречие?
Одно из возможных объяснений заключается в следующем: усиление агрессии продемонстрировали те эксперименты, где в юмористических сюжетах, используемых в качестве стимульного материала, прослеживались темы враждебности и агрессии, например, как один человек унижает другого. В исследовании Бэрона и Белла, напротив, смех вызывали глупые и нелепые действия героев комиксов, враждебных отношений в этих сюжетах не было. Согласно теории несовместимых реакций, способствовать снижению агрессии могут юмористические сюжеты, аналогичные описанным в исследовании Бэрона и Белла. Шутки неприязненного и оскорбительного содержания могут вызывать чувства и настроения, совместимые с агрессией.
Это объяснение подверглось проверке в нескольких исследованиях, стандартная процедура которых состояла в том, что испытуемым, прежде чем предоставить им возможность отомстить провокатору, предъявляли стимульные материалы юмористического содержания. Часть юмористических сюжетов отличалась явно выра- - женной враждебностью, в других элемент враждебности прослеживался меньше, а третьи вообще ее не имели. Результаты не вызывают сомнений: когда в юмористических материалах сюжет основан на враждебности и неприязни, уровень агрессии после их просмотра не уменьшается, а в некоторых случаях даже увеличивается. Напротив, когда в юмористических материалах подобных тем нет, уровень агрессии в последующих актах насилия уменьшается.
В целом существующие данные свидетельствуют о том, что в некоторых случаях смех действительно может быть «лучшим из лекарств», когда дело касается агрессии. Однако чтобы произвести такой благоприятный эффект, сюжеты юмористических материалов не должны своей основой иметь враждебность или агрессию. В противном случае влияние юмора как способа подавить агрессию может быть полностью элиминировано.
Сексуальное возбуждение
Во многих странах журналы, афиши, телевизионные объявления заполнены фотографиями притягивающих внимание полуодетых женщин и мужчин. Подоплека такой рекламы вполне ясна: большинство людей не в состоянии игнорировать подобные стимулы, они весьма привлекательны. Ощущение возбуждения, вызванное этими эротическими стимулами, может предполагаться как еще один тип реакции, несовместимой с гневом и открытой агрессией. Этот вариант гипотезы несовместимых реакций также привлек внимание исследователей.
Однако самые первые исследования, посвященные проблеме влияния сексуального возбуждения на агрессию, представили противоречивые, на первый взгляд, результаты. С одной стороны, некоторые исследования показали, что демонстрация эротических стимулов может действительно снижать уровень агрессии в последующих актах насилия разгневанных индивидов. Другие же работы, напротив, продемонстрировали, что на самом деле предъявление сексуально ориентированных материалов приводит к усилению интенсивности последующей реакции. Одно из возможных объяснений этих противоречивых результатов — разнородность сексуальных стимулов, которые использовались в этих двух группах исследований.
Исследователи, сообщившие о снижении уровня агрессии после просмотра эротических материалов, в своих экспериментах предъявляли испытуемым изображения весьма мягких форм эротики — например, фотографии привлекатель-
ных обнаженных женщин и мужчин из журналов «Плейбой» и «Плейгерл». Те же, кто отмечал усиление дальнейшей афессии, в качестве стимульного материала использовали материалы откровенно сексуального характера — например, эротические рассказы, пышущие страстью, живо и во всех деталях описывающие сексуальные отношения. Вполне возможно, что мягкие формы эротики порождают приятное чувство возбуждения, несовместимое с гневом и открытой агрессией, в то время как жесткая эротика (порнофафия) вызывает сложные реакции: положительные чувства сочетаются с реакциями отвращения. Более того, демонстрация сильно возбуждающих сексуальных материалов в условиях, когда индивиды не в состоянии разрядить такое возбуждение, может сама по себе привести к фрустрации.
Таким образом, уже первые исследования по проблеме возможного влияния сексуальных стимулов на уровень афессии дают возможность сделать следующее теоретическое заключение: умеренный уровень сексуального возбуждения действительно способствует снижению уровня афессии, как и предполагает гипотеза несовместимых реакций. Однако высокие уровни возбуждения, вызванные более откровенным материалом, могут вызвать отрицательные реакции и сильное возбуждение, которое не уменьшает афессию.
Чтобы проверить опытным путем это заключение, Бэрон и Белл провели эксперимент, на первой стадии которого мужчин-испытуемых провоцировал помощник экспериментатора. Затем различным группам испытуемых, прежде чем им была предоставлена возможность ответить на действия этого человека, предъявлялись резко отличающиеся типы эротических стимулов. Одна груша смотрела нейтральные (не возбуждающие) фотографии — изображения пейзажей и интерьеров. Вторая — фотографии очаровательных девушек в купальных костюмах и неглиже. Третья — фотографии обнаженных красавиц. В еще двух группах либо смотрели фотографии, на которых были изображены половые акты между мужчинами и женщинами, либо читали рассказы с откровенно сексуальной тематикой.
Результаты подтвердили вышеизложенную гипотезу: умеренное сексуальное возбуждение (вызванное фотофафиями полуобнаженных и обнаженных девушек) уменьшало афессию. Напротив, сильное возбуждение (т.е. возникшее в результате откровенно сексуальных пассажей) не стало средством, способным уменьшить афессию, напротив, оно даже повысило ее уровень.
Подобные результаты были получены в ходе последующих экспериментов, проводившихся с участием женщин. Таким образом, можно сказать, что нелинейная связь между уровнем сексуального возбуждения и уровнем агрессии характерна для обоих полов. Как и прогнозирует гипотеза несовместимых реакций, умеренные сексуальные стимулы вызывают положительные чувства, ведущие к снижению уровня агрессии в дальнейшем поведении. Напротив, откровенные сексуальные стимулы генерируют высокие уровни возбуждения, которые могут вызвать фрустрацию, а также смешение положительных и отрицательных реакций. Таким образом, эти стимулы не только не уменьшают агрессию, а могут даже усилить ее [32, 316—322].
Итак, индукция реакций, несовместимых с гневом или открытой агрессией, может служить эффективным способом ее ослабления: в результате эмпатии, просмотра юмористических материалов и при умеренной эротической стимуляции. Средством индукции несовместимых реакций может также послужить неожиданный подарок и ненавязчивая похвала.
КОНФЛИКТОГЕНЫ И КОНФЛИКТЫ
Старайся убеждать, а не принуждать.
Те, кого ты убедил, будут твоими друзьями.
Те, кого ты принудил, станут твоими врагами.
Анаксарх
Нападение в значительной части случаев приводит к конфликту между общающимися. Поэтому естественно рассмотреть закономерности возникновения конфликтов, способы их предотвращения и разрешения.
При этом необходимо разделить два принципиально различных вида конфликтов — случайные и неслучайные. Признаки случайных конфликтов:
они возникают неожиданно для всех участников;
никто из них не заинтересован в конфликте, так как в подобных конфликтах нет победителей и все — в проигрыше.
Мы начнем рассмотрение случайных конфликтов.
Конфликтогены как средство нападения
Во многих случаях конфликты действительно возникают помимо желания их участников. Происходит это из-за особенностей нашей психики и того, что большинство людей не знают о них. Решающую роль в возникновении случайных конфликтов играют конфликтогены и закономерность их эскалации. Конфликтогенами мы называем слова, действия (или бездействие, если требуется действие), могущие привести к конфликту [177, 12].
Слово «могущие» является здесь ключевым, раскрывающим опасность конф- ликтогенов. То, что они не всегда приводят к конфликту, притупляет нашу бдительность по отношению к ним. Например, неучтивое обращение не всегда вызывает конфликт, многие надеются, что «сойдет». Однако нередко оно приводит к конфликтам.
Природу и коварство конфликтогенов можно объяснить так. Мы значительно более чувствительны к словам других, нежели к тому, что говорим сами. Бытует мнение, что женщины не придают никакого значения своим словам, зато придают огромное значение тому, что слышат сами. На самом деле этим грешим все мы, а не только представительницы прекрасного пола.
Наша особая чувствительность относительно обращенных к нам слов происходит из желания защитить себя, свое достоинство от возможного посягательства. Но мы не гак бдительны, когда дело касается достоинства других, и потому не столь строго следим за своими словами и действиями.
Имеет место очень важная закономерность эскалации конфликтогенов [177, 13].
На конфликтоген в наш адрес мы стараемся ответить более сильным конф- ликтогеном.
Такую закономерность можно объяснить следующим образом. «Получив» а свой адрес конфликтоген, пострадавший хочет компенсировать свой психологический проигрыш, испытывает желание избавиться от возникшего раздражения, ответив обидой на обиду. При этом ответ не должен быть слабее, а для уверенности делается даже с «запасом»: трудно ведь удержаться от соблазна проучить обидчика, чтобы впредь не позволял себе подобного. В результате сила конфликтогенов стремительно нарастает.
К сожалению, мы так устроены — болезненно реагируем на обиды и оскорбления, проявляем ответную агрессию.
Безусловно, требованиям высокой морали более отвечает умение сдерживаться, а еще лучше — прощать обиды. К этому призывают все религии и этические учения, однако, несмотря на все увещевания, воспитание и обучение, число желающих «подставить другую щеку» не увеличивается.
Ведь потребность в безопасности, желание чувствовать себя комфортно, не ронять достоинства относятся к числу основных потребностей человека, и потому покушение на них воспринимается крайне болезненно.
За что ратует автор? Призывает учиться противиться эскалации конфликтогенов, показывая (см. далее), как этого достичь, поскольку игнорирование закономерности эскалации конфликтогенов — это прямая дорога к конфликту. Хотелось бы, чтобы каждый из нас постоянно помнил об этом. Тогда конфликтов будет меньше, и в особенности тех, в которых по большому счету не заинтересован ни один из его участников.
Нередко на занятиях, которые автор часто проводит по данной теме, слушатели сравниваю! закон эскалации конфликтогенов с известным законом механики: сила противодействия равна действующей силе, но противоположна по направлению.
Здесь действительно много общего, но есть и принципиальные отличия. Первое заключается втом, что у людей противодействие обычно сильнее действия (а не равно ему); второе — в том, что закон механики действует независимо от нашей воли, а эскалацию конфликтогенов мы все же можем остановить, это нам подвластно.
Универсальная схема возникновения случайных конфликтов
Рис.
16.1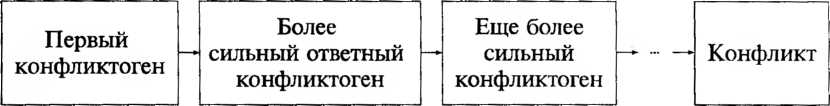
Эта схема помогает понять, почему в большинстве случаев конфликт возникает как бы самопроизвольно, вне желания его участников.
Первый конфликтоген часто появляется ситуативно, помимо воли участников, а дальше вступает в действие эскалация конфликтогенов... и конфликт уже налицо.
Житейская ситуация: Муж случайно задел стоящую на краю стола чашку, она падает на пол.
Экий ты неуклюжий! Всю посуду в доме перебил, — слышит он голос жены.
Потому что все не на своем месте! И вообще в доме бардак!
Если бы от тебя хоть какая-то помощь была! Я целый день на работе, а тебе с твоей мамочкой только бы указывать!
Результат неутешительный: настроение у обоих испорчено и вряд ли супруги довольны таким поворотом событий.
Фактически этот эпизод состоит сплошь из конфликтогенов. Первый из них — бездействие того, кто должен был убрать чашку с края стола. Неловкость мужа — следующий конфликтоген, он может привести, а может и не привести к конфликту. Все зависит от реакции жены. А она в соответствии с законом эскалации не только не пытается разрядить ситуацию, но и в своем замечании от частного случая переходит к обобщению, «наличность». Пытаясь оправдаться, муж поступает так же, действуя по принципу: лучшая защита — нападение. Язвительное упоминание о «мамочке» — это уже конфликт.
Схема на рис. 16.1 подсказывает и пути предотвращения конфликтов.
Четыре правила бесконфликтного поведения
Избегайте употребления конфликтогенов.
Поставьте себя на место собеседника: не обиделись бы вы, услышав что-либо подобное? Допустите вероятность того, что положение этого человека в чем-то уязвимее вашего.
Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген.
Помните: если не остановитесь сейчас, то позднее сделать это будет практически невозможно — ведь нарастает сила конфликтогенов стремительно!
Проявляйте эмпатию к «обидчику».
Вполне вероятно, что он не хотел вас обидеть — просто проявилось коварство конфликтогенов.
Делайте как можно больше благожелательных посылов в адрес партнера, собеседника [177, 17—18].
Благожелательный посыл — понятие, противоположное конфликтогену. Это все, что поднимает настроение человека: похвала, комплимент, дружеская улыбка, внимание, интерес к личности, сочувствие, уважительное отношение и т.п. Нередко упреждающая информация, разъяснение предупреждают появление конфликтогенов.
Несколько слов о гормональной основе наших состояний.
Конфликтогены настраивают нас на борьбу, что сопровождается выделением в кровь адреналина, придающего нашему поведению агрессивность. Благожелательные посылы настраивают нас на комфортное, бесконфликтное общение, они вызывают выделение так называемых «гормонов удовольствия» — эндорфинов.
Каждый из нас нуждается в положительных эмоциях, поэтому последующие слова и действия человека, одарившего нас благожелательными посылами, воспринимаются без предубеждения.
Каталог конфликтогенов
Правила 1 и 2 бесконфликтного общения легче выполнить, когда знаешь, что может послужить конфликтогеном. Этому способствует их классификация [186, 247-253].
Конфликтогены подразделяются на пять типов: стремление к превосходству; проявление агрессивности; проявление эгоизма; нарушение правил; неблагоприятное стечение обстоятельств.
Первые четыре типа объединяет то, что конфликтогены инициированы личными причинами и проявляют себя при решении психологических проблем или желании достичь каких-то целей (психологических или прагматических). В пятом типе конфликтогенов примешиваются внешние причины.
Стремление к превосходству
Непосредственные проявления превосходства: приказание, угроза, замечание или любая другая отрицательная оценка, критика, обвинение, насмешка, издевка, сарказм.
Снисходительное отношение, т.е. проявление превосходства, но с оттенком доброжелательности: «Не обижайтесь», «Успокойтесь», «Как можно этого не знать?», «Неужели вы не понимаете?», «Вы умный человек, а поступаете...» Одним словом, забвение известной мудрости: «Если ты умнее других, то никому не говори об этом». Конфликтогеном является и снисходительный тон.
Муж, скажем, похвалил жену за вкусный обед. Л она обиделась, потому что сказано это было снисходительным тоном и она почувствовала себя кухаркой.
Хвастовство, т.е. восторженный рассказ о своих успехах, истинных или мнимых, вызывает раздражение, желание «поставить на место» хвастуна.
Категоричность, безапелляционность — проявление излишней уверенности в своей правоте, самоуверенности и предполагает подчинение собеседника. Сюда относятся любые высказывания категоричным тоном, в частности, такие: «Я считаю...», «Я уверен...» Не являются конфликтогенами высказывания, отличающиеся меньшим напором: «Я думаю...», «Мне кажется...», «У меня сложилось впечатление...» и т.п.
Конфликтогенами данного вида являются и безапелляционные фразы типа: «Все мужчины — подлецы!», «Все женщины — обманщицы!», «Все воруют!», «...и закончим этот разговор!»
Категоричность родителей в их суждениях о принятой в среде молодежи музыке, одежде, манере поведения может оттолкнуть от них детей. Или такой разговор. Мать говорит взрослой дочери: «Твой новый знакомый тебе не пара!» Дочь в ответ грубит матери. Не исключено, что она и сама видит недостатки своего знакомого, но именно категоричность вердикта матери порождает протест. По-видимому, другую реакцию вызвали бы слова матери: «Мне кажется, он несколько самоуверен, берется судить о том, в чем плохо разбирается. Но, может быть, я ошибаюсь, время покажет».
Навязывание своих советов: советующий, по существу, занимает позицию превосходства. Есть правило: давай совет лишь тогда, когда тебя об этом просят.
Водитель троллейбуса в порядке инициативы взяла на себя дополнительную обязанность — во время следования по маршруту просвещать пассажиров по разным темам: правилам дорожного движения, правилам хорошего тона и т.п. Динамик в салоне не умолкал, бесконечно повторяя прописные истины. Пассажиры выражали дружное возмущение таким навязчивым «сервисом», многие жаловались, что выходили из троллейбуса в скверном настроении.
Перебивание собеседника, повышение голоса или когда один поправляет другого — тем самым показывается, что его суждения более ценны, чем мысли других, именно его надо слушать.
Поучителен сюжет, связанный с Эйнштейном. Ученый имел маленькую записную книжечку, в которую записывал пришедшие в голову мысли. «Почему она у вас такая маленькая?» — спросили его. «Потому, — ответил выдающийся ученый, — что хорошие мысли приходят очень редко».
Эта история — напоминание любителям навязывать свою точку зрения: хорошие мысли бывают, может быть, и у них гораздо реже, чем они полагают.
Утаивание информации по разным причинам. Например, руководителем от подчиненных из благих побуждений, чтобы Не расстраивать их плохими новостями. Но отсутствие информации вызывает состояние тревоги. Однако природа не терпит пустоты, и возникший вакуум заполняется домыслами, слухами, сплетнями, которые бывают еще далеко не худшего свойства. Но более важно то, что возникает недоверие к сокрывшему информацию.
Подшучивание: обычно его объектом становится тот, кто почему-либо не может дать достойный отпор. Любители насмешек, видно, забывают, что уже в древности осуждался порок злого языка. Так, в первом псалме Давида насмешники осуждаются наряду с безбожниками и грешниками. И не случайно: осмеянный будет искать возможность сквитаться с обидчиком.
Напоминание о чем-либо неприятном для собеседника. Оно может быть и непреднамеренным.
Известны случаи парадоксального поведения, когда спасенный по прошествии определенного времени убивал своего спасителя. Объясняется этот парадокс тем, что, видя спасшего его, человек всякий раз заново переживал состояние своей беспомощности, и чувство благодарности постепенно вытеснилосъраздражением, ощущением ущербности по сравнению с человеком, которому должен быть благодарен всю жизнь.
Это, конечно, случаи из числа исключительных. Но еще Тацит сказал: «Благодеяния приятны только тогда, когда знаешь, что можешь за них отплатить; когда же они непомерны, то вместо благодарности воздаешь за них ненавистью». Не случайно христианские заповеди (и не только они) призывают делать добро не ради желания получить благодарность, а для собственной души. Сделав добро другому, освободите его от необходимости быть обязанным вам за сделанное, ибо, как сказал Ф. Шиллер, «благодарность забывчивей всего».
Изложенный выше перечень конфликтогенов данного типа показывает, что кроме общности цели их объединяет и метод: «пристройка сверху», подчеркивание своего преимущества за счет принятия позиции «Родитель» (см. об этом в главе о трансактном анализе).
Проявление агрессивности
Агрессия может проявляться как черта личности и ситуативно, как реакция на сложившиеся обстоятельства. Соответственно различают агрессивность природную и ситуативную.
Природная агрессивность. Я знал одного незаурядного руководителя, который признавался, что если он с утра не отругает кого-либо, то не может весь день работать. К сожалению, он не одинок, некоторым людям, действительно, агрессивность присуща от природы.
Человек с повышенной агрессивностью конфликтен, это «ходячий конфликтоген».
Человек же с агрессивностью ниже средней рискует добиться в жизни намного меньшего, чем достоин.
Полное отсутствие агрессивности граничит с апатией или с бесхарактерностью, ибо означает отказ от любой борьбы. Вспомним, к примеру, главного героя фильма «Осенний марафон»: мучается сам, мучает близких ему людей — и все из- за слабоволия, неспособности настоять на своем.
Но, к счастью, людей, агрессивных от природы, меньшинство. В большинстве случаев имеют место проявления лишь ситуативной агрессивности.
Ситуативная агрессивность — это и ответ на внутренние конфликты, вызванные сложившимися обстоятельствами: неприятностями (личными или по работе), плохим настроением и самочувствием, а также ответная реакция на полученный конфликтоген.
Ситуативная агрессивность может быть внешним проявлением фрустрации. Она возникает вследствие реальной или воображаемой помехи, препятствующей достижению цели или как результат переживания неудачи. Фрустрация нередко становится причиной неврозов.
Агрессивность самым негативным образом влияет на человеческие взаимоотношения. Как с ней бороться — расскажем ниже.
Отметим, что конфликтогены типа «стремление к превосходству» и «проявление эгоизма» можно также отнести к одной из форм афессии — скрытой афессии. Ибо они — проявления посягательства, хотя и завуалированного, на достоинство человека, его интересы. В силу эскалации конфликтогенов скрытая агрессия получает отпор в виде явной, более сильной афессии.
Проявление эгоизма
Всевозможные проявления эгоизма являются конфликтогенами, поскольку эгоист добивается чего-то для себя (обычно за счет других), и эта несправедливость, конечно, служит почвой для конфликтов.
Эгоизм — это ценностная ориентация субъекта, характеризующаяся преобладанием своекорыстных личных интересов и потребностей безотносительно к интересам других людей: они становятся объектом и средством достижения эгоистических целей. '
Превращение эгоизма в доминанту личности объясняется серьезными дефектами воспитания индивида. Завышенная самооценка и эгоцентризм закрепляются еще в детском возрасте, в результате чего личностью принимаются в расчет только ее собственные интересы, потребности, переживания и т.п. В зрелом возрасте подобная сосредоточенность на своем «Я», себялюбие и полное равнодушие к внутреннему миру других людей приводит к отчуждению от окружающих.
В час пик трудно войти в автобус из-за скопления пассажиров непосредственно у дверей, хотя в середине салона свободно. Просьбы продвинуться в глубь салона, дабы дать возможность войти и другим желающим, наталкиваются на «а мне через три остановки выходить». Не помогают и увещевания, что еще будет время и возможность поменяться местами.
Что это, как не массовое проявление эгоизма? Лень пошевелиться («вам нужно, вы и проходите»), а каково другим — об этом ни тени мысли. Причем «сознание» у многих меняется сразу, как только изменилось их положение: пока не вошел — требует продвинуться, как только вошел — сам перестал продвигаться, невзирая на просьбы пытающихся войти следом.
Противоположным эгоизму понятием является альтруизм. Это ценностная ориентация личности, при которой центральным мотивом и критерием нравственной оценки являются интересы других людей.
Выделим несколько видов проявлений эгоизма:
Обман или попытка обмана — средство добиться цели нечестным путем;
Перекладывание ответственности на другого человека.
Студент попросил друга взять на хранение большую сумму в долларах. Тот спрятал ее у себя в книгах. Вскоре к нему приехал родственник, который случайно обнаружил доллары. Заменив их фальшивыми, он, сославшись на изменившиеся обстоятельства, уехал. Когда друг зашел за деньгами, возник сильнейший конфликт.
Один переложил ответственность за сохранность денег на другого, а тот согласился, не имея на то необходимых условий.
Нарушение правил
Собственно говоря, правила для того и установлены, чтобы предотвращать конфликты. Наиболее важные для современного человека правила — это правила этики, трудового распорядка, общежития, дорожного движения, техники безопасности, пожарной безопасности и др.
Нарушения этики могут быть намеренными или непреднамеренными. Причинил неудобство, но не извинился; не предложил посетителю присесть; не поздоровался или здоровался с одним и тем же несколько раз в течение дня. «Влез» без очереди, используя знакомого или свое начальственное положение. Использовал чужую мысль, но не сослался на автора, и т.д.
Неблагоприятное стечение обстоятельств
Это те случаи, когда первый конфликтоген может возникнуть помимо чьего- либо желания.
Обстоятельства рассматриваемого типа: очередь, контакт с раздраженным человеком, неприятное известие или происшествие, невозможность выполнить обещанное, неожиданное изменение обстановки, скверная погода (жара, холод, гололед, сильный ветер), недостатки в работе общественного транспорта и т.п. В частности, при тесноте в общественном транспорте — могут толкнуть, наступить на ногу. Но даже и без этих нарушающих душевное равновесие факторов расположе н ие пассажиров вплотную друг к другу — уже само по себе конфликтоген.
Исследования американского антрополога Э. Т. Холла показали, что каждый человек определенную территорию вокруг себя воспринимает как личное пространство. Оно является как бы продолжением его тела, как забор, окружающий дом. Зона эта называется интимной, протяженность ее — до 46 см, она доступна родителям, детям, супругам, любовникам. В этой зоне находится подзона радиусом 15см, которая называется сверхинтимной. В нее-mo (без разрешения!) «проникают» совершенно чужие люди, волей случая оказавшиеся соседями по поездке.
Таким образом, многочисленные конфликты в общественном транспорте вполне закономерны.
Как не создавать конфликтогены
Не стремитесь к превосходству. Выдающийся китайский мыслитель Лао-Цзы учил: «Реки и ручьи отдают свою воду морям потому, что те ниже их. Так и человек, желая возвыситься, должен держать себя ниже других».
Поэтому полезно помнить, что любые проявления превосходства — это прямая дорога к конфликтам, поскольку человек — источник конфликтогенов вызывает негативную реакцию окружающих.
Замечательна мысль, высказанная Буддой: «Истинная победа та, когда никто не чувствует себя побежденным». Ведь побежденный будет стремиться взять реванш, отомстить. То есть победа одного толкает его жертву на ответную агрессию.
Как укротить свою агрессию. Накопившееся раздражение требует выхода. Однако выплеснувшись в виде конфликтогена, приводит к конфликту. Лев Толстой точно подметил: «То, что начато в гневе, кончается в стыде».
Но не «выпускать пар» вредно для здоровья: гипертония, язва желудка и двенадцатиперстной кишки — болезни от сдерживаемых эмоций. Говорят: «Язва желудка — не от того, что едим мы, а от того, что ест нас».
Итак, эмоции требуют выхода, и подобная разрядка необходима человеку. Но «разрядиться» на окружающих — это не выход, а выходка.
Есть три способа снять свою накопившуюся агрессивность.
Пассивный способ состоит в том, чтобы «поплакаться» кому-то, пожаловаться, - выговориться. Терапевтический эффект этого огромен. Женщины в этом отношении находятся в более выгодных условиях: считается, что мужчине не пристало жаловаться, а тем более плакать. А слезы снимают внутреннее напряжение, ибо с ними выводятся опасные ферменты — спутники стресса. Дать облегчение — это одна из важнейших функций слез.
Найдите человека, который с сочувствием вас выслушает, и вам станет гораздо легче. Среди ваших близких всегда найдется такой человек. Расскажите вечером супругу (супруге) о дневных неприятностях, это не только успокоит вас: такая открытость укрепляет семью.
Активные способы основываются на движении. Адреналин — спутник напряжения — «сгорает» во время физической работы. Лучше всего той, которая связана с разрушением целого, рассечением его на части: копка земли, работа топором и пилой, косьба.
Из спортивных занятий быстрее всего снимают агрессивность те виды, которые включают удары: бокс, теннис (большой и настольный), футбол, волейбол, бадминтон.
Даже наблюдение за соревнованиями дает выход агрессии. Болельщики испытывают те же эмоции, что и играющие: их мышцы непроизвольно сокращаются, словно они сами борются на площадке. Эти эмоции и физическая нагрузка «сжигают» излишки адреналина.
Очень полезны так называемые циклические упражнения, связанные с многократным повторением элементарных движений: неторопливый бег, быстрая ходьба, плавание, велосипед. Поглощая значительное количество энергии, эти занятия эффективно снимают нервное напряжение. Каким бы ни было раздражение перед началом бега, уже на 2—3-м километре всегда наступает облегчение, приходит простая мысль: «Жизнь прекрасна! Все остальное — мелочи».
Увлечения типа «кто кого победит» (охота, рыбалка), чтение детективов, просмотр триллеров тоже неплохо снимают агрессивность.
Большинство из приведенных рекомендаций все же легче реализовать мужчинам, они им более интересны.
Для женщин можно дополнительно рекомендовать аэробику (не профессионально-спортивную, чреватую травмами, а любые упражнения под музыку) или танцы. Если уж совсем невмоготу — грохните об пол тарелку, чашку, из тех, что не жалко. Сразу почувствуете большое облегчение. (Любопытно, что за рубежом можно купить крайне дешевую посуду, специально предназначенную для битья.)
Отсутствие возможности избавиться от заряда агрессивности не только вредно, но и мешает полноценно жить, работать. Чтобы снять раздражение на работе, японцы придумали следующий способ. В специальной комнате размещены мане-
кены руководителей — от директора до бригадиров. Любой работник может отдубасить любого представителя администрации, для этого имеется набор палок, плеток. Такая психологическая разгрузка улучшает атмосферу в коллективе, повышает производительность и качество труда.
Логический способ погасить агрессивность эффективен преимущественно для сугубо рациональных людей, предпочитающих логику всему остальному. Для такого человека главное — докопаться до сути явления, отгонять от себя неприятные мысли — себе дороже. Ему лучше именно сосредоточиться на неприятностях, а все остальные дела отложить на время, пока не найдется выход из сложившейся ситуации. Уже сама эта аналитическая работа успокаивает, так как отнимает много энергии. Кроме того, человек занимается привычным (и достаточно любимым) делом — размышляет. В результате негативные эмоции отступают.
Как обуздать эгоизм
Любовь к себе присуща любому нормальному человеку. Каждый должен заботиться о себе, чтобы не стать обузой для других. Например, заботиться о своем здоровье, будущем, благосостоянии и т.п. «Эгоизм заключается не в любви самого себя, а в большей, чем должно, степени этой любви», — говорил Аристотель.
У эгоиста любовь к себе гипертрофирована, достижение каких-либо целей осуществляется за счет других людей. Обычно, поступая эгоистично, человек преследует свои личные цели, достижение каких-то благ. Однако при этом он теряет доброе имя. Приобретая репутацию эгоиста, в дальнейшем он теряет еще больше: он оказывается как бы в вакууме, у него не остается друзей, все дается ему намного труднее, чем другим. В итоге он в проигрыше.
Почетна победа, которую одерживают над своим эгоизмом.
Неслучайные конфликты
Анализ большого числа конфликтов показывает, что конфликтующие, как правило, не могут сформулировать истинные причины конфликта, «зацикливаясь» на наиболее возмущающих их моментах, лежащих на поверхности и являющихся следствием более глубоких причин. Понятно, что лечение без установленного диагноза обрекает конфликт на худший исход.
Формулы конфликтов
Все неслучайные конфликты описываются двумя формулами [186, 257—260].
Первая формула конфликта:
Конфликтная ситуация + Инцидент -» Конфликт
Здесь (и далее): Конфликтная ситуация — это накопившиеся противоречия, содержащие первопричину конфликта. Инцидент — стечение обстоятельств, ставшее поводом для конфликта. Конфликт — это открытое противоборство как следствие взаимоисключающих интересов.
Конфликтная ситуация и инцидент — явления, не зависящие друг от друга: ни одно из них не является следствием или проявлением другого (см. рис. 16.2, а).
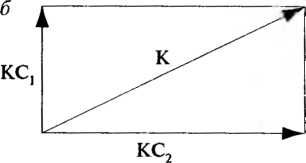
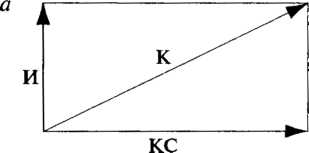 Рис.
16.2.
Первая (о) и вторая (б) формулы конфликта.
Рис.
16.2.
Первая (о) и вторая (б) формулы конфликта.
Обозначения: К — конфликт, И — инцидент, КС, КС, КСг — конфликтные ситуации.
Из приведенной формулы следует, что разрешить конфликт — это значит:
устранить конфликтную ситуацию;
исчерпать инцидент.
Понятно, что первое сделать сложнее, но и более важно.
К сожалению, на практике в большинстве случаев дело ограничивается лишь исчерпанием инцидента.
Случай из практики.
Между двумя сотрудниками не сложились отношения. В разговоре один употребил неуместные слова, второй обиделся, хлопнул дверью и написал жалобу’ на первого. Руководитель вызвал обидчика и заставил его извиниться. «Инцидент исчерпан», — заявил руководитель удовлетворенно, имея в виду, что конфликт разрешен. Так ли это?
Обратимся к формуле конфликта. Конфликт здесь — жалоба, конфликтная ситуация — несложившиеся отношения между сотрудниками, инцидент — случайно сказанные слова. Заставив извиниться, руководитель действительно исчерпал иннидент, хотя имел в виду, что разрешил конфликт.
А конфликтная ситуация? Она не только осталась, но и усугубилась. Ведь обидчик не считал себя виноватым, но вынужден был извиниться, отчего антипатия его к пострадавшему только увеличилась. Тот, в свою очередь, понимая неискренность принесенного извинения, только ухудшил свое отношение к обидчику.
Таким образом, сгладив инцидент, руководитель не разрешил конфликт, а усилил конфликтную ситуацию (несложившиеся отношения) и тем самым увеличил вероятность новых конфликтов между этими работниками.
Конфликт между людьми можно уподобить сорняку на грядке в огороде: конфликтная ситуация — это корень сорняка, а инцидент — та часть, что на поверхности. Оборвав ботву сорняка, но оставив корень, мы только стимулируем его работу по вытягиванию из почвы питательных веществ, так необходимых культурным растениям. Да и найти сам корень после этого труднее. Так и с конфликтом: не устранив конфликтную ситуацию, мы создаем условия для углубления конфликта.
Вторая формула конфликта:
Соединение двух (или более) конфликтных ситуаций приводит к конфликту.
Конфликтные ситуации независимы, не вытекают одна из другой. Эта формула (рис. 16.2, б) дополняет первую формулу, в соответствии с которой каждая из конфликтных ситуаций в своих проявлениях играет роль инцидента для другой.
Из формул конфликта видно, что конфликт происходит, когда действует более чем одна его составляющая. Поэтому в случае, когда имеет место неустранимая конфликтная ситуация, для предотвращения конфликта следует не допускать возникновения инцидента или проявления действия других конфликтных ситуаций.
Правила формулирования конфликтной ситуации
Поскольку конфликтная ситуация содержит первопричину конфликта, то ключевую роль в разрешении конфликта играет правильное формулирование конфликтной стуации.
Приведем правила, делающие эту процедуру наиболее эффективной для разрешения конфликта.
Конфликтная ситуация — это то, что подлежит устранению.
Следовательно, не годятся формулировки типа: конфликтная ситуация — «в
этом человеке», «в социально-экономической ситуации», «в нехватке автобусов на линии» и т.п., ибо мы не имеем никакого права устранять человека вообще, социально-экономическую обстановку в одиночку ни один из нас не изменит, числа автобусов на линии не увеличит и т.д.
Конфликтная ситуация всегда предшествует и инциденту, и конфликту (см. первую формулу конфликта), она накапливается постепенно.
Формулировка должна подсказывать, что надо сделать, чтобы устранить конфликтную ситуацию.
Задавайте себе вопросы «почему?», пока не докопаетесь до первопричины конфликта, из которой проистекают другие.
Если вспомнить аналогию с сорняком, то это означает: не вырывайте только часть корня, оставшаяся часть все равно воспроизведет сорняк.
Сформулируйте конфликтную ситуацию, по возможности не повторяя слов из описания конфликта.
При рассмотрении конфликта обычно много говорится о его видимых сторонах, т.е. о самом конфликте и об инциденте.
К пониманию конфликтной ситуации мы приходим после некоторых умозаключений. Так появляются в формулировке слова, которых не было в первоначальном описании.
В формулировке обойдитесь минимумом слов.
Когда слов много, мысль становится неконкретной, появляются побочные нюансы и т.п.
Помните, что конфликтная ситуация — это диагноз будущей болезни под названием «конфликт».
Только правильный диагноз дает надежду на исцеление.
Классификация конфликтов
Классификация конфликтов по степени их неизбежности
Количество конфликтных ситуаций позволяет классифицировать конфликты по степени их случайности или неизбежности (табл. 16.1) [186, 260—263].
Тип А: конфликты этого типа случайны, во-первых, потому, что и первый конфликтоген случаен; во-вторых, не всякий конфликтоген неизбежно приводит к конфликту; в-третьих, может не последовать ответного конфликтогена.
Тип конфликта |
Конфликтные ситуации |
Закономерность, формула |
Степень неизбежности конфликта |
А |
Нет |
Эскалация конфликтогенов |
Случаен |
Б |
Одна |
Первая формула конфликта |
Закономерен |
В |
Две или более |
Вторая формула конфликта |
Неизбежен |
Тип Б: если не работать над устранением конфликтной ситуации, то конфликт рано или поздно произойдет, в этом смысле он закономерен. Ведь при наличии конфликтной ситуации (накопившихся противоречий) для возникновения конфликта достаточно и одного инцидента. Им может стать любой конфликтоген.
Тип В: при наличии нескольких конфликтных ситуаций, если не устранить их, конфликт неизбежен. Ведь любая новая конфликтная ситуация лишь усугубляет противоречия, возрастает вероятность конфликта, т.е. она намного выше, чем в случае Б.
Типами А, Б и В исчерпываются все возможные схемы возникновения конфликтов.
Направленность конфликтов
По направленности различают конфликты горизонтальные, вертикальные и смешанные.
Горизонтальные конфликты: в них не участвуют лица, находящиеся друг у друга в подчинении. В вертикальных конфликтах участвуют лица, находящиеся в подчинении один у другого. В смешанных конфликтах представлены и вертикальные, и горизонтальные составляющие.
На конфликты, имеющие вертикальную составляющую (вертикальные и смешанные конфликты), приходится в среднем 70—80 % от их обшего числа. Они наиболее нежелательны для руководителей: участвуя в таком конфликте, они «связаны по рукам и ногам». Любое действие и распоряжение в данном случае рассматривается всеми сотрудниками (а особенно участниками конфликта) через призму самого конфликта. Даже в случае абсолютной объективности руководителя они будут в каждом его шаге видеть происки по отношению к своим оппонентам. А поскольку информированности подчиненным нередко недостает (чтобы правильно оценить действия руководства), недопонимание с лихвой компенсируется домыслами, преимущественно негативного свойства. Тем самым конфликт лишь усугубляется, становится чрезвычайно трудно работать в таких условиях.
Уже из этого предварительного рассмотрения ясно, что наибольшую осторожность нужно проявлять в случае вертикальных конфликтов (стараться погасить их в зародыше).
Причины конфликтов, их характер и сфера разрешения
Конфликты, возникающие на предприятии, в организации, могут быть конструктивными (созидательными) и деструктивными (разрушительными). Первые
приносят делу пользу, вторые — вред. От первых уходить нельзя, от вторых — необходимо.
Различают также конфликты, вызываемые либо объективными, либо субъективными причинами.
По сфере разрешения конфликтов можно их подразделить на те, что разрешаются в деловой сфере, и такие, которые разрешаются в личностно-эмоциональ- ной сфере.
Конструктивные конфликты имеют объективные причины. Деструктивные конфликты вызываются как объективными, так и субъективными факторами.
Разрешаться конструктивные конфликты должны как в деловой, так и в личностно-эмоциональной сферах. Дело в том, что конструктивный конфликт, порожденный объективными причинами, в процессе его разрешения (что занимает немало времени) порождает напряженность в отношениях между участниками этого конфликта. Поэтому полное разрешение конфликта предполагает устранение как объективных причин, так и возникшей личной неприязни.
Взаимосвязь между причинами, характером конфликтов и сферой их разрешения наглядно отображена на схеме, показанной на рис. 16.3.
Рис.
16.3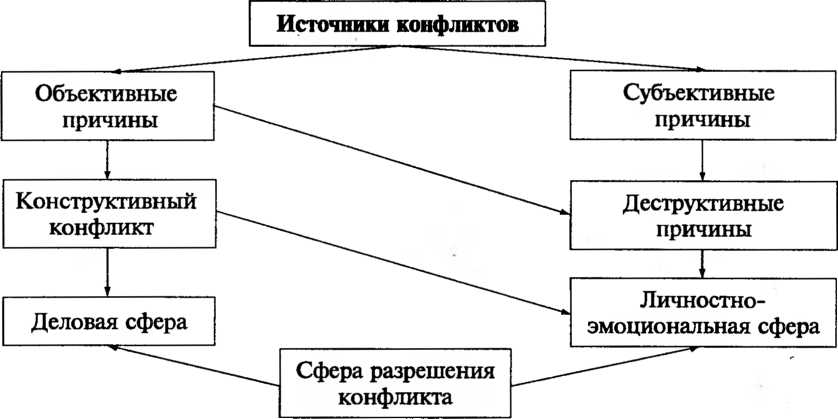
МОДЕЛЬ НАПАДЕНИЯ
Для того, чтобы предвидеть, надо знать.
И. Кант
Психологическое нападение — это внезапное недружественное действие инициатора против адресата (или группы адресатов). При этом используются вербальные, невербальные и паралингвистические средства.
Психологическое нападение — это, прежде всего, словесная атака, она обращена к эмоциональной сфере адресата.
Нападение может иметь целью: 1) достижение некой цели, значимой для инициатора; 2) психологическую разрядку инициатора; 3) удовлетворение его потребности в самореализации и самоутверждении.
Нападение оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние адресата.
Реализация универсальной модели влияния в случае нападения имеет следующий вид:
Мишень воздействия — слабость, беззащитность адресата (предполагаемая ими циатором).
Фоновые факторы — невозможность, неспособность или нежелание адресата дать решительный отпор инициатору.
Вовлечение — воздействие инициатора на эмоциональную сферу адресата, внезапность нападения.
Побуждение адресата к тому или иному решению (действию) определяется содержанием действий инициатора. Его успешность зависит от того, насколько адекватно инициатор оценил состояние адресата.
