
- •Тухликов в.К.
- •Содержание
- •Раздел 1. Мыслители XIX века.
- •Раздел 2 мыслители XX века
- •Раздел 1. Мыслители XIX века.
- •1.1 Позитивизм
- •1.2.Марксизм.
- •1.3. «Философия жизни»
- •- Страх бездуховности,
- •1.4.1. В.Дильтей
- •1.4.2. Г.Коген
- •1.5.Прагматизм (у.Джеймс).
- •Мыслители XX века 2.1. Неокантианство.
- •2.1.1.Э.Кассирер.
- •2.3.Психоанализ и его эволюция.
- •2.3.1. З.Фрейд.
- •2.4.Интуитивизм и эволюционизм а.Бергсона.
- •2.5.Сциентизм в философии.
- •2.6.1. Классическая традиция
- •2.6.1.1. К.Ясперс.
- •2.6.1.2. М. Хайдеггер.
- •2.6.2. Фрейдистско-марксистская традиция
- •2.6.2.1. Г.Маркузе.
- •2.6.2.2. Э.Фромм.
2.5.Сциентизм в философии.
Под довольно расплывчатым ярлыком «сциентизм» я объединяю четверых философов — А.Уайтхеда, Б.Рассела, Л.Витгенштейна и К.Поппера. Их всех объединяет то, что главной ориентацией их теоретической деятельности является наука. К области научного знания они относят логику и математику, с одной стороны, и естествознание, «точные науки», science, с другой. Наука является для них высшей формой человеческого знания, так что оценка любого другого знания зависит именно от его отношения к научному знанию. Именно от этого же зависит и их понимание сущности философии. Их интересы сосредоточены прежде всего на анализе процесса научного исследования, на структуре познания и особенностях его развития. Кроме того, явно или неявно, в большей или меньшей степени, но все они разделяют убеждение в том, что именно наука является той точкой опоры в духовной жизни человечества, на которой могут быть основаны наши надежды на лучшее будущее. Именно эти особенности их концепций позволяют, по моему мнению, отнести этих философов к сциентизму. Вместе с тем между ними существуют и существенные различия. Если Рассел и Витгенштейн доводят разделение между философией и наукой до такой степени, что совершенно отрицают возможность какого-либо их плодотворного их взаимодействия, то Уайтхед и Поппер, также отделяя науку от философии, тем не менее, признают не только возможность, но и желательность их сотрудничества.
2.5.1.А.Уайтхед.
Одним из весьма влиятельных философов XX в., положившим начало целой философской школе на британской почве, явился Альфред Норт Уайтхед (1861-1947). Он начинал как математик, совместно с Б.Расселом, о котором речь пойдет ниже, на-
130
писал трехтомный труд Principia Mathematica, посвященный логическим основаниям математики, причем если на Расселе лежала ответственность за логическую часть работы, то на Уайтхеде — за математическую. Уже после того, как их пути разошлись, он разработал философскую концепцию, которую часто называют «философией процесса». Видимо занятия математикой наложили сильный отпечаток на философское мышление Уайтхеда, так как построение его философского учения (но не содержание его!) весьма логично и стройно.
Уайтхед пришел к выводу, что вся предшествующая философия страдала существенными недостатками. В числе этих недостатков он называл понимание материи как олицетворения массивности, прочности, твердости, подход к материальной вещи как к механизму, состоящему из частей, упор на постоянстве материальных явлений, отождествление их с их сиюминутным существованием. Именно из-за этих ошибочных, по мнению Уайтхеда, установок и возникла в философии непреодолимая противоположность между материальным и идеальным, которую философы «преодолевали» чисто словесными средствами. Отсюда становится ясным, что новая философия должна быть построена на новых принципах, сформулированных четко и ясно. Таких принципов шесть.
1. Принцип процесса. Прав был Гераклит, выдвинувший знаменитое положение: «все течет, все изменяется». Как пишет Уайтхед, «природа являет себя нам как становление». Это значит, что любая вещь есть не что иное, как событие или пространственно-временное происшествие. В таком случае природу можно определить как процесс процессов, а космос как творческую эволюцию.
2. Принцип атомизма или клетки. Реальность состоит из единичных событий. Каждая вещь-событие должно рассматриваться как неделимая далее единица — атом или клетка. Можно сказать, что действительность множественна, плюралистична.
3. Принцип организма. Любое происшествие (т.е. любая вещь) не кирпичик в стене, а орган в некоторой целостности, в организме. Следовательно, каждое происшествие выполняет опре-
131
деленную функцию по отношению к целому. Действительность телеологична.
4. Принцип иерархичности. Вселенная представляет собой некоторое организованное целое, в ней существует иерархия уровней. Уайтхед различает четыре таких уровня:
действительные происшествия в вакууме;
действительные происшествия истории неживых объектов;
действительные происшествия истории живых объектов;
действительные происшествия истории человека. Думается, что всякий, знакомый с учением марксистской философии о формах движения материи не может не увидеть здесь определенного сходства с построением Уайтхеда.
5. Принцип относительности. Любая вещь (т.е. событие, происшествие) содержит в себе веер возможностей. Новое никогда не возникает из ничего, оно возникает из потенции. Механизм творчества, размышляет Уайтхед, и состоит в том, что устраняются все «лишние» возможности и остается лишь одна, которую мы и считаем результатом творчества.
6. Принцип креативности. Основой мира является не субстанция (материя или дух), а «изначальная творческая энергия». В этом смысле можно утверждать, что сущностью мира является энергия, а понятие «изначальное» приобретает статус особой категории (Уайтхед называет его универсалией универсалий).
Уайтхед полагал, что такой подход позволяет существенно расширить методологические возможности философии: наряду со структурно-морфологическим методом философ должен использовать и эволюционно-генетический. Последний несет с собой весьма плодотворное правило: поскольку мир иерархичен, высшее выступает в нем в качестве ключа к низшему.
Ввиду столь большого числа исходных принципов учение Уайтхеда имеет много названий: «органический атомизм», «атомистический органицизм», «клеточная теория действительности», «философия организма», «философия процесса». Сам же философ
132
суть своей концепции передавал словами «прогрессивный традиционализм».
В этой философии основным вопросом становится не вопрос о том, что первично, а что вторично, а вопрос о том, в чем состоит сущность изменения, как происходит событие (или происшествие).
Для ответа на этот вопрос, по мнению философа, необходимо разработать принципиально новую концепцию, что в свою очередь требует введения новых понятий. И надо сказать, что эту задачу Уайтхед действительно решает по-своему, весьма оригинально.
Он считает, что извечную философскую проблему дуализма материального и идеального можно устранить, если предположить, что в мире, понимаемом как единый процесс, происходят два движения, которые и противоположны друг другу по направлению, и в то же время объединяются в единый процесс. Одно движение состоит в том, что многое (т.е. совокупность вещей-событий) в реальной действительности «уплотняется», «сгущается», «срастается» в единое. Это движение он называет словом concrescence. В словаре этому слову (с пометкой «биол.») даются следующие эквиваленты: «сращение», «сгущение», «коагуляция», «конкреция». По-видимому, можно взять любое из этих значений. Мне думается, что наиболее подходящим является «сгущение» (может быть, «концентрация»). Итак, в самой действительности ее «атомы» или «клетки» «сгущаются» так что образуют некоторое единство, которое нами воспринимается как общность качеств и свойств вещей; то самое единство, которое мы обозначаем общими понятиями. В этой же действительности, включающей и нас, людей как свою неотъемлемую часть, происходит другое движение, которое философ обозначает словом prehension. Этому слову словарь дает следующие эквиваленты: хватание, схватывание, захватывание, понимание. Я полагаю, что для наших целей наиболее подходящим является значение «схватывание», к которому словарь относит пометку «зоол.». Отметив, что, следовательно, оба слова, долженствующие обозначить новые философские понятия, Уайтхед заимствует из биологии, поясним, что слово
133
«схватывание» имеет смысл ввести потому, что оно в данном случае сближается по значению с русским словом понимание. Это важно, поскольку слово «понимание» имеет смысловую связь со словом «схватывание», ибо «понимание» (по-н-има-ние) имеет общий корень со словом «иметь». (Думается, что этот вариант лучше, чем тот, который предлагается в нашей литературе: английское слово prehension заменить его латинской версией и образовать в русском языке новое слово — «прегензия»).
Процесс, который мы обозначили словом «схватывание», есть не что иное, как процесс выделения сущности в чистом виде, который является аналогом сгущения (собирание разрозненного в единство), т.е. этот онтологический процесс одновременно является гносеологическим процессом: перенесением сущности из объекта в субъект, выделение смысла ситуации. Итак, получается, что «сгущение» — это объективная сторона того процесса, который под названием «схватывание» осуществляется субъективно. Это, по мысли Уайтхеда, и означает ликвидацию пропасти между материальным и идеальным.
Используя принцип иерархичности, философ выстраивает следующую общую линию развития двух процессов, связывающую воедино развитие мира и развитие сознания:
1.События в вакууме. Здесь сгущение выступает на первый план, а схватывание настолько незначительно, что им можно пренебречь. Целевой причинности здесь практически не существует.
2.События истории неживого. Здесь соотношение двух процессов существенно не отличается от того, какое имеет место в вакууме.
3.События истории жизни. На этом уровне процессы сгущения и схватывания равно играют большую роль. Важную функцию начинает выполнять целевая причинность, а это значит, что появляется, хотя и не в развитом виде то, что мы называем субъективностью, под которой здесь понимается процесс получения и переработки информации, извлечение смысла из непрерывно меняющихся ситуаций, влечение к удовлетворению какой-то жизненно важной потребности.
134
4.События истории человека. На этом уровне процесс схватывания получает решающее преимущество перед процессом сгущения, а субъективность настолько развивается, что объект оказывается по существу включенным в субъект.
Эта концепция соотносительности сгущения и схватывания по существу кладется Уайтхедом в основу построения всей картины мира, т.е. его онтологии. Причем поскольку он стремится выдержать соблюдение объявленных им ранее принципов, его учение постепенно усложняется.
Так оказывается, что, с его точки зрения, в мире можно выделить два рода его составляющих: происшествия, т.е. его изменчивость и «вечные объекты», т.е. устойчивое и неизменное в мире. Происшествия — это то, что философы называли действительностью, а вечные объекты — это чистые возможности. В качестве примера вечных объектов Уайтхед приводит абсолютное пространство и абсолютное время Ньютона. Процесс схватывания имеет два полюса: телесность (или физическое, т.е. то, что существует во времени и пространстве) и душевность (или концепту-альность, т.е. то, что существует вне времени и пространства,
вечные объекты).
Каждое действительное происшествие на низшем уровне образует основу для новых схватываний на более высоком уровне. Так, если на уровне происшествий в вакууме и неживой природе схватывание (и тем самым субъективность) является, по выражению Уайтхеда, «слепым», то на уровне событий жизни и событий истории схватывание выступает уже в форме сознательной субъективности, понимания в подлинном смысле этого слова. (И опять-таки хотелось бы отметить сходство рассуждений Уайтхеда с игравшей большую роль в советской философии «ленинской теорией отражения»).
Вечные объекты играют в концепции Уайтхеда большую роль. Вечный объект в отличие от реального происшествия переходит в неизменном виде из одного события в другое. Собственно говоря, именно благодаря этому переходу и возможно сгущение многого в единое, с одной стороны, и схватывание, т.е. понимание смысла ситуации, с другой. Дело в том, что первыми вечными
135
объектами являются, как уже говорилось пространство и время. Схватывание начинается с фиксации «здесь» и «теперь». При этом пространство выступает как отношение между событиями А и В: каждая вещь в А является аспектом для В. Уайтхед приводит такой пример: предположим, человек стоит перед зеркалом и смотрит в него. Предположим, далее, что он видит в зеркале, зеленый цвет отражающейся за его спиной стены. Зеленый цвет в данном случае «находится» в явлении А (в зеркале). Но вот человек оборачивается и видит, что стена сзади него на самом деле зеленого цвета, т.е. зеленый цвет в данном случае уже находится в явлении В. Это и значит, по мнению Уайтхеда, что именно зеленый цвет выступает как связь А и В, причем его нахождение в А является аспектом для В и наоборот. Таким образом, вечные объекты могут одновременно существовать и в А, и в В, обеспечивая взаимосвязь происшествий. Улыбка (другой пример Уайтхеда) адресованная какому-то человеку, получает существование в его, этого человека, глазах, но сокращение лицевых мускулов, которые воспринимаются как улыбка, имеют место на лице улыбающегося человека, а не где-либо еще. Если о происшествии можно спросить, реально ли оно, то вопрос о реальности зеленого цвета в примере приведенном выше или вопрос о реальности улыбки бес-смысленен, ибо зеленый цвет не происшествие, а аспект унификации происшествий. Пространство и время нельзя трактовать так, как если бы они были происшествиями. Пространство — это средство унификации происшествий, благодаря которому происшествия располагаются на определенном расстоянии относительно друг друга. То же самое относится и ко времени; оно целиком определяется взаимоотношениями вещей: совместное существование событий мы называем настоящим, наличие предшествующих событий дает нам прошлое, а наличие потенциальных событий и составляет то, что называется будущим. Каждое событие «наследует» нечто от предшествующих и каждое событие антиципирует, предвосхищает новые события. Таким образом, вечные объекты (цвета, вкусы, запахи, пространство и время и др.) составляют реальную связь мира, взаимопроникновение происшествий. Для того чтобы придать устойчивость понятию вечных объ-
136
ектов, Уайтхед придает особый статус вечности: с одной стороны, она выступает как обобщение («сгущение») вечных объектов, с другой существует и сама по себе в качестве глобальной реальности. Человечество давно уже заметило факт ее существования, отразив его в понятиях Абсолюта, Брахмы, Божественного порядка, Бога. Но Бог Уайтхеда это не создатель мира, не его правитель, а
«поэт мира».
Отношение Уайтхеда к материализму как философскому направлению двойственно. С одной стороны, он видит преимущество материалистической философии в том, что она в совершенном согласии с наукой категорически запрещает вводить в мир физической реальности действие каких-либо сверхъестественных сил. Соответствует она и знаменитому принципу «бритвы Оккама», так как минимизирует допущение различных сил, необходимых для объяснения мира. Но с другой стороны, по его мнению, материализм не в силах справиться с понятием субъективности, а. кроме того, его позиции сильно ослабляются в свете современной науки из-за допущения им инертной материи, с одной стороны, и существования отдельных, не связанных или слабо связанных между собой вещей, с другой. Уайтхед считал, что дальнейшее развитие философской мысли связано с заменой понятия материи понятием организма, что позволит, по его мнению, перейти от естествознания XVII в. к современной науке. 2.5.2.Б.Рассел.
Как уже говорилось, соратником и сотрудником Уайтхеда (по крайней мере, в начале своей научной и философской деятельности) был другой видный английский философ Бертран Артур Уильям Рассел (1872-1970). Сферой его главных философских интересов была гносеология. В литературе его часто называют основателем «аналитической философии», неопозитивизма, «лингвистической философии». Сам он критиковал эти названия и называл свои взгляды философией логического анализа.
Исходные принципы его концепции можно свести к следующим:
1. Философия — особый вид духовной деятельности. Это та область знания, которая относится к ничейной территории между
137
наукой и религией, т.е. к территории, из которой религия уже ушла, а наука еще не пришла. Такое положение философии и обусловливает ее специфику.
2. Философия не должна порывать со здравым смыслом, напротив ей необходимо открыто опереться на него.
3. Классическая философия является не чем иным, как заблуждением. Причины ее появления и существования — элементарные логические ошибки в рассуждениях философов, а также ошибки в использовании языка.
4. Философия не может существовать вне связи с наукой; она должна быть естественным выводом из позитивных наук.
5. Главную роль в истинной философии, которую надлежит создать, должна играть логика. Философия должна заниматься анализом высказываний ученых, анализом логики построения суждений, в которых ученые выражают свои знания.
Таким образом, получается, что предметом философии является научное знание. Обращение к нему позволяет разделить все науки на два класса:
логика и математика. Их основой является логический вывод. Достоверный результат в них обладает строгой необходимостью и всеобщностью,
все остальные науки. Они основаны на принципе причинности. Достоверный результат в этой сфере научного знания всегда только вероятен. Рассел любил иллюстрировать это положение многочисленными примерами. Вот два из них. Вы подходите к человеку и говорите ему: «Дурак!». В высшей степени вероятно, что он ответит вам тем же. Однако может так случиться, что вы встретитесь со святым. Вы чиркаете спичкой по коробку. Весьма вероятно, что спичка загорится. Однако спичка может оказаться отсыревшей, может сломаться и т.п.
В позитивных науках возможны два вида вывода:
математический. Например, зная формулу закона тяготения, вы подставляете в нее полученные опытным путем эмпирические данные и вычисляете движение планет.
субстанциональный (нематематический). Подобный вывод получается, когда на основе полученных опытным пу-
]
тем данных выводится некая регулярность. Так, например, из наблюдений за движением планет Кеплер вывел законы этого движения.
Особенность субстанционального вывода, согласно Расселу, заключается в том, что поскольку из предложений типа «А имеет место» невозможно при помощи дедукции вывести предложение, утверждающее факт наличия какого-либо события, то он (вывод) возможен лишь в том случае, если в рассуждение вводится какой-либо недедуктивный (т.е. не имеющий логическую природу) принцип (например, принцип причинности, принцип индукции и
т.п.).
Большая часть наших знаний получается именно при помощи субстанционального вывода, ибо именно им пользуется знание донаучное, так называемый «здравый смысл». Более того, по мнению Рассела, на нем основано поведение высших животных. Основываясь именно на субстанциональном выводе, собака по запаху преследует лису. Конечно, пишет Рассел, собака не рассуждает в данном случае так, как это сделал бы человек, но действует она так. как если бы рассуждала.
Всякое опытное знание вероятно и приблизительно. Даже такие слова, как «сантиметр» или «секунда» вне математики и логи^ ки не имеют абсолютно точного значения. Но, продолжает Рассел, поскольку во всех науках, кроме логики и математики, нет строгой необходимости, то вполне правомерно во всех остальных сферах науки говорить не о знании, а о вере. (Хотелось бы специально оговориться, что речь идет не о религиозной вере, а о вере как особой характеристике вероятного, не необходимого знания. Иногда английское слово belief, которое использует Рассел, переводят на русский язык словом «мнение». Эта оговорка тем более уместна, что сам Рассел был атеистом, его книга «Почему я не христианин?» была переведена на русский язык и издана при советской власти.)
Рассел характеризует веру двумя чертами: во-первых, неопределенностью ее приложений к реальности. В качестве типичного примера он приводит восклицание человека, взглянувшего на небо: «Посмотрите на тучи. Будет дождь!» Понятно, что речь в
139
данном случае может идти лишь о вероятности наступления этого события. Во-вторых, знание-вера (мнение) всегда относится к каким-то внешним по отношению к человеку событиям («Смотрите, идет автомобиль!»). Ведь внутренние состояния своего сознания человек знает вполне определенно. Вера, с точки зрения Рассела может иметь доинтеллектуальный характер: предположим, например, что мы идем в темноте, на ощупь в хорошо знакомой нам комнате: наше тело «верит» в то, что там-то и там-то имеются проходы между мебелью, мы минуем препятствия и доходим до нужного места (если, конечно, кто-то не переставил в наше отсутствие какой-либо предмет мебели).
Когда Рассел начинает перечислять виды веры-мнения, то оказывается, что к ней относится почти вся наша психическая деятельность. Он относит к вере все содержание ощущений, воспоминания, ожидание, свидетельства других людей и. конечно, результаты субстанционального вывода. Более того, вера может распространяться и на математическое знание. Это происходит в том случае, когда вы не знаете доказательства. Например, существует теорема о том, что сумма углов многоугольника равна такому числу прямых углов которое равно двойному числу его сторон минус четыре прямых угла. Для того чтобы эта теорема приобрела статус не веры, а знания, нужно уметь ее доказать. Ни интуиция, ни применение теоремы к треугольнику (что даст знакомый со школы и, конечно, правильный результат) в данном случае не поможет.
Рассел пишет: «Вера... является широким родовым термином, а состояние веры не отличается резко от близких к нему состояний, которые обычно не считаются верой».
Рассел формулирует правило: всякое знание есть вера, но не всякая вера есть знание и иллюстрирует его следующим примером, предположим, что человек купил лотерейный билет в надежде на выигрыш. Даже если он действительно выиграл, его надежды в момент покупки билета нельзя назвать знанием.
Поскольку Рассел сделал веру-мнение родовым понятием для знания, проблема истины встает перед ним в форме проблемы различия между истинной и ложной верой. Истинная вера, утвер-
140
ждает Рассел, та, для которой имеется факт, к которому она имеет определенное отношение. Для ложной веры такого факта нет.
Но теперь встает вопрос о том, что же такое факт. Факт, считает Рассел, может быть определен только наглядно. Солнце — факт. Зубная боль тоже. «Факт, пишет он, есть то, что делает утверждения истинными или ложными». По-видимому, такое функциональное определение факта Расселу как логику кажется недостаточным, ибо он тут же прибавляет то, что можно назвать аргументом от существования: «Факт — нечто имеющееся налицо».
Факты единичны. Отсюда Рассел выводит истинность эмпиризма, отсюда же перед ним возникает проблема: как получаются общие знания?
Решая ее, он делит представителей классической философии на тех, кто принадлежит к «математической партии» (Платон, Фома Аквинский, Спиноза, Кант), и тех, кто принадлежит к «эмпирической партии» (Демокрит, Аристотель, Локк). Так вот. заявляет он, его собственная философия логического анализа для того и создана, что покончить с этим делением. Он проводит аналогию с развитием математики. По его словам, математики XVII в., стремясь к получению новых математических результатов, пренебрегали созданием надежных обоснований и для исчисления бесконечно малых, и для аналитической геометрии. С XIX в. в лице Кантора, Фреге, Уайтхеда и самого Рассела началось строгое обоснование уже полученных и успешно применявшихся математических теорий. Выяснилось, что все слова языка науки разделяются на те, что обозначают объекты («кошка», «дерево») и слова синтаксические («или», «не», «чем», «но»), при помощи которых слова первого рода связываются в предложения. При этом оказалось, что философские проблемы как раз и связаны с ошибками в употреблении синтаксических слов. Например, мы имеем два предложения: «Золотая гора не существует» и «Круглого квадрата не существует». У тех, кто слышит или читает эти предложения, создается впечатление, что действительно не существует двух различных вещей. Но на самом деле нет ни двух, ни различных предметов.
141
Таким образом, считает Рассел, необходимо устранить эту языковую форму, которая вводит людей в заблуждение. Нужно создать строгий язык, слова которого имели бы в отличие от слов обыденного языка точно определенное значение, а грамматический синтаксис которого точно соответствовал бы логическому синтаксису. Если затем переформулировать на нем неопределенные и расплывчатые по смыслу предложения обыденного языка, то появится возможность избежать логических ошибок, а, следовательно, и добиться решения (т.е. исчезновения) так называемых философских проблем.
Для этого Рассел создал теорию, которая получила название теории дескрипций (от лат. descriptio — описание), суть которой состоит в доказательстве возможности описательных определений единичных объектов посредством общих понятий, замещающих собственные имена, причем предполагается, что объект логической дескрипции обязательно существует и является единственным. Например, существует предложение естественного языка «Л.Н.Толстой является автором романа «Война и мир». Это предложение можно переформулировать в таком виде: «Один и только один человек написал роман «Война и мир» и этим человеком был Л.Н.Толстой». Последнему предложению можно придать уже строгую и всеобщую форму: «Имеется объект С, такой, что утверждение «X написал роман «Война и мир» истинно, если X есть С и ложно в других случаях. Более того, X есть Л.Н.Толстой». Это утверждение означает: «Автор романа «Война и мир» существует».
142
Теперь применим теорию дескрипций к тем предложениям, которые послужили причиной языковых ошибок. Суждение «Золотая гора не существует» превращается в суждение «Не имеется объекта С, такого, что высказывание «X золотое и имеет форму горы» истинно только тогда, когда X есть С, но не иначе». Мы, утверждает Рассел, устранили отрицание относительно объекта, устранили неясный термин «существовать». Что нам это дает? Очень много. Например, применив такую же операцию к геометрическим объектам или, скажем, к эйдосам мы тем самым раз и навсегда прекращаем «глупые разговоры»(слова Рассела) о реальном «существовании» этих самых геометрических объектов или эйдосов. А ведь они велись больше двух тысяч лет, начиная с Платона и во многом составляли содержание философии. Это значит, что мы покончили со знаменитой проблемой соотношения духовного и материального. Надо помнить, что существуют не объекты, а только дескрипции. «Может утверждаться, пишет Рассел, только существование дескрипций».
Размышляя над функционированием естественного языка. Рассел обратил внимание на известный еще с античности «парадокс лжеца». Представьте себе, что лжец говорит: «Я лгу». Если вы допускаете, что он говорит правду, то получается, что он лжет, если же вы допускаете, что он лжет, то получается, что он говорит правду. (Если переформулировать это утверждение в терминах строгого языка, то получается следующее предложение: «s» истинно тогда и только тогда, когда «s» неистинно, что. конечно, является самопротиворечивым, т.е. бессмысленным высказыванием). Рассел разработал логические средства, позволяющие обойти эту трудность. В частности он предложил разделить предложения на три класса: истинные, ложные и бессмысленные (т.е. построенные с нарушением требований логики). Эта его идея, как мы увидим, получила развитие у близких ему по духу философов.
Полученные выводы, с точки зрения Рассела, имеют поистине эпохальное значение. Они очень важны для философии и полностью согласуются с тенденциями развития современной науки, в частности математики и физики.
Рассел иллюстрирует этот тезис следующими рассуждениями.
143
Что же касается физики, то соответствие ее развития с основными тезисами философии логического анализа Рассел иллюстрирует на примере теории относительности и квантовой механики.
Логический анализ тех предложений, в которых выражается содержание теории относительности, показывает, что в ней происходит замена того, что старая физика понимала как элементарную частицу (причем слово «частица» несло на себе груз обыденного языка) на новый феномен — событие, т.е. некоторый процесс, «происшествие», а время и пространство классической физики заменилось единым «пространством-временем». Отношения между событиями Эйнштейн называет пространственно-временным интервалом, который при определенных условиях может быть разложен на пространственную и временную составляющие. Поскольку выбор между способами этого разложения является произвольным, постольку они совершенно равноправны (ни один из них не является более предпочтительным). Вот почему, утверждает Рассел, возникает такое положение, когда события А и В могут рассматриваться, как одновременные, А может рассматриваться как предшествующее по отношению к В, а может и наоборот, В рассматриваться как предшествующее А. «Этим различным соглашениям, пишет Рассел, не соответствуют никакие
144
физические факты». Поскольку, таким образом, время и пространство приобретают характер конвенций, то и материя, т.е. сущность, основа, субстанция мира, является теперь (для современной физики) условным понятием, которое необходимо всего лишь для удобства связывания событий между собой.
Столь же хорошо философия логического анализа согласуется и с квантовой механикой, с точки зрения которой атом как событие находится в устойчивом состоянии, которое (состояние) внезапно, скачком сменяется другим устойчивым состоянием, причем последнее отличается от первого на конечную величину. Такая физическая теория приводит к еще более радикальному отходу от традиционного учения о пространстве и времени.
Таким образом, обобщает Рассел тенденцию развития науки, физика делает материю все менее материальной, а психология делает дух все менее духовным. Это сближение материи и духа идет в том направлении, которое указывали Джеймс и Мах, в направлении к «нейтральному монизму». Вместо того чтобы спорить о том, что является первичным — дух или материя, полезно уяснить, что оба этих понятия условны, представляют собой всего лишь удобные способы группирования событий.
Рассел допускает для своей философии и другое название — «аналитический эмпиризм», т.е. признает свою духовную близость с учениями Локка. Беркли и Юма, оговариваясь при этом, что в отличие от своих предшественников, он решил проблему природы математического знания, перед которой они оказались бессильными.
Вместе с тем Рассел признает, что существует область знания (или веры), где методы логического эмпиризма во всем сходные с методом позитивных наук оказываются неприменимыми. Это сфера ценностей. Дело в том, что ценности неразрывно связаны с чувством, а чувство — вне компетенции науки. Например, общепринятым является мнение, что тот человек поступает плохо, который получает наслаждение за счет страданий других людей. Но доказать это положение логическими средствами невозможно. И здесь Рассел указывает еще на одну причину ложности всей предшествующей философии. Дело в том, что в философии всегда
145
В литературе Рассела обычно рассматривают как основателя «логического атомизма» и критика христианства. Однако у него были и собственные идеи, относящиеся к сфере социальной философии, о которых уместно сказать несколько слов для полноты характеристики его как мыслителя.
В 1920 г. после поездки в нашу страну он издал книгу «Практика и теория большевизма», где излагает свои взгляды на общество и историю. Надо сказать, что в те годы Рассел разделял настроения так называемой левой интеллигенции, что существенно
146
сказалось на его оценке коммунизма. Так, относительно западного общества он делает категорические утверждения: «Существующая капиталистическая система обречена», или: «Нынешние власть имущие — воплощение зла, и существующий порядок-вещей обречен». Он полагает, что человечество нуждается в «радикально новом общественном устройстве», что перед человечеством стоит дилемма: или варварство, хаос и разрушение, или коммунизм. Отсюда понятна его высокая оценка большевизма. Например, в упомянутой книге он задолго до соответствующего «теоретического открытия» официальной советской идеологии рассматривает октябрьский переворот 1917 г. в России как самое значительное событие XX века (заметьте, что до конца века оставалось еще 80 лет!). Он заявляет, что за попытку построения коммунизма большевизм «заслуживает благодарности и восхищения всей прогрессивной части человечества». Правда, он оговаривается, что, во-первых, методы, при помощи которых Москва собирается строить коммунизм, не приведут к желаемому результату, и, во-вторых, критикует то, что рассматривает в большевизме как элементы религии: догматизм в теории (постоянные ссылки на произведения Маркса и Энгельса, к которым коммунисты относятся так же как христиане к Священному писанию, вера в философский материализм) и фанатизм на практике. Здесь необходимо пояснить, что под религией Рассел понимает совокупность любых убеждений, которые принимаются в качестве непреложной истины, и господствуют над ходом жизни, при этом они (убеждения) игнорируют очевидность и опираются не на разум, а на эмоциональные и авторитарные средства. Рассел даже определяет место большевизма среди других религий: он склоняется к тому, что большевизм ближе к магометанству, чем к буддизму или христианству.
Материалистическое понимание истории Рассел в целом принимает, но тоже с оговорками. Прежде всего, он утверждает, что материалистическое понимание истории совершенно не связано с философским материализмом. Последний, с его точки зрения, состоит в утверждении, что все психические явления могут быть сведены к физическим причинам. Поскольку это утверждение
147
нельзя эмпирически верифицировать, постольку материализм есть не что иное, как догматизм. Поэтому материалистическое понимание истории, он сводит к утверждению, что в основе всех политических событий лежат экономические причины. Если к этому утверждению, отнестись не как к «точному метафизическому закону» (скрытый упрек в адрес советских коммунистов), а как к практическому приближению, считает Рассел, то оно «в очень большой степени истинно». Однако, продолжает он, марксистская материалистическая концепция истории является односторонней и неполной. Конечно, соглашается Рассел, жадность (как выражение экономических причин) играет важную роль в действиях людей, но ведь большую роль играют и внеэкономические факторы. Так, например, национализм весьма значим при анализе исторических событий, но объяснить его действием экономических причин нельзя. При этом он ссылается на события в Ольстере, а также и на то, что рабочие Европы во время первой мировой войны игнорировали призыв коммунистов: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Другим внеэкономическим фактором, проявившим свою силу в истории, является, с точки зрения Рассела, религия.
Рассел считал, что все события мировой политической жизни определяются взаимодействием материальных условий и человеческих страстей. Поэтому, прежде всего, необходима классификация страстей. В основе всей деятельности людей лежат страсти, побуждаемые необходимыми жизненными потребностями: в пище, питье, сексе, одежде и жилище. На этой основе возникает множество, как выражается Рассел, вторичных страстей. Из них он выделяет четыре: накопительство, тщеславие, соперничество и жажду власти. Кроме того, следует принять во внимание роль разума, который опосредует взаимодействие страстей и материальных условий, а также наличие стадного инстинкта, усиливающего и регулирующего действие указанных страстей. Получается, что марксизм в форме материалистического понимания истории придал решающее значение только одной из движущих действиями людей страстей — накопительству. Этим определяется ошибочность марксистской интерпретации истории, которая не берет в расчет того, что многие люди ради славы или власти способны
148
пожертвовать богатством. Как теоретик и методолог науки Рассел особо отмечает роль интеллекта: пока наука не нашла применения вольфраму, он не стоил ничего, создание автомобиля породил спрос на нефть и т.п. Рассел развивает довольно экзотические идеи насчет того, что накопительство ведет к прогрессу общества, а соперничество к регрессу и даже выделяет в истории Европы два периода: со времени падения Наполеона до 1914 г., когда превалировало накопительство (и. следовательно, прогресс) и с 1914 по 1920 гг., когда на первый план вышло соперничество (и. следовательно, регресс). Так своеобразно он оценивает события, связанные с I мировой войной.
Еще один источник разногласий Рассела с большевизмом коренится в оценке места личности в общественном устройстве. Он считает, что большевики, как и Маркс, не правы, когда имущественное неравенство считают основным злом капитализма. На самом деле, рассуждает Рассел, когда у каждого есть достаток, наличие у кого-то сверх того не будет вызывать особых отрицательных эмоций. А прогресс техники делает всеобщий достаток достижимым. Более значителен, по его мнению, тот порок капитализма, который заключается в неравном распределением власти: собственники капитала имеют влияние, несоразмерное ни с их численностью, ни с той пользой, которую они приносят обществу. Именно они контролируют прессу, образование, они решают, что именно средний человек должен знать. Интеллигенция, находясь на содержании бизнесменов, не имеет свободы. Чтобы удовлетворить интересы капиталистов, люди обрекаются на однообразную работу, не требующую глубокого и всестороннего образования. А там, где рабочий класс слаб или неорганизован, нет предела жестокостям, на которые предприниматели не пошли бы ради выгоды. Основное влияние при капитализме принадлежит организациям, для развития и инициативы индивидов места остается все меньше и меньше. Бороться с этим злом можно только децентрализацией власти, большевики же, по его мнению, даже не сознают важность этой проблемы, ни значение индивидуальности в общественной жизни. Подводя итоги своим впечатлениям о поездке в советскую Россию, Рассел пишет: «...уравнение
149
Все это Рассел писал в первой четверти XX в. Жизнь он прожил долгую, поэтому представляет интерес вопрос: изменились ли его социально-философские взгляды впоследствии? В 1950 г. (ему было 78 лет) Расселу вручали Нобелевскую премию. В своей нобелевской лекции (текст которой ввиду его отсутствия был зачитан его женой) он по существу возвращается к тем проблемам, по которым когда-то высказывался в книге «Практика и теория большевизма». В лекции он уже не говорит об исторической обреченности западного общества, нет и ни слова о коммунизме как светлом будущем человечества. Однако, обратившись к проблеме движущих сил человеческой деятельности, он снова отдает приоритет четырем желаниям: стяжательству, соперничеству, тщеславию и жажде власти. Правда, его концепция становится более пессимистической. Он, в частности, подчеркивает неутолимость человеческих желаний: «Человек отличается от прочих животных наличием у него желаний, которые, можно сказать, безграничны, никогда не выполнимы и которые даже в раю заставляют его испытывать недовольство». О накопительстве он пишет: «Сколько бы вы ни накапливали, вы всегда будете желать большего». Вместе с тем теперь Рассел называет мотивы деятельности, которые, не являясь фундаментальными, тем не менее, весьма, по его словам, влиятельны. На первом месте стоит любовь к развлечению, которую Рассел объясняет тяжелым и однообразным трудом, который присущ индустриальному обществу. Развлечения философ понимает очень широко, начиная от танцев и кинематографа и кончая алкоголем и азартными играми. Он считает, что эта страсть может даже вызывать войны (ведь война связана с новы-
150
ми и весьма сильными эмоциями) и даже предлагает в крупных городах построить искусственные водопады и водоемы с механическими акулами, чтобы, заставляя поборников превентивных войн испытывать там сильные ощущения, умерять их воинственные устремления.
После любви к развлечениям Рассел называет такие эмоции как страх и ненависть. Он считает, что эти эмоции, охватывая целые нации, ставят человечество перед призраком тотального самоуничтожения. Существуют эмоции и позитивного плана (бескорыстие, сострадание, отвращение к жестокости), но, говорит Рассел, к сожалению, они обладают меньшей мощностью, чем эмоции негативные. Обращая внимание на быстрое совершенствование средств ведения войны, Рассел приходит к выводу, что в современных условиях война превращается в дорогостоящее занятие. Он полагает, что если бы были произведены соответствующие расчеты, то все бы убедились, что каждый убитый немец во время I и II мировых войн обошелся победителям слишком дорого. Такое рассуждение приводит его к заключению: победители в двух мировых войнах, не разразись она, были бы богаче. Иными словами, современная война — невыгодный бизнес. Если бы людьми руководил эгоистический расчет, то не было бы ни войн, ни армий, ни флотов, ни войн. Исчезли бы границы, таможенные барьеры, препятствия к свободному распространению информации. Мелкие предприятия уступили бы место высокоэкономич-ныму крупному производству. И все это осуществилось бы незамедлительно, если бы люди радели о собственном благе столь же горячо, как они радеют о несчастье ближнего.
По-видимому, это те картины будущего, что пришли на место его былого восхищения коммунизмом. Впрочем, сам Рассел тут же называет их «утопическими грезами» и относит их осуществление в «золотой век».
Чисто психологически интересно, что когда в своей «Автобиографии» он попытался осмыслить движущие силы своих собственных поступков (а в его долгой жизни было много событий, получивших шумную огласку), то в качестве тех страстей, которые двигали им на его жизненном пути, он называет «жажду люб-
151
L
ви, поиск знаний и непереносимое сострадание к людской боли». По-видимому, Рассел считал себя самого редким исключением из рода людского.
2.5.З.Л.Витгенштейн.
Одним из философов, оказавшим большое влияние на развитие западной философской мысли в XX в., был Людвиг Витгенштейн (1889-1951). Он родился в Австрии, однако образование получил в Англии и принесший ему известность философский труд, написанный на немецком языке — «Логико-философский трактат» был издан в Кембридже при содействии Рассела (он предпослал работе ни то рецензию, ни то пояснительную записку, названную им введением); более того, идеи этой работы близки к кругу тех идей Уайтхеда и Рассела, которые они развивали во времена своего сотрудничества.
«Логико-философский трактат» представляет собой по форме весьма оригинальное произведение: в принципе он состоит из краткого предисловия и семи тезисов. Вот они:
1.Мир есть все, что имеет место ( В другом переводе: Мир есть все, что происходит).
2.То, что имеет место, что является фактом, — это существование атомарных фактов (В другом переводе: Происходящее, факт, —существование со-бытий).
3.Логический образ фактов есть мысль (В другом переводе: Мысль — логическая картина факта).
4.Мысль есть осмысленное предложение.
5.Предложение есть функция истинности элементарных предложений.
(Элементарное предложение — функция истинности самого себя).
6.Общая форма функции истинности есть:
i Я £.#(#)
Это есть общая форма предложения.
7.0 чем невозможно говорить, о том следует молчать.
152
Тезисы пронумерованы, и их содержание раскрывается при помощи также пронумерованных дополнительных положений, разъяснений и доказательств (в том числе средствами логического исчисления). Нумерация отражает логику развития мысли автора. Скажем, формулируется тезис 1. Комментарий к нему имеет номер 1.1. Комментарии к тезису].1 имеют номера 1.11,1.12 и т.п. Есть тезисы, номер которых выражен многозначным числом, например: 2.012331, 3.36311 и т.п. Тезисы часто формулируются таким образом, что принимают вид афоризмов. Первый тезис раскрывается всего в семи пунктах, а седьмой и вовсе не имеет никакой расшифровки, так что основное содержание книги составляют 5 тезисов (из них самый большой — пятый). Подходя к делу формально и с некоторой долей упрощения, можно сказать, что первый тезис посвящен понятию мира, во втором тезисе автор излагает свое понимание структуры реальности, в третьем тезисе анализируется мышление человека с точки зрения ее логических форм, в четвертом тезисе речь идет о логике языковых форм, пятый тезис посвящен своеобразному синтезу двух предыдущих, в шестом автор обосновывает свою концепцию соотношения науки и мировоззрения, седьмой в сжатой форме подводит итог всей работе.
В предисловии автор так высказывается о смысле своей книги: «То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать». (Как видим, Витгенштейн придавал этой идее большое значение, ибо с нее он начинает свое произведение и ею же заканчивает). Можно сказать, что Витгенштейн выступает против двусмысленного, неточного языка классической (да и постклассической) философии, ибо эта область знания должна, по его мнению, излагаться столь же ясным и точным языком, как тот, который употребляется в математике, в инженерном расчете. По-видимому, Витгенштейн (как и многие философы до и после него) был убежден, что произвел революцию в философии. Во всяком случае, в предисловии он заявляет: «...Истинность высказанных здесь мыслей представляется мне неоспоримой и завершенной. Таким образом, я считаю, что поставленные проблемы в своих существенных чертах решены
153
окончательно». Тут же он с иронией добавляет, что ценность его работы состоит и в том, что она показывает, сколь мало дает решение этих проблем. Эту фразу можно понять как указание на тривиальность философских положений вообще. О его убежденности в том, что он действительно дал окончательное решение поставленных проблем свидетельствует и тот факт, что когда вокруг «Логико-философского трактата» разгорелась полемика, он не принял в ней никакого участия.
Следует иметь в виду, что структура «Логико-философского трактата», выраженная в нумерации тезисов, легко может ввести читателя в заблуждение. Например, она подталкивает к мысли о том, что в первом тезисе излагается понимание автором мира. На самом деле в нем лишь вводятся некоторые понятия, а подлинный смысл авторской концепции может быть понят только на основе тех положений, которые содержатся в последующих тезисах. И следует заметить, что его концепция мира (то, что в классической философии называлось онтологией) действительно весьма оригинальна.
Для понимания сути философской позиции Витгенштейна, необходимо учесть, что наиболее общим понятием, при помощи которого автор характеризует мир, является понятие действительности. Она (действительность) имеет три составляющих: мир («все то, что имеет место», или в другом переводе «все, что происходит»), мышление человека, суть которого в том, что оно представляет собой картину мира, «модель действительности» и язык (система знаков) как то общее, что объединяет оба предшествующих «слоя». Каким образом язык «объединен» с действительностью? Дело в том, что действительность становится «миром» лишь в той мере, в какой мы ее знаем (то, о чем мы не знаем, для нас и не существует). Но что значит «знать»? Знаем мы лишь то, что мы обо-зна-чаем. Лишь, будучи обозначенным, т.е. включенным в языковую систему, любой предмет, любая вещь становится фактом, т.е. приобретает действительный статус бытия, «единицы» мира. Витгенштейн специально оговаривается: «Мир есть совокупность фактов, а не вещей». А с другой стороны, каким образом язык «объединен» с мышлением? Язык, пишет он.
154
«совокупность предложений», а «мысль — осмысленное предложение». Итак, язык «сопричастен» и миру, и мысли.
Однако «онтология» Витгенштейна на самом деле имеет еще более сложный вид. Дело в том. что у него есть ответ и на вопрос о том, в чем состоит глубинная связь мира и мышления, что является сущностью этой связи, или, говоря языком классической философии, что является субстанцией действительности. Таковой, с его точки зрения является логика. Законы логики — это и законы мышления (картины мира) и законы самого мира. Поясняя свою мысль, Витгенштейн проводит такую аналогию. Нотное письмо не является изображением музыки, так же как буквы, написанные на бумаге, трудно назвать похожими на нашу звуковую речь, а в граммофонной пластинке нет сходства с музыкальным произведением, записанным на ней, и все-таки они имеют между собой нечто общее, что и позволяет их связать. Что же составляет эту общность? Витгенштейн пишет: «Граммофонная пластинка, музыкальная тема, нотная запись, звуковые волны — все они находятся между собой в таком же внутреннем отношении отображения, какое существует между языком и миром. Все они имеют общий логический строй».
Сходство столь разных явлений, таким образом, заключается не в подобии внешних форм, которое может уловить глаз, а в существовании однозначных правил, при помощи которых можно перевести язык нот в язык граммофонной записи, а звуки музыкальных инструментов в нотное письмо. Витгенштейн говорит даже о существовании «закона проекции», благодаря которому одни явления могут переводиться в другие, не имеющие с ними ни малейшего видимого сходства. Сложный характер отношения между миром и его картиной Витгенштейн поясняет следующим образом. Картина связывается с действительностью так же, как мерило связывается с измеряемым предметом: к измеряемому предмету прикасаются лишь конечные метки измерительной шкалы. Картина, таким образом, не простое отражение, она, как говори! Витгенштейн, «сопричастна» изображаемому. Эта сопричастность состоит в соотнесении элементов картины и элементов вещей.
155
Предмет, переведенный в языке в знаковую форму, т.е. став фактом, подпадает под действие логических правил, и тогда с ним происходят удивительные превращения; он приобретает особые черты, становится объектом. Объект не некая самостоятельная сущность, а элемент системы, подчиняющийся ее правилам. Объект прост (как единица, «атом» системы), он устойчив («Устойчивое, сохраняющееся и объект суть одно и то же»), включает в себя возможность всех ситуаций, в которые он может попасть (т.е. число таких возможностей конечно). Наконец, объекты, по утверждению Витгенштейна, бесцветны. Но самое главное в объектах это то, что они образуют субстанцию мира: «Субстанция есть то, что существует независимо от того, что имеет место». Однако субстанция Витгенштейна сильно отличается от принятого в классической философии соответствующего понятия. Поскольку речь идет не о материальной или духовной субстанции, определяющей суть явлений, а об особой логической субстанции, обусловливающей устойчивость и однозначность фактов, эта субстанция определяет, по словам Витгенштейна, только форму, а не материальные (т.е. содержательные) свойства.
Витгенштейн различает в мире атомарные (простые) и молекулярные (сложные) факты.
Здесь, пожалуй, необходимо сделать следующее пояснение. Второй тезис был дан выше в двух вариантах. В одном говорится об атомарных фактах, в другом о со-бытиях. Это различие имеет свою историю. Как уже говорилось, «Трактат» был написан на немецком языке. В оригинале слову, которое переводится как «атомарный факт» или «со-бытие» соответствует немецкое слово der Sachverhalt, которое имеет следующие значения: I.«обстоятельства дела», «положение вещей» и 2. «содержание», «значение». Как видим, ничего похожего на «атомарный факт» или «со-бытие» здесь нет. Когда «Трактат» переводился на английский язык, Витгенштейн в письме к Расселу, объясняя различие между видами фактов, пояснил, что он имел в виду именно простоту и сложность фактов. Рассел в своем введении закрепил это деление тем охотнее, что оно соответствовало его «логическому атомизму». В первом русском переводе «Трактата», вы-
156
шедшем в 1958 г., была учтена эта переписка, и на русский язык слово deer Sachverhalt было переведено словами «атомарный факт». Второй перевод увидел свет в 1994 г. Появление,в нем искусственного слова «со-бытие» переводчик объясняет стремлением отделить позицию Витгенштейна от позиции Рассела, от свойственного британской философии эмпиризма и номинализма. В данной книге цитируется в основном второй перевод. Впрочем, эти тонкости имеют значение, пожалуй, лишь для специалистов, для наших же целей достаточно отметить, что в «Трактате» на самом деле речь идет об одномоментном «положении дел» (элементарной ситуации) и объединении подобных «положений дел» (ситуаций) в некую конфигурацию, которая сама может рассматриваться как факт, но сложный, состоящий из элементарных фактов. Думается, что слово der Sachverhalt было употреблено Витгенштейном, потому, что оно может быть в одном своем значении отнесено к миру, а в другом к языку. Таким же образом и язык состоит из двух видов предложений: атомарных предложений (простых, далее неделимых единиц языка) и молекулярных предложений, которые составлены из атомарных.
Наконец, пожалуй, завершающим штрихом является следующее утверждение Витгенштейна: «Картина — факт». Отсюда следует, что факты это не только преобразованные включением в язык предметы, но и мысли о предметах. Тем самым лишается смысла вопрос о соотношении бытия и мысли; и то. и другое объединены в единой системе языка.
Итак, мир Витгенштейна — это весьма специфический мир. Он тождественен с языком. Философ пишет: «Границы моего языка означают границы моего мира», затем повторяет: «То, что мир является моим миром, обнаруживается в том, что границы особого языка (того языка, который мне только и понятен) означают границы моего мира». А в расшифровке шестого тезиса содержится такой афоризм: «Мир счастливого отличен от мира несчастного».
Последовательно проводя мысль о том, что все три «слоя» действительности объединяются законами логики. Витгенштейн заходит так далеко, что заявляет о сходстве структуры предложе-
157
ния и структуры события, предмета: «В предложении должно распознаваться столько же разных составляющих, сколько и в изображаемой им ситуации». Пожалуй, из философов прошлого только Спиноза, утверждал нечто Подобное, правда, у Спинозы шла речь о соответствии порядка веицей и порядка идей.
Поскольку субстанцию мира Витгенштейна составляет логика, постольку этот мир весьма специ<фичен. Он конечен: «Объекты заключают в себе возможность всех ситуаций». В нем царствует необходимость, в нем нет случайностей: «Если даны все объекты, то тем самым даны и все возможные события». Или еще более ярко: «В логике нет ничего случайного: если предмет может появляться в некоем со-бытии, то возможность этого события уже заложена в нем». Этот мир, пожалуЦ еще рациональнее, чем мир Гегеля. Витгенштейн провозглашает; «Что мыслимо, то и возможно». Верно и обратное утверждение: то, что нельзя мыслить, не может и существовать, ибо оно нелогично. Философ утверждает: «Нелогичное немыслимо, ибо в противном случае нужно было бы мыслить нелогично». Но если невозможно мыслить нелогичное, то невозможно и сказать. как выглядел бы «нелогичный мир» (т.е. нелогичное нельзя выразить в языке). С точки зрения Витгенштейна, требование представить себе нелогичный мир было бы таким же абсурдом, как и Требование представить себе круглый квадрат в виде наглядного образа.
Отождествляя картину мира и язык, Витгенштейн ссылается на науку: язык Ньютона дает одну Механику, язык Эйнштейна — другую. Это отождествление философ закрепляет в следующем афоризме: «То. чего мы не можем Мыслить, мы не можем и сказать». А доказательство этого афорц3ма выглядит так: «Ведь для проведения границы мышления мы должны были бы обладать способностью мысли по обе стороны Этой границы (т.е. иметь возможность мыслить немыслимое). Такая граница, поэтому, может быть проведена только в языке, а то, что лежит за ней, оказывается просто бессмыслицей».
Все эти сложные конструкции Нужны Витгенштейну для решения, пожалуй, центральной проблемы его «Трактата» — проблемы истинности. Истинность он определяет так: «Предложение
истинно, если то, что в нем утверждается, имеет место». В качестве примера он ссылается на науку, понимаемую как естествознание, как «точная наука», как science. Он формулирует афоризм: «Совокупность всех истинных предложений есть все естествознание».
Все предложения нашего языка он разделяет на два класса:
1 .осмысленные (т.е. те, которые могут быть или истинными или ложными),
2.бессмысленные (т.е. те, о которых нельзя сказать, ни что они истинны, ни что они ложны). (Следует обратить внимание на специфическое употребление Витгенштейном слов «осмысленное» и «бессмысленное»).
Их функции резко различаются: осмысленные предложения выражают то, что может быть сказано, они составляют содержание всех естественных наук. Бессмысленные предложения выражают то, что не может быть сказано, но может быть показано. Для того чтобы понять это разделение, нужно вспомнить упомянутое в предыдущей главе различие между словами, обозначающими предметы и синтаксическими словами. Если слова, обозначающие вещи, говорят о какой-то ситуации в мире, то синтаксические слова («не», «чем», «но» и др.) не говорят, а показывают (или указывают на) какие-то связи вещей и отношения, а также указывают на те операции, которые могут быть произведены над словами, имеющими предметное содержание. Причем существуют целые системы таких знаков, образующих различные языки, которые имеют целью не говорить, а показывать. Осмысленные предложения и составляют содержание всех естественных наук. Бессмысленные же предложения составляют содержание, с одной стороны, логики и математики, а с другой, философии (сюда же относятся этика и эстетика).
При этом важно помнить, что предложения логики и математики, разделяя с предложениями философии признак бессмысленности, в то же время резко отличаются от них.
Предложения логики и математики представляют собой или тавтологии, и в таком случае они являются истинными для всех возможностей, или противоречия, и тогда они являются ложными
159
для всех возможностей. Например, логический закон тождества имеет, как мы знаем, вид: А = А и, следовательно, это выражение всегда истинно. Математика, в свою очередь, утверждает: 2 + 2 = 4. Эта формула также выражает тавтологию; ее левая и правая относительно знака равенства стороны тождественны, а сама формула всегда истинна. Но если истинность всегда присутствует в логике и математике, то вопрос об истинности просто снимается и, следовательно, предложения логики и математики бессмысленны. Тавтология, говорит Витгенштейн, не имеет смысла. Однако если знаки логического исчисления и математических уравнений понимать не как образы действительности, а как символы, которые указывают на необходимость таких-то и таких-то операций, то их нельзя назвать бессмысленными, более того, они играют очень важную роль в познании. Дело в том, что поскольку, как мы видели, согласно Витгенштейну, вся необходимость исчерпывается логикой, то все выводы в нашем мышлении происходят a priori. Отсюда же понятно, что логика не нуждается в опыте, ибо ее предложения не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты им. Логика не теория мира, а его образ, его подобие, говоря языком классической философии, она трансцендентальна. Правда, из этих же рассуждений вытекает и обратная, так сказать, стороны медали: логика не имеет, согласно Витгенштейну, никакого отношения к вопросу о том, таков ли наш мир в действительности, как мы его мыслим согласно законам логики, или нет. Логические предложения это строительные леса, которые, говорит философ, нужно отбросить, когда постройка закончена. Что же касается математики, то она — частный случай логики, логический метод. Мы употребляем математические предложения только для того, чтобы из предложений, не принадлежащих математике, вывести другие предложения, также не принадлежащие математике. Законы физики появляются благодаря использованию математических формул. В самой же жизни нет таких математических предложений, в которых бы мы нуждались, чтобы что-то сказать о мире. И Витгенштейн делает вывод, который сейчас можно часто услышать, (правда, почему-то без ссылки на его автора): математика не наука, а особый вид языка.
160
Но еще своеобразнее в концепции Витгенштейна положение философии. Ее предложения также как предложения логики и математики бессмысленны, они не могут быть ни истинными, ни ложными, ибо философия не может сказать, она может только показать. А один из основополагающих тезисов Витгенштейна гласит: «То, что может быть показано, не может быть сказано». Философия, таким образом, в принципе не может быть одной из наук, она — что-то стоящее «над» или «под», но не «наряду» с наукой. Философия не теория, а деятельность. Ее понятия — это символы, а не предметы, а философы употребляют их по аналогии с понятиями, обозначающими вещи. Отсюда и проистекают «философские проблемы», которые являются на самом деле псевдопроблемами. Возьмем такой пример. Философы, например, говорят о дуализме Декарта, так как он-де признает существующими две субстанции. Но предложение «Имеется две субстанции» бессмысленно, так как слово «субстанция» не обозначает какую-то вещь. Слово «субстанция» есть символ, который показывает необходимость операции сведения многообразия мира к единой основе. Логическая форма предложения типа «Имеется 2 субстанции» выглядит следующим образом: 2х, где х — переменная, которая может иметь разные значения (имеется 2 книги, имеется 2 стола и т.п.). Но в качестве переменной не может выступать логический символ. Если вы предложите математику решить следующую формулу: 2 + + +2 = ?, то он естественно откажется его рассматривать и потребует объяснений. А когда философ говорит о дуализме, он как раз и предлагает решить такую бессмысленную формулу.
Однако, отрицая за философией статус науки, Витгенштейн не отрицает ее права на существование в качестве особого вида деятельности. Более того, он очерчивает круг этой деятельности — это анализ языка, устранение двусмысленностей и неточностей и, следовательно, в конечном итоге логическое прояснение мыслей. Философия должна прояснять и разграничивать мысли. Она не может ничего говорить о мире, но она может показывать нечто, что имеет определенное значение для человека. Понятия философии — это своеобразные логические символы и их нельзя упот-
161
реблять так, как употребляются понятия, обозначающие реально существующие вещи. Философских предложений о мире не может быть. И как только философ, совершая недопустимую ошибку, начинает составлять такого рода предложения, они превращаются в псевдопредложения в силу сформулированного Витгенштейном принципа «то, что может быть показано, не может быть сказано». В самом деле, в голове человека может крутиться мелодия. Если у человека есть музыкальный слух, он легко может «показать» (пропеть, просвистеть) эту мелодию, но как возможно описать ее при помощи слов обыденного языка? Витгенштейн делает категорический вывод: самые глубокие философские проблемы на самом деле не являются проблемами, все предложения об этих проблемах являются бессмысленными.
Например, философы рассуждают о ценностях. Но ценности сами определяются ответом на вопрос о смысле мира. А смысл мира по сути этого сочетания слов должен лежать вне мира, т.е. в мире нет никаких ценностей. Как только философ начинает рассуждать о ценностях, его предложения превращаются в псевдопредложения и теряют смысл. Скажем, вопрос о смысле мира зависит от того, какой ответ мы даем на вопрос о бессмертии души. Предположим, что мы верим в бессмертие души. Но, спрашивает Витгенштейн, может ли решиться какая-либо загадка бытия тем. что я буду вечно жить? Нет, конечно. Бог не проявляется в мире. Бог не есть факт. Поэтому решение философских проблем состоит в их исчезновении. А для этого и необходимо заниматься логическим прояснением наших мыслей. В подтверждение своих выводов Витгенштейн ссылается на то, что мир как целое не есть понятие, это есть чувство. Как и всякое чувство, оно иррационально, в нем содержится нечто мистическое. Не случайным является и то обстоятельство, замечает он, что как раз те люди, которым по общему признанию после долгих и мучительных духовных поисков удалось постигнуть смысл жизни, не могут толком ничего сказать о том, в чем же этот смысл состоит.
Витгенштейн завершает «Трактат» тем, что свои рассуждения обращает на свой собственный труд. Ведь он тоже представляет
162
собой совокупность предложений и тот, говорит философ, кто меня понял, уяснит, в конце концов, их бессмысленность.
Хотелось бы обратить внимание на один из ключевых афоризмов Витгенштейна: «Наш основной принцип состоит в следующем: каждый вопрос, который вообще поддается логическому решению, должен быть решаем сразу же. (Если же для ответа на такой вопрос требуется прибегнуть к созерцанию мира, это показывает, что избран принципиально ошибочный путь)». Думается, что здесь содержится обоснование тезиса о том, что наука функционирует вне всякой связи с философией, мировоззрением вообще (напомню, что и этику и эстетику Витгенштейн присоединяет к философии).
В советской литературе Витгенштейна без всяких оговорок причисляли к течению, которое получило название «логический позитивизм» или «неопозитивизм». Сейчас появилась тенденция отделить его от логического позитивизма и представлять в качестве философа, проделавшего после «Трактата» сложную духовную эволюцию, философа, которому нельзя дать однозначную оценку. При этом ссылаются на его «Философские исследования», появившиеся в печати спустя более чем тридцать лет после «Трактата», а также его работы «О достоверности» и «Культура и ценность», увидевшие свет уже после смерти философа.
Справедливости ради следует сказать, что действительно в некоторых отношениях взгляды Витгенштейна претерпели некоторые изменения, и иногда он критически (и даже иронически) отзывался о своем «Трактате». Из упомянутых изменений следует, пожалуй, отметить то, что философ вполне определенно стал утверждать, что иррациональное (т.е. невыразимое, а при попытках все-таки выразить его в языке бессмысленное) лежит в основе рационального, т.е. в основе естественнонаучных представлений. Так, в работе «О достоверности» он, ссылаясь на Лавуазье, утверждает, что в основе химических теорий последнего лежит вполне определенная «картина мира», которую он усвоил в детстве и которая является невыразимой. А в работе «Культура и ценность» он формулирует обобщение, которое звучит как теоретическое основание его позиции: «Невыразимое (то, что кажется мне пол-
163
ным загадочности и не поддается выражению), пожалуй, создает фон, на котором обретает свое значение все, что я способен выразить». Это напоминает эволюцию взглядов Гуссерля и в этом смысле кажется мне весьма многозначительным обстоятельством. Более того, Витгенштейн в работе «Культура и ценность» вполне логично говорит, что философские проблемы вечны (как мы помним, в «Трактате» речь шла об исчезновении философских проблем). Философ аргументирует свой вывод тем, что «наш язык остается тем же самым и вновь и вновь склоняет нас к постановке тех же самых вопросов». По сравнению с позицией «Трактата» это, конечно, большое (и, на мой взгляд, знаменательное) изменение. Вместе с тем многое говорит в пользу того, что основные тезисы «Трактата» не претерпели существенных изменений. По-прежнему главную цель философии он видит в «борьбе против зачаровывания интеллекта средствами языка». Он дает такую весьма своеобразную характеристику сути философии: «Итог философии — обнаружение тех или иных явных несуразиц и тех шишек, которые набивает рассудок, наталкиваясь на границы языка. Именно эти шишки и позволяют нам оценить значимость философских открытий». Об этом же говорит и следующий афоризм: «Философская проблема имеет форму: «Я в тупике». Или такое сравнение ( на мой взгляд, весьма остроумное по отношению ко многим философским учениям): «Решение философской проблемы можно сравнить с подарком в волшебной сказке: он кажется таким прекрасным в заколдованном замке, а при дневном свете оказывается обычным куском железа или чем-то в этом роде». По-прежнему он отрицает за философией какое-либо методологическое значение по отношению к частным наукам (см., например, «Философские исследования», № 124).
Так же, как в «Трактате» он давал примеры языковых ошибок, служащих источником возникновения философских проблем, так и в «Философских исследованиях» он приводит новые примеры ошибок (на это раз мыслительных), которые и порождают «философские проблемы»: например, подмена слова «одинаковый» словом «тождественный», замена слова «цифра» на слово «число» и в
164
соответствии с этим замена «действительного объекта» на «недействительный объект».
В «Философских исследованиях» (по объему в три раза превышающих «Трактат») Витгенштейн бьется над решением следующих проблем:
проблема соотношения языка и действительности, проблема соотношения мышления и языка, проблема соотношения чувства и обозначающего его слова (реальное чувство боли и слово «боль», словесный приказ и реальное действие и т.п.).
При этом он высказывает целый ряд остроумных соображений. Однако решает эти проблемы философ таким образом, как будто бы не существует ни философской традиции, ни других философских концепций (думается, что это непосредственно связано с сутью идей, выраженных именно в «Трактате»), что, на мой взгляд, существенно снижает ценность его работы. В силу всех этих соображений можно говорить лишь о частичных изменениях позиции философа, не более того. 2.5.4.К.Поппер.
Одним из наиболее видных представителей сциентистски-ориентированной философии на британской почве является Карл Раймунд Поппер (1902-1996). Свою философскую концепцию он называл «критическим рационализмом». Это название требует пояснений.
Дело в том, что всех философов Поппер относит к одному из двух возможных течений: рационализму или иррационализму. Иррационалист это, по мнению Поппера, тот, кто считает, что человек по преимуществу не рациональное существо, он скорее поддается эмоциям, чем рациональным аргументам. Все. имеющее значимость в жизни, утверждают иррационалисты, выше разума. Произведения искусства, научные открытия, мудрые государственные установления создаются, с этой точки зрения, незначительным творческим меньшинством, и их способность творить — это иррациональная мистическая способность. Этот взгляд Поппер считал ошибочным и себя самого отнес к рационалистам. Но проблема в том, что, по мнению философа, рациона-
165
лизм, в свою очередь, может быть подлинным и неподлинным. Неподлинный рационализм, или псевдорационализм выражается в уверенности, что некоторые люди обладают высшими интеллектуальными способностями, благодаря которым они получают вечно истинное, безусловное знание. Псевдорационализм, таким образом, предполагает признание интеллектуальной интуиции и претензии на обладание абсолютной истиной (к числу его представителей Поппер относит, например, Платона и Гегеля). Так же, как и иррационализм, он приводит к делению людей на горстку избранных, которые предназначены повелевать, и большинство профанов, судьба которых состоит в беспрекословном подчинении. Отсюда рукой подать в теории — до сочинения проектов идеального общественного устройства, а на практике — до тоталитарной диктатуры. Вот почему от псевдорационализма следует отделить подлинный рационализм. Это, по мнению Поппера. рационализм Сократа («Я знаю, что я ничего не знаю»), т.е. рационализм, сознающий ограниченность наших знаний и скромно признающий, что все люди часто ошибаются, что нет людей, обладающих абсолютной истиной. В свою очередь, подлинный рационализм может быть «некритическим» или «всеобъемлющим» и сдержанным, самокритичным. Некритический рационализм — это рационализм, который максималистски заявляет, что мы не можем принять ни одного допущения, которое не опиралось бы на опыт или доказательство. Но, делая это заявление, всеобъемлющий или критический рационализм попадает в ловушку, ибо само это заявление, понимаемое как исходный принцип, не может быть обосновано ни доказательством, ни опытом. Таким образом, заключает Поппер, некритический рационализм противоречив, т.е. логически не состоятелен. Необходимо признать, что рационализм сам основан на вере в разум, т.е. на чувстве, на иррациональности. Такое признание означает, что рационализм не может рассматривать сам себя как всеобъемлющий и самодостаточный подход и должен допустить в этом смысле первенство иррационализма. Это и есть критический рационализм, сторонником которого объявляет себя Поппер. Такой рационализм отрицает наличие у людей окончательного знания и указывает на то, что
166
весь прогресс знания состоит лишь в замене менее истинного знания более истинным. Такой рационализм всегда готов под воздействием аргументированной критики пересмотреть свои утверждения, он всегда открыт для рациональной и свободной дискуссии. Такой рационализм предполагает, в сущности, минимальное требование: способность выслушивать критику и извлекать из ошибок уроки.
Хотя Поппер не ставил перед собой задачи создания особой философской системы, в его произведениях фактически присутствуют все ее традиционные составные части (онтология, гносеология и социальная философия). Характерной особенностью его концепции является то, что в основе и онтологии, и гносеологии, и социальной философии лежат два принципа — принцип эволюции и принцип детерминизма. Именно из них, в конечном счете, исходят все его философские построения. Интересно отметить, что материалистическая диалектика Маркса, Энгельса, Ленина также постулирует два исходных принципа: принцип всеобщего развития и принцип всеобщей мировой связи.
Содержание принципа эволюции раскрывается Поппером следующим образом:
жизнь любого организма представляет собой не что иное, как решение проблем,
проблемы всегда и на всех уровнях развития жизни решаются методом проб и ошибок. Это универсальный метод решения любых проблем, и в этом смысле жизнедеятельность, скажем, амебы принципиально не отличается от научного поиска Эйнштейна (пример, которым оперирует сам Поппер). Механизм этого метода прост: выдвижение гипотезы, получение практического результата, исправление ошибок в гипотезе или выдвижение новой,
главное в этом методе — отбрасывание негодных гипотез
или их модификация.
Общая схема эволюции выглядит следующим образом:
167
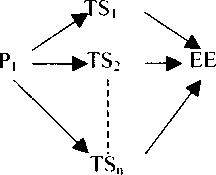
где:
pi —исходная проблема, TSi, TS2, TSn — пробные гипотезы, ЕЕ — устранение ошибок,
Pi — полученный результат и возникновение новой проблемы.
Поппер не скрывал, что в основе такого понимания эволюции лежит концепция неодарвинизма, которая была им обобщена и превращена во всеобщий метод подхода к миру. При этом происходят следующие изменения понятий:
деятельность организмов понимается как непрерывное решение проблем,
проблемы многообразны (речь идет не только о выживании, но и о поиске пищи, бегстве от опасности, воспроизводстве рода и т.д. и т.п.),
понятие «мутации» интерпретируется как совокупность случайных проб и ошибок, а понятие «естественный отбор» как способ воздействия на процесс эволюции или способ управления им с помощью устранения ошибок,
проблемы объективны (это значит, что для их решения нет необходимости в наличии сознания, более того, даже у человека проблема осознается, как правило, задним числом, а если даже и формулируется вполне сознательно и до ее решения, то эта формулировка не обязательно совпадает с объективно стоящей проблемой),
проблемы всегда решаются методом проб и ошибок на основе обратной связи, которая реализуется в устранении ошибок.
формы исправления ошибок многообразны (устранение не\дачных проб, их модификация и т.п.),
168
сам организм (слово «организм» понимается здесь в очень широком смысле как любая органическая система) есть не что иное, как проба, которая может быть поддержана, а может быть подавлена дальнейшим ходом событий,
pi и Р2 это разные проблемы, т.е. речь идет не о циклическом процессе, а об эволюции в полном смысле этого слова, т.е. о появлении нового. Таким образом, считает Поппер, речь идет о явлении, которое в постклассической философии называли «творческой» или «эмерджентной» (от англ, emergent — внезапно возникающий) эволюцией.
Вторым основополагающим принципом философии Поппера является принцип детерминизма. Излагая его содержание, Поппер указывает, прежде всего, на различие между физическим и философским детерминизмом.
Часы
Облако
Облако можно рассматривать как некую систему, свойство которой — беспорядочность движений составляющих ее элементов (капель водяного пара) и, следовательно, невозможность точной предсказуемости их поведения. Тогда часы на противоположном конце шкалы предстают как система, элементы которой находятся между собой в жестких однозначных отношениях, их движения являются строго упорядоченными и допускают точное предсказание. Все остальные явления (живые и неживые) можно поместить на этой шкале ближе к тому или иному ее краю. Так. животные разместятся ближе к левому краю, а растения — к правому. Щенок займет место левее, чем старый пес. Солнечная система будет находиться справа, а совокупное состояние атмосферных явлений, которое в обыденной жизни мы называем погодой — слева (все эти примеры принадлежат Попперу).
169
Успехи классической механики, связанные, прежде всего, с именем Ньютона, привели, по мнению Поппера, физику к обобщению, которое можно сформулировать так: «все облака суть часы». Это и есть принцип детерминизма. Благодаря его реализации наука и техника пришли, по его оценке, к успеху, «превзошедшему все ожидания». По существу этому принципу обязано все бурное развитие техники в XIX и XX вв. Тем не менее, в ходе дальнейшего развития естествознания (прежде всего квантовой механики), обязанного, по мнению Поппера, теоретическим открытиям таких ученых, как Пирс. Гейзенберг и Бор, выяснилась правота противоположного утверждения: «все часы суть облака». Это и есть формулировка принципа индетерминизма. Таким образом, можно сказать, что суть физического детерминизма состоит в провозглашении возможности точной предсказуемости поведения рассматриваемого объекта и отрицании каких-либо исключений из этого правила. Тогда физический индетерминизм связан с признанием того, что не все события предопределены с абсолютной точностью, что существуют исключения. При этом Поппер ясно и недвусмысленно заявляет о своей симпатии к индетерминизму, специально оговариваясь при этом, что физический индетерминизм не имеет никакого отношения к признанию возможности существования каких-либо беспричинных явлений (именно так этот принцип истолковывался в советской философской литературе); этот принцип ограничивается всего лишь утверждением, что, по крайней мере, время от времени в самой строгой предопределенности случаются исключения.
Физическому детерминизму Поппер противопоставляет философский детерминизм, сущность которого, по его мнению, может быть выражена следующими утверждениями: «подобные следствия вызываются подобными причинами» или: «у каждого события есть своя причина». Но такие формулировки, говорит он. настолько неопределенны и туманны, что их можно совместить как с физическим детерминизмом, так и с физическим индетерминизмом.
Как утверждает Поппер, концепции физического детерминизма, проведенной последовательно, присуща трудность, кото-
170
рой он дает выразительное название «кошмар физического детерминиста». Дело в том. что, по мнению Поппера, принцип детерминизма несовместим с признанием человеческой свободы и творчества. В самом деле, если возможно сведение психических явлений к физиологическим процессам, а последних к физическим, то можно сделать вывод, что на основе точного знания физических взаимодействий может быть воспроизведен любой творческий акт человека. Скажем, рассуждает Поппер, глухой и не имеющий музыкального образования физик, изучив тела Моцарта и Бетховена, а также их нотные рукописи и установивший между ними (телами и рукописями) однозначную связь, мог бы написать за них все их музыкальные произведения (в том числе и такие, которые ими в силу каких-то обстоятельств не были написаны). Но в таком случае нужно признать, что никакой свободы у человека нет. что человек есть машина. С таким выводом Поппер не может и не хочет соглашаться («...Я не верю, что мы — всего лишь вычислительные машины...»,— пишет он).
Называя себя сторонником физического индетерминизма, Поппер, тем не менее, указывает на то, что одного признания случайности недостаточно, чтобы объяснить творческий процесс и свободу человека. Дело в том, что последовательное проведение принципа физического индетерминизма приводит к выводу, что в процессе творчества, (например, создание композитором музыкального произведения) решающую роль играет случайность (рука композитора наносит на лист бумаги нотные знаки без цели, без плана). Чем же такое объяснение лучше «кошмара физического детерминиста»? Не случайно то, что именно на основе концепции физического индетерминизма были сделаны попытки объяснить творчество и свободу человека проявлением квантовой неопределенности: неопределенный и непредсказуемый квантовый скачок в мозгу человека дает эффект мгновенного решения в сложной, быстро меняющейся ситуации (например, работа водителя, пилота), а результат решения оценивается в терминах «удача» или «неудача». Хотя в жизни человека, считает Поппер, действительно бывают моменты, когда он действует случайным образом (человек как бы говорит себе: «Подброшу-ка я монету»),
171
но все же в основном поведение человека рационально. Поэтому объяснение свободы человека квантовым скачком кажется Поп-перу столь же абсурдным, как и попытка редуцировать творчество композитора к физическим процессам, происходящим в его теле. Беда многих мыслителей, считает Поппер, заключается в том, что они считают, что существуют только две возможности: полная предопределенность или полная случайность, в то время как жизнь сложна: с одной стороны, не существует абсолютно совершенных часов, а с другой, погоду, хотя и на сравнительно короткий период времени, но все же можно предсказать.
Эти рассуждения, по мнению Поппера, приводят к постановке центрального философского вопроса: каким образом такие нефизические (в советской литературе сказали бы «идеальные») вещи как цели, планы, решения, теории, ценности могут вызывать реальные изменения в физическом мире? Этот вопрос (в марксистской литературе он получил, как мы помним, название основного вопроса философии) в течение столетий стоял в центре философских дискуссий, различные способы ответа на него привели к возникновению материализма и идеализма, но удовлетворительного решения проблемы так и не было получено.
Дело в том, по мнению Поппера, что за этим вопросом на самом деле скрываются две (а не одна) проблемы:
1. Каким образом смысл (т.е. нечто абстрактное), выраженный в словах, рисунках (или какими-либо другими средствами), может управлять реальным поведением человека (а, следовательно, влиять на физический мир)? Эту проблему, считает Поппер, философы практически упустили из виду и свели ответ на центральный вопрос к поискам решений второй проблемы.
2. Как психические состояния человека (воля, чувства, цель) влияют на физические движения членов нашего тела, и каким образом физическое состояние организма влияет на его духовную деятельность?
Но то обстоятельство, что была упущена из виду первая проблема (а она-то и является, по его мнению, главной), затрудняло решение и второй.
72
Для того чтобы решить первую проблему, необходимо ввести понятие гибкого управления, суть которого Поппер образно передает тезисом: «система облаков управляется облаками» (это значит, что действия управляемой системой представляют собой непрерывные пробы и ошибки, а деятельность управляющей системы состоит в подавлении или ограничении ошибок). И здесь перед Поппером встает вопрос, который, как он сам признается, доставил ему много трудностей. Этот вопрос заключается в следующем: существует ли гибкое управление в неорганической природе? Ведь все рассуждения о принципе эволюции до сих пор касались лишь живой природы, но принцип, лежащий в основе всей философской концепции, должен, по-видимому, иметь всеобщее значение. Задача заключается в том, чтобы найти такое явление из области неживой природы, которое демонстрировало бы «мягкое» управление и находилось бы где-то посредине между облаком и часами. По мнению Поппера, лучше всего на роль такого явления подходит мыльный пузырь. Тогда слева от него (если вернуться к вышеприведенной шкале) можно поместить неуправляемый газ. который через некоторый промежуток времени рассеется и перестанет составлять систему (пример неуправляемого явления), а справа закрытый железный цилиндр, наполненный газом (пример «жесткого» управления). Что же касается мыльного пузыря, то он состоит из двух подсистем, каждая из которых является облаком: управляемой (воздух) и управляющей (мыльная пленка). Без пленки воздух бесконтролен и рассеивается, а без воздуха мыльная пленка превращается в каплю мыльной воды. Между обеими подсистемами осуществляется процесс взаимного управления, он имеет характер обратной связи, т.е. управление является гибким. Обе подсистемы являются облакоподоб-ными. Это приводит к тому, что поведение мыльного пузыря аналогично поведению биологического организма, его и можно принять за примитивный организм (так, мыльный пузырь способен реагировать на воздействия окружающей среды: скажем при попадании на него теплового излучения, он поглотит тепло, воздух внутри пленки расширится, и пузырь начнет подниматься). Но самое главное заключается в том, что этот пример доказывает,
173
что существуют физические облакоподобные системы, которые управляются другими облакоподобными физическими системами. Это и есть, по мнению Поппера. решение первой проблемы, содержащейся в основном философском вопросе.
После этих рассуждений, считает Поппер, возможно прямое решение и второй проблемы. При этом важно понять, что достигается оно не ответом на вопрос «что?» («что такое сознание?»), а ответом на вопрос «как?», «каким образом?» («какую функцию в процессе эволюции выполняет то свойство организмов, которое у человека получило название сознания?»). Этому моменту Поппер придает очень большое значение. Он считает, что определения, которые отвечают на вопрос «Что такое жизнь?», «Что такое тяготение?» — это пережиток аристотелевской науки, которая искала за явлениями «сущность». В современной же науке они не играют никакой роли, так как относятся только к используемому языку, а не к самому научному знанию. Современная наука начинает с определяющей формулы и ищет для нее краткое обозначение. Таким образом, удается сократить длинный текст, но к объему информации все это отношения не имеет. Для того чтобы очистить современную науку от пережитков аристотелизма, Поппер даже вводит специальную терминологию: «методологический эссенциализм» (античная наука) и «методологический номинализм» (современная наука). Между прочим именно потому, что проблемы общественных наук до сих пор решаются эссенциалистскими методами, считает Поппер, они (эти науки) являются столь отсталыми по сравнению с естествознанием.
Применяя эти идеи к рассматриваемой проблеме, мы и получаем решение основного вопроса философии. Сознание развилось, утверждает Поппер, из того неясного чувства раздражения, которое организм испытывал всякий раз, когда ему надо было решить какую-то проблему. Это чувство оказалось важным фактором эволюции (поскольку позволяло избегать ошибок), наследовалось и, в конце концов, развилось в способность предвидеть возможные способы реагирования: возможные пробы, возможные ошибки и возможные исходы. Сознание, таким образом, является одним из типов управления, причем управления гибкого, осно-
174
ванного на обратной связи. Постепенно у человека возникла целая система способов гибкого управления, причем сознание само управляется на основе обратной связи. Так, например, человек создает такую управляющую систему как свод законов, который управляет поведением человека, но который сам видоизменяется сознанием человека. И все эти системы управления составляют вместе «универсум значений смыслов». Наши социальные, правовые, лингвистические системы созданы (управляются) нами и в то же время управляют нами (в том числе определяя наше сознание). Итак, считает Поппер, предложенная им концепция предлагает решение старой философской проблемы, которое оказывается тривиальным: ничего не говоря о том, что есть разум, она, тем не менее, раскрывает взаимодействие мыслительных (идеальных) и физических (материальных) действий, в основе которого лежит обратная связь. Отсюда следует, что Декарт был и прав (существует дуализм), и не прав (существуют не две субстанции, а два типа взаимодействующих состояний или событий: физико-химических и духовных). Однако более правдоподобной является точка зрения плюрализма. Дело в том, что ведь кроме физико-химических и духовных состояний, есть еще и артефакты, т.е. явления, в которых духовное (воплощенная в них мысль человека) и материальное (их физико-химический субстрат) не существуют друг без друга. Именно плюрализм позволяет сделать вывод о том, что абстрактные правила и абстрактные идеи, которые по сию пору лишь частично освоены человеком, способны двигать горы.
Итак, физический мир есть открытая и эволюционирующая система, совместимая с признанием творчества и свободы человека. Однако уверенность в развитии человеческого знания и человеческой свободы должна сочетаться с признанием существования в каждый данный момент некоей меры осознания сущности и мира, и нашего знания, и нашей свободы. Словом, Попперу нельзя отказать в оптимизме, но оптимизме трезвом, не впадающим в эйфорию и видящим свои границы.
Итак, подытоживая попперовское решение проблемы сознания, можно сказать, что с его точки зрения, сознание не субстан-
175
ционально, а функционально. Это значит, что когда ставится вопрос о сознании, то речь идет не о каком-то явлении, существующем наряду с другими явлениями мира, а об определенных чертах, присущих эволюции, точнее, о характеристике функций элементов управляющей системы в механизме эволюции. С этой точки зрения можно сказать, что сознание — это эволюционный фактор, способность предвидения возможных ошибок, условие реагирования организма на воздействия среды, делающее возможным управление нашим поведением./
Во второй половине своей жизни Поппер существенно дополнил свою онтологию учением о «трех мирах», которое получило довольно большую известность.
Согласно Попперу, вся действительность может быть разбита на три относительно самостоятельных мира:
1. мир физических объектов,
2. мир ментальных (психических) состояний,
3. мир объективного содержания мышления.
Третий мир — это мир научных идей и произведений искусства, мир теоретических систем и проблем. Одним словом, это мир знаний. Поппер включает в него все содержание журналов и книг.
Аргументация Поппера в пользу выделения третьего мира в самостоятельный такова: проделаем, говорит он, следующий мысленный эксперимент. Предположим, что в результате какой-то катастрофы человечество потеряло все свои завоевания; разрушены механизмы, машины, здания, словом, уничтожено все, кроме библиотек. Что в таком случае ждет человечество? Благодаря сохранению знаний, утверждает Поппер, вполне возможно постепенное восстановление всего, что было сделано предшествующими поколениями. А теперь предположим, что уничтожено все знание, которое было накоплено человечеством и хранилось в библиотеках. Что в таком случае ожидает людей? Возврат человечества к цивилизованному состоянию, по его мнению, будет уже невозможен.
Поппер предлагает различать знание в субъективном смысле (знание конкретных людей, знание, содержащееся в головах субъ-
176
ектов мышления) и бессубъектное, объективное знание. Последнее и составляет третий мир. Он считает, что возможно самостоятельное исследование этого третьего мира наряду с исследованием психики людей или физического мира. Дело в том, что третий мир обладает своей спецификой. Он, с одной стороны, является продуктом деятельности человека, с другой, его существование автономно, хотя и зависит от людей и влияет на них. Рост третьего мира аналогичен, утверждает Поппер, росту биологического организма. Элементы, составляющие третий мир, должны изучаться так же, как продукты жизнедеятельности животных (как биологи изучают, например, гнезда птиц, норы животных и пр.). Такой подход, утверждает Поппер, даст больше для понимания процесса мышления, чем попытки его непосредственного воспроизведения. Ведь во всех науках существует такой подход к изучению объекта, когда от известных следствий идут к породившим их причинам. Он резко возражает против той точки зрения (кстати, весьма распространенной в советской философской литературе), что знание, содержащееся в книге, актуализируется только тогда, когда книгу кто-нибудь начинает читать, без читателя же книга превращается в листы бумаги, испачканные сажей. Нет, говорит он, знание содержится в книге независимо от того, читают ее или нет (так же, как гнездо остается гнездом и тогда, когда оно покинуто птицей). Ведь человек, понимающий то, что он читает, довольно редкое явление, пишет философ. Рядовой человек обычно плохо понимает прочитанное. Важна здесь сама возможность перевода линий и черточек на бумаге в актуальные смыслы. Эта возможность существует независимо от того, читает кто-нибудь книгу или нет. В этом своем рассуждении он заходит так далеко, что утверждает, что много теорий и рассуждений, которые не были созданы и. возможно, никогда не будут созданы, тем не менее, обладают существованием в третьем мире. Удивительная особенность этого мира, в частности, состоит в том. что каждый .новое приращение знания вызывает определенную перестройку всего его содержания. Более того, в мире знания возможно то. что невозможно в физическом мире: благодаря устранению заблужде-
177
ний человек буквально вытаскивает сам себя за волосы из болота незнания.
Хотя третий мир создан нами, он автономен и оказывает на нашу деятельность большее влияние, чем мы на него. Успех нашей мыслительной деятельности зависит от того обмена, который совершается «между нами и третьим миром. Поппер сравнивает «объекты» знания с детьми: как те, так и эти обязаны происхождением своим родителям, но со временем становятся самостоятельными и независимыми от них. И так же, как люди могут получить от своих детей больше, чем сами вложили в них, так и третий мир дает нам больше знаний, чем те, что мы в него вложили. Он вновь и вновь приводил сравнение, которое, по-видимому, считал удачным: именно благодаря третьему миру человек способен на то, что физически невозможно: вытаскивание людьми самих себя за волосы из болота. (Вышеприведенную схему эволюции он и предлагает считать механизмом такого «вытаскивания»). В известном смысле, замечает Поппер, можно сказать, что суть нашего познания сводится к попыткам изобразить первый и второй миры в терминах третьего мира и тем самым приблизиться к истине. При этом мы в процессе взаимодействия с третьим миром, отбрасываем ложные гипотезы и отбираем истинные, так. что можно сказать, что и мы, и третий мир совместно растем через взаимную борьбу и отбор.
Сходство учения Поппера о третьем мире с учением Платона о мире эйдосов или с учением Гегеля о Логике как предшественнице Природы и Человека сразу бросается в глаза. Поэтому он стремился отмежеваться от этих философов (Поппер подвергал Платона и Гегеля резкой и не всегда справедливой критике). Он указывает на важное, по его мнению, различие между своей и платоновской теориями: если у Платона мир эйдосов божественен, содержит абсолютную истину и окончательное разрешение всех загадок мира, то в его теории третий мир создан человеком, содержит в себе ошибки и дает лишь приближение к решениям проблем. Кроме того, у Платона содержание мира эйдосов на самом деле является совокупностью слов, которым приписывается самостоятельное существование, благодаря чему идеи превраща-
178
ются в самостоятельные сущности (в философии такое явление называется гипостазированием, от греческого слова hypostasis — существование), тогда как у Поппера понятия это лишь средства формулировки теорий, они инструментальны.
Если же сравнить, указывает Поппер, его теорию с абсолютным идеализмом Гегеля, то в философии Гегеля человек лишь орудие объективного духа, абсолютный дух является подлинным субъектом, а в качестве движущей силы развития понятия выступает противоречие, тогда как в его собственной теории критического рационализма между вторым миром (миром психических состояний человека) и третьим миром происходит постоянный взаимообмен, а движущей силой развития знания являются не противоречия, а их устранение в результате критической дискуссии.
Особое внимание Поппера привлекает такой важнейший вид детерминационной связи как закон. Закон природы описывает, по его мнению, жесткую, неизменную регулярность. Поскольку законы природы неизменны и не допускают исключений, то они не могут быть нарушены или созданы. И если мы сталкиваемся с событием, противоречащим закону, мы говорим не об исключении, а о том, что наша гипотеза о существовании закона опровергнута. Закону науки свойственны две особенности. Во-первых, у физического закона есть логическая форма, которая имеет следующий вид: «При определенных условиях, если величина А изменяется определенным способом, то величина В также изменяется некоторым предсказуемым способом». Отсюда следует, что любой закон природы имеет количественную сторону и может быть формализуем. Во-вторых, всякий закон науки может быть выражен запретом. Например, закон сохранения и превращения энергии запрещает построение вечного двигателя, закон возрастания энтропии запрещает КПД равный 100%.
Однако Поппер в дальнейших рассуждениях на эту тему существенно ослабил силу требований к понятию «закон природы». Гак, читатель узнает, что законы могут открываться не только наукой, но и здравым смыслом, обыденным сознанием. Правда, такие законы никогда не называют законами, поскольку они яв-
179
ляются банальностями. Например: «Люди не могут жить без пищи», «Позвоночные животные двуполы» и т.п. Близки к ним законы, которыми оперируют науки об обществе. Поппер приводит следующие примеры таких законов: «Невозможна полная занятость без инфляции», «В обществе с централизованным планированием система конкурентных цен невозможна», «Невозможна политическая реформа без последствий, нежелательных с точки зрения целей, поставленных реформаторами», «Невозможно совершить революцию, не вызвав реакции». «Революция не будет успешной, если правящий класс не ослаблен внутренними разногласиям или поражением в войне», «Нельзя дать человеку власть над другими людьми, не искушая его злоупотреблять этой властью. Искушение тем сильнее, чем больше у него власти, и мало кто способен устоять». Ясно, что к таким законам не применима та логическая форма, о которой сам же он писал (и писал, на мой взгляд, справедливо).
Интересны рассуждения Поппера по поводу законов развития, законов истории, в частности. Он занимает жесткую позицию, утверждая, что таких законов не существует, и существовать не может. Дело в том, что, по мнению Поппера, если взять эволюцию вообще или историю человеческого общества, то каждая из них, по сути своей представляет собой один огромный факт, причем факт уникальный, единственный в своем роде. Сравнить эволюцию или историю человеческого общества просто не с чем. Когда речь идет об эволюции или истории, то всегда неявно предполагается, что они всегда «окончены» к тому моменту времени, которое мы обозначаем словом «сейчас». По отношению к таким явлениям возможен лишь ситуационный анализ, т.е. выявление факторов, влияющих на то-то и то-то в сегодняшней ситуации. Правда, в истории есть то, что часто принимается за законы, это — тенденции, которые указывают на некоторую направленность хода событий. Но любая тенденция тем и отличается от закона, что она может резко измениться, развитие событий может пойти в совершенно другом направлении. Отсюда Поппер и делает вывод, что предвидение в истории (наподобие предвидения солнечного затмения в астрономии) невозможно, возможен лишь
180
прогноз, имеющий большую или меньшую степень вероятности осуществления.
Эти рассуждения Поппера представляются заслуживающими внимания и дальнейшей разработки. Правда, по-видимому, этой концепции можно противопоставить контрпример. Так, существует эмпирическая констатация, не имеющая теоретического обоснования, но и не знающая исключений. Ее можно сформулировать примерно так: в эволюции не бывает обратного хода (имеется в виду, что, возникнув, организмы нового вида не могут проделать «обратный путь», «вернуться» к исходной форме). Если принять всерьез слова Поппера о том. что закон всегда связан с запретом, то эта констатация наталкивает на размышления.
Обстоятельства сложились так, что долгое время в нашей стране Поппер был известен почти исключительно своими работами в области теории научного знания.
Он называет «крупными проблемами всех теорий познания» следующие вопросы: «как же происходит, что мы знаем так много и так мало? Как же происходит, что мы можем медленно вытаскивать себя из трясины незнания, так сказать, за волосы?»
Как известно, центральной проблемой теории познания является проблема истины. Поппер подытоживает развитие взглядов на истину в истории философии, утверждая, что существует четыре концепции истины: три из них субъективны (теория когерентности, очевидности и инструментальное™) и одна объективна — теория соответствия. Поппер объявляет себя сторонником объек-тивной концепции и излагает ее суть следующим образом: истинной является та теория, которая объясняет факты и является описанием мира. Преимущество объективной теории истины, по мнению Поппера, состоит в том, что только в этой теории возможно утверждение, которому он придает весьма большое значение: теория может быть истинной, даже если в нее не верит никто, и ложной, даже если в нее верят все. Однако, оговаривается Поппер. следует иметь в виду, что, как показала история философии, теория соответствия связана с ошибочной идеей о существовании сущности, которая будто бы «прячется» за явлениями (это и есть «эссенциализм», о котором шла речь выше). Эта идея наталкивает
181
на ложную, по его мнению, мысль о том, что возможно достижение окончательной (абсолютной) истины. Ведь признание существования сущности неминуемо влечет за собой признание возможности конца процесса познания, каковым и является абсолютная истина. Отсюда понятно, что теория соответствия должна сочетаться с отрицанием понятия «сущность» и признанием гипотетического характера всех истин. Поппер пишет: «С развиваемой нами точки зрения, все законы и теории остаются принципиально временными, предположительными или гипотетическими, даже в том случае, когда мы чувствуем себя неспособными сомневаться в них». Кроме того, у теории соответствия есть свои трудности: во-первых, если признать, что истина это соответствие наших знаний о мире самому этому миру, то не понятно, как можно называть истинными утверждения о будущем. Ведь когда высказывается какое-то суждение о будущем, оно (будущее) еще не наступило, о каком же соответствии вообще может идти речь? Во-вторых, эта теория не справляется с «парадоксом лжеца», о котором мы говорили при рассмотрении взглядов Рассела (когда лжец говорит: «я лгу», то если он лжет, то он говорит правду, если же он говорит правду, то он лжет). С точки зрения Поп-пера, нужно оставить надежды на то, что мы можем получить истину и признать, что любое высказывание может быть только более или менее истинным. Кстати, это не противоречит и обыденному употреблению слова «истина» (ведь говорят же: «В ваших словах есть доля истины»). Такой подход представляется Попперу весьма плодотворным, ибо открывает возможность ввести меру истинности. В силу этих соображений Поппер предлагает теорию истины называть теорией правдоподобия. Истина не открывается сама по себе, как полагали Декарт, Бэкон и Спиноза, истину нужно завоевывать. Поппер сравнивает путь к истине с восхождением на гору. Такое сравнение предполагает, с одной стороны, понимание трудности задачи, осознание того факта, что мы знаем мало, а с другой стороны, оно противодействует возможному отчаянию, поскольку основано на предположении, что мы все же в состоянии справиться со стоящей перед нами задачей. Таким образом, приводит аргумент в поддержку своей концепции
182
Поппер, став на позицию теории правдоподобия, мы избежим и чувства безнадежности, и не впадем в самодовольство. Механизм постижения истины состоит не в сравнении результатов мышления с данными органов чувств, а в сравнении одних сомнительных результатов с другими результатами, тоже сомнительными, но принимаемыми в данном случае за достоверные. На место теории достоверности истины, должна прийти теория правдоподобия. Поппер формулирует афоризм: «Ничто не является несомненным, и все мы подвержены ошибкам».
По-своему Поппер решает и проблему критерия истины. В истории философии, говорит он, выдвигались разные критерии истины. Сторонники теории когерентности искали его в непротиворечивости доказательства, сторонники теории очевидности указывали на интеллектуальную интуицию, представители прагматизма находили его в практической пользе, достигаемой с помощью истины. Все эти критерии, по мнению Поппера, обладают недостатками. Строго говоря, замечает он, критерий истинности существует только в логике и математике, и он применим только к тавтологиям. Что же касается всех других суждений, то приходится признать, что мы не знаем, обладаем ли мы истиной, но зато вряд ли кто усомнится в том, что мы знаем, когда у нас нет истины. Но в таком случае ясно, что если критерий истинности и существует, то его следует искать в развитии научного знания, и он непосредственно связан с нахождением и исправлением ошибок.
Все вышеприведенные соображения нужны Попперу для того, чтобы обосновать концепцию фальсификации истины, которая по общему признанию является его главным вкладом в гносеологию.
Как мы видели при рассмотрении теорий Рассела и Витгенштейна, одна из центральных проблем теории истины это проблема процедуры ее проверки, проблема верификации. Поппер считает, что верифицировать истину нельзя (хотя бы потому, что суждения делятся не на истинные и ложные, а на более истинные или менее истинные, т.е. являются более или менее правдоподобными). Поэтому, делает он решающий шаг в своем рассуждении.
183
стремиться нужно не к верификации, а к опровержению (фальсификации) наших утверждений. Всякое опровержение наших знаний означает шаг вперед, ибо, твердо установив, в чем мы ошибаемся, мы хотя бы на немного ограничиваем безбрежное море своих заблуждений и, начинаем искать причину ошибки, приближаясь тем самым к более правдоподобным (и более надежным) знаниям.
Насколько важна для концепции Поппера идея фальсифика-ционизма, показывает то обстоятельство, что именно с ее помощью он решает проблему демаркации научного и ненаучного знания. Он утверждает, что только научные знания могут быть фальсифицированы, так как они всегда подразумевают некие условия своей правдоподобности и при изменении этих условий ее теряют. Скажем, мы утверждаем, что вода закипает при 100 градусах Цельсия. Однако это утверждение легко фальсифицировать, изменив, например, величину атмосферного давления. Способность подвергнуться фальсификации и есть признак того, что данное суждение относится к компетенции науки. Теперь возьмем философское утверждение, скажем, «первоначалом является абсолютный дух» или богословское, скажем, «душа бессмертна». Опровергнуть их «изменением условий» невозможно, они нефальсифицируемы. Вот почему, как показывает опыт, сторонники объективного идеализма или верующие всегда найдут какие-либо доводы в обоснование своей позиции и будут считать себя правыми. Это и свидетельствует о том, что в данном случае мы не имеем дела с научным знанием.
Поппер последовательно проводит свою точку зрения. Он критикует верификационизм или, как предпочитает говорить он сам. «джастификационизм» (англ, justification — оправдание) и утверждает, что погоня за все новыми и новыми «подтверждениями» самое бесплодное занятие в науке. Кстати, по его мнению, именно предельная объяснительная сила» марксизма и психоанализа, их «неопровержимость» и способность выдержать любые верификации являются признаками их не научности (относительно учения о структуре личности принятого в психоанализе — id-
184
ego-superego, он, например, с насмешкой заявляет, что оно не отнимается от фантазий Гомера об иерархии богов на Олимпе).
Одно опровержение ценнее для развития научного знания, чем десятки и сотни подтверждений. Только опровержение является подлинным двигателем развития научного знания. Неудивительно, что его концепцию в литературе часто называют «фалли-билизмом» (англ, fallibility — ошибочность). И это название действительно отражает суть дела, так как Поппер настолько большое значение придавал устранению ошибок, что даже утверждал, что «тайна научного метода состоит всего лишь в готовности учиться на ошибках».
Поппер принимает разделение Расселом и Витгенштейном всех наук на две области (с одной стороны, логика и математика, а с другой естествознание). Он считает, что логическое доказательство существует только в «чистой математике и логике», но зато они не дают никакой информации о мире и лишь разрабатывают средства его описания. Что же касается остальных наук, то в них пег логических доказательств, а есть лишь аргументация. Зато естественные науки дают описание мира и в этом смысле являются принципиально эмпиричными, т.е. опираются на опыт, ибо только опыт позволяет судить об истинности или ложности высказываний о фактах. В силу этих обстоятельств в его концепции нет деления научною знания на эмпирический и теоретический уровни (как это принято, например, в советской философской литературе). В естествознании все теории эмпиричны, т.е. любой теоретик в той или иной мере опирается на опыт (эксперимент и наблюдение). Работа же экспериментатора всегда имеет теоретический характер, любому эксперименту предшествует теоретическая работа, так что можно даже сказать, что теория господствует над экспериментом. Практическое значение, по мнению Поппера. имеет лишь разделение естественных наук на теоретические или обобщающие науки, которые занимаются проверкой универсальных гипотез, и прикладные обобщающие науки, которые интересуются предсказанием конкретных событий. Свои взгляды на соотношение фактов и теории Поппер разъясняет следующим сравнением: «Наука не покоится на твердом фундаменте фактов.
185
Жесткая структура ее теорий поднимается, так сказать, над болотом. Она подобна зданию, воздвигнутому на сваях. Эти сваи забиваются в болото, но не достигают никакого естественного или «данного» основания. ... Мы перестаем забивать сваи не потому, что достигли твердой почвы, а потому, что убеждаемся, что, по крайней мере, некоторое время сваи выдержат тяжесть конструкции».
Поппер не принимает и выделения чувственной и рациональной сторон в процессе научного познания. Он утверждает, что началом научного познания всегда является постановка проблем, а их разрешение приводит, как видно из вышеприведенной схемы, к возникновению новых проблем. Таким образом, путь познания нельзя описать неким скачком от наблюдения к созданию теории (это является существенным пунктом его расхождения с позитивизмом). Наблюдение, не совпадающее с предсказанием существующей теории, ведет к постановке проблемы. Постановка проблемы приводит к изменению теории, ее опровержению и построению новой теории или видоизменению старой. Затем следует опытная проверка теории, в результате чего возникают новые проблемы.
Думается, что в свете сказанного не удивительно резко отрицательное отношение Поппера к диалектике. Он рассматривает ее как опасную путаницу, как мистику, как средство оправдания чего угодно. Говоря о Гегеле, например, он насмешливо утверждает, что его диалектика это средство, при помощи которого тот достает реатьного физического кролика из метафизического цилиндра. Ее (диалектику) можно применить к решению любой проблемы, да к тому же еще и создать видимость преодоления колоссальных трудностей. Но никакого решения научных проблем она не дает, да и дать не может. А сама идея Гегеля о противоречии как движущей силе мышления есть просто-напросто разрушение науки. Что касается марксовой диалектики, то она, по мнению Поппера, в этом отношении ничем не отличается от гегелевской.
Итак, механизм развития научного знания, по Попперу, можно изложить буквально в двух словах: предположения и опровержения (или: выдвижение гипотез и их фальсификация).
186
Отсюда понятно, почему Поппер придает столь большое значение гипотезе. Он разрабатывает целую систему требований к гипотезе, соблюдение которых может служить показателем превосходства одной гипотезы над другой:
1. новая гипотеза делает более точные утверждения, которые выдерживают более точные проверки, чем старая,
2. новая гипотеза объясняет большее количество фактов, чем старая.
3. новая гипотеза объясняет факты более подробно, чем старая.
4. новая гипотеза выдерживает те проверки, которые не выдержала старая,
5. новая гипотеза предлагает новые экспериментальные проверки, которых не знала старая,
6. новая гипотеза объединяет те проблемы, которые до ее появления не имели между собой связи.
К этому вопросу Поппер возвращается неоднократно, так как. по его мнению, ответ на него позволяет получить критерий прогресса научного знания. Свои размышления по этому поводу он обобщил, сформулировав три требования к росту знания. Во-первых, новая теория должна исходить из простой, новой, плодотворной и объединяющей идеи относительно отношений между до сих пор не связанными вещами (теория гравитации Ньютона, например, объединила планеты и яблоки), фактами (например, теория относительности устанавливает связь между инерционной и гравитационной массами) или теоретическими понятиями (например, квантовая механика объединяет поля и частицы). Хотя, замечает Поппер, это требование является довольно неопределенным, но без него трудно придерживаться основополагающей идеи о том, что теория есть в конечном итоге описание мира. Во-вторых, она должна быть независимо проверяемой (т.е. вести к предсказанию новых фактов, которые поддаются экспериментальной проверке). В противном случае может возникнуть законное подозрение, что мы имеем дело с теорией ad hoc (т.е. теорией, созданной специально для объяснения одного-единственного случая). Уже выполнение этих двух требований, считает Поппер,
187
существенно ограничивает выбор возможных решений, стоящей перед нами научной проблемы, и в этом смысле в принципе их достаточно. Но все же он считает необходимым добавить третье требование: новая теория должна выдерживать новые и более строгие проверки.
Социальная философия Поппера, несомненно, является непосредственным продолжением его идей, относящихся к теории познания и онтологии. Бросается в глаза, прежде всего, то, что и здесь стержневым принципом его концепции является, если так можно выразиться, «принцип минимализма». Я имею в виду то, что так же, как в теории познания ориентиром для Поппера является не максимальное понятие («истина»), а его противоположность («ошибка»), так и в социальной философии он ориентируется не на понятия, имеющие максимально положительное значение, а на понятия им противостоящие. Так, ориентиром социальной деятельности, говорит он, является не стремление к увеличению счастья всех людей (максимальное счастье), а стремление к уменьшению страданий (минимальное страдание) тех, кто несчастен. Но, ставя такие «минимальные» задачи, он и здесь, в свою очередь, «минимизирует» цели социальной политики: стремиться, следует, например, не к полному устранению преступности, а к такому сужению ее сферы, какое возможно в конкретных сегодняшних обстоятельствах.
Социальная философия Поппера покоится на следующих принципах:
I .Самые большие ценности, которые служат ориентирами при рассмотрении общества и его истории, это разум и свобода, а. следовательно, устранение из жизни людей насилия и угнетения:
2.Задача социальной философии состоит не в сочинении проектов идеального общества (такие попытки никогда не приносят практического улучшения жизни людей, напротив чреваты в конечном итоге неисчислимыми бедствиями), а в обосновании необходимости совершенствования правовой системы с целью защиты прав личности, укрепления гражданских свобод, поощрения гуманных отношений между людьми;
88
3. Существуют два состояния общества: открытое общество и закрытое общество. Поппер не скрывает, что это разделение он заимствует у Бергсона. Закрытое общество это общество, едва вышедшее из лона природы. Оно характеризуется верой в существование магических табу, в примат целого (племени, государства) по отношению к части (личности), жестокостью обычаев, страхом перед изменением привычного хода вещей, предопределенностью поведения личности неизменными традициями и, следовательно, отсутствием критического, рационального подхода к общественным установлениям, а значит и отсутствием моральных проблем (в смысле колебания, выбора, взятия на себя ответственности за решение) а потому и угрызений совести в случае неправильного решения. Характерной особенностью закрытого общества является жесткая социальная иерархия, в которой каждому человеку изначально определено его место.
В противоположность закрытому обществу открытое общество это общество, проделавшее некий исторический путь, благодаря которому осознано, что социальные институты это продукты человеческого творчества, что личность имеет первенство перед целым (государством, народом), она не только имеет возможность, но на ней лежит обязанность самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность за них, что общественная жизнь нуждается в усовершенствовании и оно по силам людям, это общество, в котором господствуют такие ценности, как свобода, равенство, гуманность и разумность.
Вместе с тем закрытое и открытое общества нельзя рассматривать как две ступени, через которые в обязательном порядке проходят все страны. Во-первых, открытое общество это не обязательное состояние общества, а, скорее, возможность, которая может реализоваться, а может и не реализоваться. Во-вторых, в открытом обществе продолжают существовать остатки общества закрытого (таковыми Поппер считает, например, молодежные движения, а также клубы и другие сообщества взрослых людей. причем они могут играть позитивную роль). Более того, в открытом обществе таится угроза возвращения к обществу закрытому (или хотя бы его некоторым чертам). Так. например, в качестве
189
духовной основы западной цивилизации Поппер называет альтруизм и индивидуализм, однако опыт фашистской Германии показал, как легко разрушить эту основу и каких усилий и жертв стоит ее восстановление. Можно сказать, что в истории общества движение к открытому обществу определяется не «законами истории» (их, как мы знаем, по мнению Поппера, не существует), а нами самими, при условии, что мы отбросим свою праздность и лень, и будем противодействовать усилиям тех, кто пытается загнать народ в клетку закрытого общества. А когда мы уклоняемся от деятельности в поддержку разума и свободы, то в истории возникают «темные эпохи».
4.Истории в том смысле как это слово обычно употребляют (т.е. как поток событий с определенной направленностью) на самом деле не существует. Существует бесчисленное множество историй всех живших прежде и живущих ныне людей, воспроизвести которые невозможно. Поппер пишет: «Реальной историей человечества, если бы таковая была, должна была бы быть история всех людей, а значит — история всех человеческих надежд, борений и страданий, ибо ни один человек не более значим, чем любой другой'. Ясно, что такая реальная история не может быть написана». Поскольку законов истории нет, постольку в истории в принципе возможно все (ибо, если нет закона, нет и вытекающего из него запрета). Отсюда следует, что невозможна и историческая наука. Однако человеку свойственно неистребимое стремление для решения своих проблем, обращаться к опыту прошлого. Так возникает то, что выдают за науку историю, а на самом деле является лишь интерпретацией исторических событий, созданной для каких-то сегодняшних целей. И поскольку эти интерпретации удовлетворяют нашу потребность решать практические проблемы, ни одна из них не является лучше любой другой. Поэтому исторические теории должны по справедливости называться «квазитеориями», ибо они резко отличаются от научных теорий: количество фактов, которые мы имеем для построения историче-
1 Перефразировка Поппером слов Канта: никому не следует считать себя ценнее других людей.
190
ской теории, строго ограничено, исторические факты нельзя воспроизвести, они всегда предварительно отобраны, т.е. выбираются только те из них, которые соответствуют заранее сконструированной теории (независимо от того, сознаем мы это или нет). А это означает, что такую теорию невозможно проверить. Кроме того, следует принять во внимание, что поскольку у каждого поколения людей есть свои трудности и проблемы, то оно вправе воспринимать историю по-своему. А это значит, что разные (в том числе и противоречащие друг другу) интерпретации могут рассматриваться не как несовместимые, а как дополняющие друг
друга.
Справедливости ради следует специально подчеркнуть, что Поппер вовсе не утверждает, что в историческом знании невозможен прогресс. Во-первых, бывают интерпретации, которые вообще не соответствуют фактам. Во-вторых, можно встретить такие интерпретации, которые требуют дополнительных гипотез для того, чтобы избежать фальсификации. В-третьих, создаются интерпретации, в рамках которых факты не согласуются друг с
другом.
Думается из сказанного понятно, почему Поппер отрицает правомерность вопроса, который в явной или неявной форме ставят перед собой те, кто выступают с собственной исторической теорией: «Каким путем мы идем? Какова, в сущности, роль, предназначенная нам историей?» Именно на такой вопрос пытаются ответить те, кто ищет смысл истории. На самом деле, утверждает Поппер, история смысла не имеет, поэтому отвечать надо на другой вопрос: «Что мы должны выбрать в качестве наших наиболее неотложных проблем, как они возникают и каким путем можно придти к их решению?».
Итак, задача социальной философии состоит не в создании проектов полного общественного переустройства, не в постановке грандиозных задач воспитания «нового человека», не вы попытке посредством гениального прозрения увидеть будущее человечества. Такое понимание социальной философии Поппер называет особым словом «историцизм» (чтобы не смешивать его с историзмом) и подвергает беспощадной и, надо сказать, убедительной
191
критике. Поппер считает, что хотя история смысла не имеет, но мы своими сегодняшними решениями и претворяющими их в жизнь действиями и придаем ей смысл, который имеет силу и значение именно для нас. История «прогрессировать» не может. Но мы, как человеческие индивиды можем, и делаем это постольку, поскольку защищаем и усиливаем те демократические институты, от которых зависит наша свобода, поскольку отвергаем насилие и пытаемся все конфликты решить на основе рациональной дискуссии и компромисса, поскольку, исходя из принципа равенства, признаем права других людей на любые действия, которые не нарушают аналогичные права других людей. Нужно поэтапное, постепенное, но неуклонное реформирование социальных институтов с тем, чтобы сохранять и углублять завоевания открытою общества. Такой подход к изменению общественной жизни Поппер называет социальной инженерией и считает важнейшей характеристикой открытого общества. Программа создания открытого общества в современных условиях состоит, по мнению Поппера, в следующем:
1.Укрепление свободы и осознание вытекающей из нее ответственности.
2.Мир во всем мире.
3.Борьба с бедностью.
4.Борьба с демографическим взрывом.
5.Обучение ненасилию.
2.6. ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Сциентизму в западной философии противостоит антисциен-тистская философия. Всех философов, которые стоят на этих позициях, можно объединить под общим и довольно неопределенным названием: «философия человеческого существования». Хотелось бы отметить, что это не «экзистенциализм», который обычно рассматривается в учебниках по философии. К философии человеческого существования я отношу тех философов, для которых главным философским вопросом является не вопрос о научном знании, не проблемы теории познания, а вопрос о человеке, о его сущности, о смысле его жизни, о взаимоотношении
192
личности и общества. В этой философии можно выделить два более или менее независимых (хотя, тем не менее, часто пересекающихся) течения: представители одного из них черпают свои идеи из классической философии, хотя, конечно, толкуют их по-своему. Это и есть то, что обычно называют «экзистенциализмом». Второе течение обязано своим возникновением попытке синтеза идей Маркса и Фрейда. Его иногда называют неомарксизмом, иногда неофрейдизмом (бытует и название, связанное с местом возникновения этого течения — «Франкфуртская школа»).
