
- •XX века как основания современной глобально-экологической пара дигмы мышления 222
- •Введение
- •18 Глава первая
- •33 Глава вторая
- •Антропологического кризиса
- •2.1. Ф.М. Достоевский и л.Н. Толстой: философско-литературные предчувствия глобального антропологического кризиса и модели самосовершенствования личности
- •2.2. В. С. Соловьев об извечном метафизическом противоречии Духа и плоти: синтез Бога и человека или «философия конца»?
- •96 Глава третья
- •3.1. Н.Я.Данилевский, к.Н.Леонтьев и и.А.Ильин о фундаментальных источниках и непосредственных признаках кризиса культуры
- •3.2. П.А.Сорокин: основания и механизмы социокультурной динамики и
- •133 Глава четвертая
- •4.1. Л.И. Мечников о глобальном единстве и перспективах земной истории человечества
- •182 Глава пятая
- •Кризиса XX века
- •5.1. В.И.Вернадский как основатель учения о ноосферном разрешении глобального кризиса во взаимодействии общества и природы
- •5.2. Развитие естественнонаучной составляющей парадигмы мышления русского космизма: нг.Холодный, в.Н.Муравьеву а.Л Чижевский
- •222 Глава шестая
- •XX века как основания современной глобально-экологической парадигмы мышления
- •6.1. Вклад отечественных мыслителей-учёных в формирование представлений о «триаде жизни» и механизмах её существования: э.С. Бауэр. А. Г. Гурвич. Н.В. Тимофеев-Ресовский, н.Ф. Реймерс
- •6.2. Оформление современного комплекса представлений и наук как теоретического основания глобально-экологической парадигмы мышления
133 Глава четвертая
КОСМИЧЕСКАЯ ФУТУРОЛОГИЯ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКОВ
КАК ПРЕДПОСЫЛКА СОВРЕМЕННОГО
ГЛОБАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Одним из проявлений «служения народу» в России стало постепенное возвышение университетской науки, высокие достижения теоретических исследований. Так, еще в первой половине XIX века Н.И. Лобачевский создает неевклидову геометрию. Одно за другим следуют открытия в естественных науках: термохимии (Г.И. Гесс), зоопсихологии (К.Ф. Фу-лье), сравнительной эмбриологии (К.М. Бэр), формируется теория органического синтеза (Н.Н. Зинин), изобретена гальванопластика (Б.С. Яко-би), открыта вольтова дуга и источники электрической энергии (В.В. Петров), появляются значительные работы по математической физике (М.В. Остроградский).
Вторая половина XIX века дала новую волну пионерских изысканий в России. В 1861 году A.M. Бутлеров создает теорию химического строения органических соединений. И.М. Сеченов обосновывает рефлекторную природу психических явлений, его труды продолжает И.П. Павлов. К.А. Тимирязев в 1868 году начинает исследования по фотосинтезу растений. В 1869 году Д.И. Менделеев открывает периодический закон химических элементов. В.В. Докучаев создает научные основы почвоведения. И.И. Мечникову была вручена Нобелевская премия за изучение природы иммунитета. Наука России второй половины XIX века во всех отраслях естествознания предложила оригинальные и содержательные, эвристически ценные теоретические разработки. Во второй половине XIX века были достигнуты крупные успехи и в области технических наук: электротехнике (П.Н Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов), приборо-
134 строении (А.Ф. Можайский, Н.Е. Жуковский и другие). На этом фоне не
случаен рождающийся интерес к взаимодействию прошлого и будущего,
Земли и Космоса.
4.1. Л.И. Мечников о глобальном единстве и перспективах земной истории человечества
«Природа внушает населению одно из двух: смерть или солидарность»
(Л.И. Мечников)
Задумав социологический труд, посвященный истории всей цивилизации, Л.И. Мечников успел написать только его первую часть. Через год после его смерти книга была подготовлена к изданию его другом - известным французским географом Э. Реклю и вышла в свет в Париже с его предисловием. Это была основная, хотя и незавершенная, работа Л.И. Мечникова «Цивилизация и великие исторические реки. Географическая теория развития современного общества». Первый русский перевод ее появился в 1898 году, а более полный лишь в 1924 году. Многие положения теории Л.И. Мечникова можно найти в других его работах: «Доазбучная цивилизация» (1877), «Вопросы общественности и нравственности» (1879), «Школа борьбы в социологии» (1884), «Географическая теория развития исторических народов» (1889) и других, вышедших в том числе под псевдонимами.
Одной из последних, вышедших посмертно, работ Л.И. Мечникова была «Географическая теория развития исторических народов». Примечательна оценка, данная этой книге Г.В. Плехановым: «Французская литература далеко не бедна серьезными сочинениями по истории и географии, а между тем и в ней книга нашего покойного соотечественника является важным приобретением. В русской литературе она заняла бы, разу-
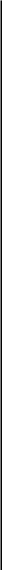 135
меется,
еще более выдающееся место, бесконечно
превосходя по своей содержательности
все произведения наших «субъективных
мыслителей» [308,
с. 28 ]. И далее: «Но, кажется, оно запрещено
в России. Мы думаем так
потому, что те экземпляры его, которые
Элизе Реклю послал в редакции русских
журналов, все без исключения были
возвращены отправителю.
Экземпляр же, посланный в Комитет цензуры
иностранной литературы,
возвратился, весь испещренный отметками,
указывающими на вредный
характер содержания книги» [ 308, с. 28 ].
135
меется,
еще более выдающееся место, бесконечно
превосходя по своей содержательности
все произведения наших «субъективных
мыслителей» [308,
с. 28 ]. И далее: «Но, кажется, оно запрещено
в России. Мы думаем так
потому, что те экземпляры его, которые
Элизе Реклю послал в редакции русских
журналов, все без исключения были
возвращены отправителю.
Экземпляр же, посланный в Комитет цензуры
иностранной литературы,
возвратился, весь испещренный отметками,
указывающими на вредный
характер содержания книги» [ 308, с. 28 ].
Многие из свободолюбивых россиян в то время преподавали в западноевропейских университетах, учились там же, печатались, получали ученые степени. Это был исход за рубежи родины в вынужденную эмиграцию, это было своего рода бегство от царско-полицейского пресса: обвинений в сумасшествии, ссылок, тюрем, увольнений, запрещения преподавать или печататься. Таковы вехи биографий многих русских мыслителей, не был исключением в этом отношении и Л.И. Мечников. Именно по этой причине российский читатель смог ознакомиться с его посмертной книгой лишь спустя десять лет после его смерти. Глубоко был прав Л.И. Мечников, говоривший: «чтобы воспользоваться правом говорить, мне нужно было оставить родину». Недосказанное на родине приходилось договаривать, доисследовать за границей.
В основе философских взглядов Л.И. Мечникова лежит достаточно последовательное материалистическое понимание истории. Природа, по Мечникову, материальна, в ней, подчеркивал он, управляют не боги, а исключительно естественные силы, законы и существа. Он признавал существование материи вне нашего сознания и независимо от него, а также адекватное отражение внешнего мира в нашем сознании с помощью органов чувств.
Мечников выстраивает иерархическую систему объектов и явлений, выделяя в ней три области: 1) область неорганическую, исчерпываемую физическими и химическими процессами, для объяснения которых доста-
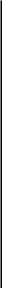 136
точно закона всемирного тяготения
Ньютона; это мир геометрических,
136
точно закона всемирного тяготения
Ньютона; это мир геометрических,
неподвижных форм; 2) область биологическую, включающую весь мир пищевых и половых интересов, мир растительных и животных индивидуальностей, состязающихся и изменяющихся в неустанной борьбе за существование; 3) область социологическую, мир коллективностей, интересов, выходящих за пределы одиночного биологического существования; мир кооперации, т.е. сочетания не противодействующих, а содействующих достижению единой общей цели, сил [ 259, с. 251 ]. Здесь биологический эгоизм сменяется альтруизмом, отношениями взаимопомощи, дружбы, любви, товарищества, которые, несмотря на присущие человеческой истории борьбу и войны, постепенно завоевывают господствующее положение.
Общество у Мечникова модельно представлено выделенными факторами и иерархиями устройства; оно нацелено на сохранение или изменение сложившегося социального порядка и, соответственно, на определенный способ и средства его преобразования; в нем определен статус личности и всех общественных институтов. Данные имманентные характеристики общества оценивались Мечниковым в качестве набора социальных ценностей. Только общество, по Мечникову, отличается нарастающей в истории солидарностью [ 259, с. 238 ]. В этом состоит развитие общественности, в этом - его эволюционность. Исторически низшее качество социальности основано на преобладании подневольного союзничества, где господствуют принуждение и устрашение, в том числе внешняя сила; переходное качество связано с наличием подчинения союзам и группировкам; высшее качество характеризуется наличием добровольных союзов и групп [ 259, с. 258-259 ].
Соответственно, весьма своеобразны воззрения Л.И. Мечникова на социологию, которая, по его мнению, находится в состоянии «детства»; эта наука не накопила еще достаточно эмпирического материала, чтобы сформулировать важнейшие законы общественного развития. Меж тем
137 Л.И. Мечников придавал социологии большое значение, считая ее важнейшим научным знанием об обществе, роль которого будет все больше возрастать. Предметом социологии должны быть исключительно явления общественного, причем солидарного порядка.
Л.И. Мечников специально анализирует позитивистские попытки построить социальное знание подобно естественнонаучному, в частности, с использованием идей теории эволюции Дарвина и принципа борьбы за существование. Мечников критически анализирует распространившееся в XIX веке уподобление общественной жизни биологическому выживанию, он называет воинственные отношения биологическими, а товарищеские -общественными. Кроме того, Мечников не считал социологию О. Конта и Г. Спенсера последним достижением общественной науки, не признавая их создателями современной науки об обществе вследствие абстрактности их воззрений и биологизации общественной теории. Он считал, что аналогия организмов общественных с биологическими ненаучна. Широко признанное дарвиновское учение привело в те годы к появлению социал-дарвинизма, для которого характерен механический перенос открытого Дарвином закона борьбы за существование на человеческое общество. Л.И. Мечников считал, что основать социологию на дарвиновском законе борьбы за существование равносильно упразднить саму социологию.
В социальной теории конца XIX века продолжались поиски по двум направлениям: природно-стихийных сил и факторов развития собственно общества. Сторонники природных истоков исторического процесса расценивали общество как часть природы, подчиняющуюся ее всеобщим законам. Таковы социал-дарвинизм, географический детерминизм и т.п. Л.И. Мечников сделал попытку выйти за рамки этих учений на уровень осознания роли обширной комбинации факторов общественного развития. Из наиболее значимых природных процессов, влияющих на развитие человеческого общества, Л.И. Мечников выделяет астрономические («история идет вслед за Солнцем») [ 259, с. 276] ), физические (геосфера,
«mm
138 гидросфера, атмосфера) [259, с. 277], влияние флоры и фауны [259, с. 280],
и, наконец, антропологические влияния (наследственность) [259, с. 284], способность приспособить среду к своим потребностям [259, с. 282], обмен культурными достижениями и ценностями [259, с. 284]. Согласно воззрениям Л.И. Мечникова, внешняя среда играет большую роль, однако «сама раса как фактор прогресса значительно превосходит в этом отношении влияние среды» [259, с. 291]. Итак, какой же фактор весомее - географический или антропологический ? Мечников уточняет, что географический фактор выполняет в истории человеческой цивилизации стартовую, пусковую и катализирующую роль. Именно он позволяет реконструировать и прогнозировать человеческую историю [259, с. 323], вычленять в ней «великие повороты».
Л.И. Мечников разделял некоторые идеи геосоциологии. Ведущей формулой географических детерминистов является утверждение о том, что географическая среда определяет психический склад людей, который, в свою очередь, выступает в качестве двигателя истории. Но не ограничиваясь этим, Мечников пытался раскрыть механизм взаимодействия между природой и обществом в прямом и обратном направлениях, меру и глубину их взаимовлияния. Будучи сторонником эволюционной теории, Л.И. Мечников полагал, что человек не сотворен Богом и не существует как нечто «готовое, данное природой», а представляет собою «продукт трудного и исполненного драматических эпизодов процесса преемственного совершенствования» [Цит.по: 109, с. 68]. Вступая в отношения со средой на начальных стадиях человек из-за низкого уровня развития сознания, а также потому, что у него мал опыт, состоит по отношению к природе в жалком положении раба. Но отношение человека к миру изменяется тогда, когда человек понемногу научается управлять по крайней мере некоторыми из наилучше знакомых ему явлений природы.
ч
IS*
 139
139
Социальное наследие Льва Мечникова интересно поисками глубинных факторов, обусловивших развитие общества. Так, отстаивая идеи географического детерминизма, он предупреждал об опасности его трансформации в географический фатализм, об опасности механического перенесения свойств среды на облик ее обитателей. Сам Мечников свою исследовательскую задачу формулирует методологически тонко; он говорит о своем стремлении к обобщению «культурно-исторических значений географической среды во всем их разнообразии», о желании «поработать над открытием формулы, охватывающей в общих чертах те скрытые отношения, которые сближают и, так сказать, связывают каждую фазу социальной эволюции, каждый период истории человечества с определенным состоянием географической среды» [259, с. 81]. Такую формулу Л.И. Мечников выводит из единства водного фактора в виде больших водных бассейнов (великих рек, морских и океанических акваторий), а также широтных зон и необходимости постоянного, напряженного труда как условия прогресса общества.
Избегая «географического фатализма», Мечников стремился найти действительные связи человеческого общества с природой, меру влияния физико-географической среды на развитие цивилизации, реальную связь между природной средой и социальной эволюцией, ее темпами, для этого он разделил географические условия Земли на три зоны; околополярную, умеренную и жаркую. Все три зоны имеют различную естественную ценность для трудовой деятельности и, следовательно, для возникновения и развития цивилизаций. Условия околополярной и жаркой зоны «делают невозможным развитие могущественных общественных организаций в их области», так как первая зона имеет слишком суровый климат, а жители третьей получают все необходимое от природы и по этой причине «лишены единственного стимула к труду, к изучению окружающего мира и к солидарной деятельности» [Цит. по: 109, с. 67].
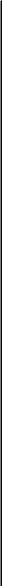 140
Наиболее пригодна для развития цивилизации
умеренная зона [259,
140
Наиболее пригодна для развития цивилизации
умеренная зона [259,
с. 274]. Основное условие для зарождения и прогресса цивилизации, по Мечникову, - необходимость в постоянном напряженном труде, которой нет в жарком климате, где природа как бы «ведет человека на помочах как ребенка» [259, с. 273]. Суровая и бедная природа околополярной зоны требовала от человека слишком больших усилий для сохранения собственной жизни и оказала отрицательное влияние на эволюцию человеческих сообществ на ранних ступенях общественного развития. Поэтому древнейшие цивилизации - Египетская, Китайская, Индийская, Вавилонская - закономерно возникли именно в умеренно-теплом поясе. Таким образом, Л.И. Мечников значительно обогатил идеи Монтескье и Бокля, выдвинув положение о том, что географическая среда не является абсолютной детерминантой развития общественной жизни [259, с. 261].
В понимании общественной жизни Мечников усматривал общую поступательность движения к свободе и равенству и решительно отвергал теории исторического круговорота, равно отвергал и линейные представления о ней. История - не хаос и не нагромождение событий и эпизодов. Все происходящее в истории подчинено законам, но законы социологии несводимы к законам природы. Мечников был против абсолютизации борьбы за существование не только в обществе, но и в природе. Он полагал, что солидарность - ведущий фактор эволюции всего органического мира и двигатель общественного прогрессивного развития. В природе возрастает действие закона сосуществования и солидарности. Его концепция солидарности базируется на признании прежде всего коллективного начала в человеке. Л.И. Мечников понимал, что способы проявления солидарности у животных и человека различны, но видел и некоторые элементы сходства [259, с. 251]. Толчком для противопоставления солидарности борьбе за существование послужил дарвинизм, но идеи Мечникова были направлены не против него, а против нелепостей социал-дарвинистов. Мечников признавал общество, как и природу, эволюцио-

 141
нирующим и делал вывод: природа внушает
населению одно из двух:
141
нирующим и делал вывод: природа внушает
населению одно из двух:
смерть или солидарность.
Понять историческое развитие народов оказывается настолько трудно, настолько запутаны основания или критерии, объясняющие сам прогресс человечества. Мнение, разделяющее все народы на две группы -исторических (культурных) и варварских (диких) народов, - поверхностно и неубедительно. По Мечникову, доказательства прогресса состоят в наличии технических усовершенствований и в укреплении социальной связи («более несомненное доказательство») и нарастании общечеловеческой солидарности [259, с. 235]. Выше всех законов и обобщений, которым древние и современные авторы пытались подчинить историческое движение, Л.И. Мечников ставил «великий» закон прогресса [259, с. 239].
При общем признании прогресса общества каждый мыслитель вкладывал в этот термин свое понимание существа, механизмов и результатов прогресса. Мечников, исподволь подходя к обоснованию своего главного принципа - о роли водных бассейнов, в том числе и великих рек, в истории, - включается в полемику. Для него не важно, откуда исходит и какими путями проявляется в истории прогресс. Важнее, в чем он состоит, по какому точно фиксированному признаку можно констатировать его наличие в истории, не впадая в субъективный произвол. Прогресс, по Мечникову, не просто движение вперед, а достижение общего блага [259, с. 239]. В общественном прогрессе он различает его потоки: 1) сознательные, разумные действия, осуществляемые в русле прогресса, 2) движение спонтанное, в соответствии с общими обстоятельствами и 3) столкновение противоположных интересов, страстей и поступков [259, с. 239]. Последнее возможно на основе развивающейся дифференциации - разделения и специализации труда, а также свободы и самосознания.
Итак, согласно Л.И. Мечникову, среди всех прочих географических естественных условий наибольшую роль играет водная среда, жизнь цивилизации как бы «вращается» вокруг связующих ее акваторий. Почему
 142
решающее
значение в появлении цивилизации
Мечников придавал гидросфере
? Водные пути - реки, моря и океаны -
больше, чем другие эле-менты
географической среды (климат, почвы и
т.п.) содействуют развитию
общества и распространению цивилизации.
Рекам он отвел исключительную роль
по сравнению с другими географическими
условиями в силу того,
что «река во всякой стране как бы является
выражением живого синтеза
всей совокупности физико-географических
условий и климата, и почвы,
и рельефа земной поверхности, и
геологического строения данной области»
[Цит. по: 109, с. 68].
142
решающее
значение в появлении цивилизации
Мечников придавал гидросфере
? Водные пути - реки, моря и океаны -
больше, чем другие эле-менты
географической среды (климат, почвы и
т.п.) содействуют развитию
общества и распространению цивилизации.
Рекам он отвел исключительную роль
по сравнению с другими географическими
условиями в силу того,
что «река во всякой стране как бы является
выражением живого синтеза
всей совокупности физико-географических
условий и климата, и почвы,
и рельефа земной поверхности, и
геологического строения данной области»
[Цит. по: 109, с. 68].
По мнению Л.И. Мечникова, цивилизации первоначально образуются на берегах великих «исторических» рек, потом постепенно распространяются, концентрируются вокруг Средиземноморья и, наконец, захватывают океанические побережья. Четыре древнейших великих культуры развились и расцвели в великих речных странах: на берегах Хуанхэ и Янцзы зародилась и выросла китайская культура, в бассейне Инда и Ганга, - индийская культура, в междуречье Тигра и Евфрата возникла ассиро-вавилонская культура, а древний Египет, как это утверждал еще Геродот, был «даром Нила». Исторические реки сыграли в жизни цивилизации особую роль, и дело здесь не в их протяженности, не в массе приносимой ими воды [259, с. 356]. Река - коварная и грозная среда: «Все они обращают орошаемые ими страны то в плодородные житницы, питающие миллионы людей за труд нескольких дней, то в чумные болота, усыпанные трупами бесчисленных жертв» [Цит. по: 109, с. 68]. Секрет «исторических» рек в том, что их природа «принуждает» людей прибегать к солидарному труду, чтобы избежать смерти. Нужны совместные усилия прибрежного населения, обычно пестрого по расовой принадлежности, языку, обычаям. Для успешного земледелия необходимы сложные ирригационные сооружения, нужна совместная деятельность многих тысяч людей. Так возникают первые государства, наука, культура; чтобы не погибнуть, необходимо подчинить реку - научиться предвидеть ее разливы и
143 управлять ими, для чего нужны разносторонние знания и строгая организация труда, построенная на жесткой дисциплине, то есть деспотия.
Два фактора - географическая среда и «способность людей к приспособлению через организацию коллективного труда» являются основой первых цивилизаций [259, с. 262]. Мечников считал важным, что «элементы, влияющие на развитие общества», являются изменчивыми, из чего неизбежно вытекают исторические судьбы народов, которые должны также постоянно меняться [Цит. по: 109, с. 68].
Историю человечества Л.И. Мечников подразделил на три периода в соответствии со своей идеей о преобладании роли гидросферы в возникновении цивилизации [259, с. 330].
Речной период приходится на древние века, включает в себя историю древнейших цивилизаций Египта, Индии, Месопотамии, Китая. Все эти цивилизации возникли в бассейнах «исторических» рек. Это время подневольных объединений и группировок, а также рабских деспотий.
Средиземноморский период приходится на античность и средние века, включает отрезок времени от основания Карфагена до начала правления Карла Великого. Это время группировок и союзов, основанных на подчинении и феодальной зависимости.
Океанический период от открытия Америки и до наших дней характеризуется выходом цивилизации на побережья океанов, Атлантического и Индийского, а с XIX века - Тихого. Это период относительно свободных и добровольных союзов и группировок, скрепленных буржуазными идеями свободы (отсутствия принуждения), равенства (отсутствия привилегий и несправедливостей), братства (солидарного соединения индивидуальных сил) [259, с. 271].
Анализ данной периодизации показывает, что Мечников признает прогрессивное развитие, показывает его направленность и основные этапы и последовательности, он осмысляет историю как единый процесс, в котором сочленены прошлое, настоящее и будущее. У Мечникова в об-
т
144 щем историческом творчестве на равных участвуют различные народы,
хотя в одни и те же отрезки времени они могут иметь разный характер
развития. Но угнетение постепенно заменяется все большей свободой, а
солидарность, вынужденная обстоятельствами, заменяется добровольной
и сознательной. Соответственно историческим периодам Л.И. Мечников
выделяет типичные формы социальной и политической жизни, которые, в
свою очередь, определяются способами труда:
речные цивилизации - рабство - деспотии;
морские цивилизации - крепостничество -олигархия;
океанические цивилизации - наемный труд - буржуазная демократия.
Таким образом, ключевым моментом в социологии Л.И. Мечникова стала идея прогресса. Он критиковал имевшиеся в социологии того времени точки зрения Конта и Спенсера - за линеарность понимания хода истории, Лаврова и Ткачева - за идеализм в истолковании его причин. Неудовлетворенность прежними решениями проблемы прогресса заставила Л.И. Мечникова поставить ее в центр своей философии.
Историческая наука, излагающая «факты и деяния» народов в порядке хронологии, может доставлять необходимый фактический материал для обоснования теории прогресса, но сама теория прогресса относится к компетенции более абстрактных наук - философии истории или социологии. «Существенной задачей для нас, - пишет Л.И. Мечников, - является определить, в чем состоит прогресс и по какому точно определенному признаку можно констатировать его участие в истории, не употребляя в дело ни субъективного произвола, ни предвзятого мнения» [Цит. по: 109, с. 28].
По Л.И. Мечникову, прогресс объективен, ничего общего он не имеет ни с «личным взглядом исследователя» (П.Л. Лавров), ни со «стремлением человека к идеалу, выставленному христианством» (СМ. Соловьев). Источником прогресса, по Мечникову, является географиче-
 145
ская
среда, она может содействовать прогрессу
или тормозить его. Но в
145
ская
среда, она может содействовать прогрессу
или тормозить его. Но в
условия среды Л.И. Мечников включает еще и средства организации солидарно-кооперативного труда: насильственные, принудительные и добровольные. В качестве критерия прогресса Л.И. Мечников выделяет «свободу» и «технические усовершенствования» как показатели гигантского роста власти человека над силами природы, временем и пространством. Мечников считает, что природа в самом начале принуждает людей к общественной жизни, затем смягчает ее формы посредством дифференциации, а потом снимает всякое принуждение и подчинение. «Уже в области биологических явлений степень свободы обобществленных единиц может служить мерилом прогресса» [259, с. 24].
По Мечникову, социальная эволюция повсюду подчинена неорганической и органической необходимости, и те влияют на строй кооперации, направляя группы к цели, интересующей всю группу, поэтому и характерной чертой цивилизации выступает степень не только личной, но и групповой и общественной свободы. В этом ядро концепции Л.И. Мечникова. Деспотизм, по его мнению, всегда возникает только от неспособности человека сознательно проявить ту сумму кооперативной солидарности, которой требует природа.
Гидросфера, таким образом, - оживляющий элемент не только природы, но и двигательная сила истории. Река, море, океан - в сущности жизненный синтез условий, климата, почвы, ландшафта, быта, культуры. Именно гидросфера не сама по себе автоматически влияет на историю, а тем, что это изменчивая среда, особо коварная и опасная для человека, прожить в условиях которой возможно только развив способность к приспособлению, наилучшей формой которого будет последовательная солидарность.
Итак, все свое внимание Л.И. Мечников как естествоиспытатель сосредоточивает на событиях на Земле и стремится охватить своим исследованием явления и процессы, поддающиеся точному описанию и анализу.
146 Поэтому его труды и идеи непосредственно предшествуют формированию глобально-экологического, общепланетарного мышления. Термина «экология» у Л.И. Мечникова нет, да и быть не могло. Но глубочайшая связь истории человечества с условиями его существования прослежена предельно убедительно, так же, как и обратное воздействие человеческой деятельности на среду обитания.
Отличительная особенность творчества Л.И. Мечникова состоит в том, что он корректно, но вместе с тем принципиально точно отмежевывается от целого ряда влиятельных в его время научных концепций и самостоятельно продвигается к созданию общей теории социологии, избрав для этого отчетливые методологические ориентиры: материализм и объективизм, диалектику и историзм. В связи с этими методологическими принципами ему удается отказаться от модного европоцентризма в пользу евро-азийско-североафриканского и далее планетарного варианта в интерпретации истории. Отход от биологизаторства и социал-дарвинизма он осуществляет через свой вариант понимания эволюции общества к оригинальной социологии. Очевиден его отход от позитивизма к естественнонаучному материализму. Его понимание опасностей, таящихся в методологии «географического детерминизма» и «географического фатализма» побуждают Л.И. Мечникова установить синтетическое значение географических и социальных факторов. Л.И. Мечникову удалось разработать всеохватную социологическую теорию общественного прогресса, выделить его критерии и движущие силы. В триаде «природа - человек - общество» основное внимание Л.И. Мечников уделяет взаимосвязи «природа - общество» и анализирует фундаментальные условия успешности жизни человека и человечества.
Значение трудов Л.И. Мечникова в отечественной научной традиции явно преуменьшено, его имя редко встречается в научной литературе, и, возможно, если бы не внимание к его трудам со стороны Л.Н. Гумилева, творчество его и поныне оставалось бы в забвении на его историче-
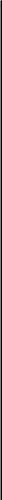 147
ской
родине. Меж тем, социально-философские
воззрения Л.И. Мечникова
являются не только ярчайшей страницей
отечественной и мировой школы
географического детерминизма, но и
должны иметь широкий резонанс
и влияние как оригинальные социальные
воззрения на прогресс общества
и его будущность.
147
ской
родине. Меж тем, социально-философские
воззрения Л.И. Мечникова
являются не только ярчайшей страницей
отечественной и мировой школы
географического детерминизма, но и
должны иметь широкий резонанс
и влияние как оригинальные социальные
воззрения на прогресс общества
и его будущность.
Итак, Л.И. Мечников выделяет три главные области реального мира: неорганическую, биологическую и социологическую. Каждая из последовательно сменяющих друг друга областей в своей эволюции накапливает факторы, условия для своего развития. Наиболее богаты предпосылки для развития общества, ведь оно использует в качестве факторов природные (астрономические и физические) условия, антропологические, а также преобразованные в ходе истории географические и биологические предпосылки. Л.И. Мечников выделяет также и веер социальных факторов, а именно уровень развития науки, культуры и техники. Главным фактором для развития общества, согласно Л.И. Мечникову, является географический. Среди всех географических условий Л.И. Мечников отдает приоритет умеренной климатической зоне и из всех географических сред - гидросфере, а еще точнее - великим рекам. Эти естественные факторы социализированы; согласно Л.И. Мечникову, они обусловлены самой природой, но сами обусловливают необходимость напряженного труда и солидарных отношений между людьми. Первые цивилизации складывались, таким образом, в акваториях великих рек, затем - в бассейне Средиземного моря, наконец, будущее видится Л.И. Мечникову как пространственное завоевание мирового океана - всей гидросферы планеты. Соответственно, всемирная история есть смена этапов - речного, средиземноморского, океанического, - которые есть не что иное, как последовательные шаги по овладению Землей до общепланетных масштабов. )/' Таким образом, Л.И. Мечников одним из первых мыслителей вплотную подошел к уровню глобально-экологического мышления, тем самым существенно опередив своих современников.
 148
4.2.
А.В. Сухово-Кобылин, Н.Ф. Федоров и К.Э.
Циолковский: разработка
представлений о космической векторе
будущего человечества
148
4.2.
А.В. Сухово-Кобылин, Н.Ф. Федоров и К.Э.
Циолковский: разработка
представлений о космической векторе
будущего человечества
«Всемир есть жилище одного и того же человечества»
(А.В. Сухово-Кобылин) «Порожденный крошечною землею, зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства должен сделаться их обитателем и правителем».
(Н.Ф. Федоров) «Я хочу привести вас в восторг от созерцания Вселенной, от ожидающей всех судьбы, от чудесной истории прошедшего и будущего...»
(К.Э. Циолковский)
Многими парадоксами заполнены долгие 86 лет жизни А.В. Сухово-Кобылина; светские увлечения и скрупулезные интеллектуальные занятия, любовные победы и трагедии, два кратких тюремных заключения и семи-летнее следствие по обвинению в убийстве своей гражданской жены Луизы Симон-Деманш, блистательная драматургия и упорная, почти сорокалетняя, борьба за выход ее на русскую сцену, успехи в предпринимательстве и более чем двадцатилетний период аскетической жизни в родовом имении в селе Кобылинка.
Будучи гордым аристократом и убежденным крепостником, писатель А.В. Сухово-Кобылин умел самым ядовитым образом обличать глу-бокие язвы России, прежде всего бюрократизм и чиновничество. Однако главным делом своей жизни Александр Васильевич считал философию. Особенно сильное влияние на него оказала диалектика Гегеля, и почти сорок лет он переводил труды Гегеля на русский язык и параллельно разрабатывал собственную систему, которую именовал «неогегелизмом», или учением Всемира. Однако плоды этой титанической работы до со-

 149
временников
дошли частично, а до наших дней - лишь
во фрагментах: 19
149
временников
дошли частично, а до наших дней - лишь
во фрагментах: 19
декабря 1899 года во время пожара в родовом имении сгорели все его переводы и половина его оригинального труда. К счастью, другая половина была вывезена во Францию и сохранилась в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) [395, с. 294].
Очевидно, что последовательного, законченного изложения фило софии Всемира не было, но сохранились отдельные разработки, «приступы», фрагменты, наброски, варианты, , которые Сухо-
во-Кобылин намеревался объединить в одно целое произведение. Возможно, что задержка с написанием этого произведения произошла от того, что основные силы Александр Васильевич отдавал «подстрочному», «тщательно верному» переводу основных произведений Гегеля, переводу, в котором было множество примечаний и толкований.
Гегелевскую идею противоречия, раздвоения на противоположности или «экстремы», и идею «эналакса», или перехода этих противоположностей, А.В.Сухово-Кобылин считал основоположением своей духовной идеи, посредством чего только и возможно истинное постижение «поступания» мира. За эти идеи он необычайно, как философских кумиров, почитал Гераклита и Гегеля, даже свою личную противоречивость он также воспринимал как живое доказательство диалектического единства крайностей, противоположностей, «экстремов». Очевидно, по этой причине А.В. Сухово-Кобылина относят к социал-дарвинистам, ибо он переносил на общество идеи борьбы за существование и селекции Ч. Дарвина. Ознакомившись с дарвинизмом, Сухово-Кобылин улавливает подспудную, прямо самим Дарвином не выраженную, тенденцию восходящего характера эволюции жизни вообще.
При всей преданности «великому немецкому гению», не упрекая того в недостаточном понимании будущего человечества и его задач, русский философ разрабатывает собственную идею, которая представляла собой уже новую ступень развития учения Гегеля. Мечтая о прекрасном
 150
звездном
будущем бессмертного и духовного
человечества, он предлагает
150
звездном
будущем бессмертного и духовного
человечества, он предлагает
оригинальное учение о Всемире.
Основу мира у Сухово-Кобылина, как у Гегеля, составляет Абсолютная идея. Тело Всемира - «бесконечная Вселенная», центр его - Бог, радиус - человечество, которое проходит три органических ступени. Универсальный закон, которому подчинен и благодаря которому развивается Всемир - раздвоение на противоположности, «экстремы». Всемир представлен эналаксами - переходами противоположностей от логического к физическому, а от него - к духовно-человеческому, то есть идеальному.
В истории человека есть две «экстремы» - крайности - его исходное, «дикое», «стадное», и его божье, высшее, состояние. В состоянии «предчеловечества» люди представляли собой «человеческое стадо», «орду», дикую толпу. На этой «починной», низшей, ступени человек был «непосредственным, чувственным человеком-зверем, антропофагом, пожирателем самого себя, человеком-дьяволом», «дьявольским человеком» [348, с. 53], «только что исшедшим из формы бессознательного организма, т.е. скота» [348, с. 54]. Это «примордиальный» - первичный-человек [348, с. 54]. Человеческий самостоятельный организм с его мозговым аппаратом, очевидно, есть высочайший из теллурических организмов.
Что же делает «человеческую орду» человечеством, способным к «всемирному общественному процессу», к «поступанию», «процессованию в истории»? А.В. Сухово-Кобылин полагает, что если низшие организмы недвижны как растения или ползают по суше, преодолевая два пространственных измерения, то такие организмы, как насекомые и птицы, вследствие легкости и наличия крыльев способны преодолевать все три пространственных измерения, и этим самым «летанием» демонстрируют способность к самодвижению - автокинии. «Ангелы, т.е. идеальные божественные люди, имеют своим отличием от остальной низшей массы людей символ свободы - крылья. Эти крылатые люди суть высшие, совершенные люди. А высочайший всемирный человек есть уже
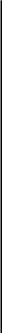
 151
151
бесконечная абсолютная легкость», его абсолютная «победа над пространством и протяженностью». Это одновременно есть «нуль пространства, точка, точечность, дух» [348 , с. 53].
Однако в нынешнем - теллурическом - состоянии человек еще слишком телесен, чувствен, тяжел, чтобы летать, преодолевать все три измерения пространства. Автор полагал, что «легкие человека могли бы легко свой объем удвоить, наполнить всю грудь и большую половину брюха, тем самым увеличить легость человека и, следовательно, учинить его способным при малом усилии держаться на воздухе. К этому, надо надеяться, присоединится техника» [348, с. 55]. Размышляя о пути физического совершенствования человека, А.В. Сухово-Кобылин весьма восторженно писал об эффективности вегетарианства, уповал на «продуктивность разума» при продолжительной и здоровой старости и т.п. Таким образом, все перечисленные средства совершенствуют умение человека преодолевать пространство и делают его собственно человеком, - единственным на Земле свободным и способным к духовности существом.
А.В. Сухово-Кобылин выделяет триаду, три этапа в разворачивающейся истории человечества, которую он называет «поступанием», "процессованием» : 1) момент, или этап, теллурического, «земного человечества, заключенного в тесных границах нами обитаемого земного шара»; 2) момент, или этап, солярного человечества, которое будет собой представлять некую «всекупоту обитателей нашей Солнечной системы»; 3) момент, или этап, сидерического, или всемирного, человечества, когда «вся тотальность миров, обитаемых человечеством во всей бесконечности Вселенной», образует Всемир [348, с. 52]. Таким был его прогноз на будущее.
Если теллургическое состояние есть почин в истории человечества, то ее конец есть высочайшая ступень превращения в «Божью общину», «Град Божий» (Августин), «Абсолютный Дух» (Гегель). Лишь на третьем этапе истории человечества возможна абсолютная и свободная человече-
 152
ская личность. Это одновременно и цель
и «сключение» - соединение,
152
ская личность. Это одновременно и цель
и «сключение» - соединение,
сближение с Богом, достижение Царства Божия [348, с. 52]. «Это универсальное единение и единство всемирного человечества и есть его, человечества, безграничная будущность, и само оно есть его цель и, следовательно, есть самоцель, энтелехия, с самим собой соключенно-бытие и высочайшее единство» [348, с. 56].
Опираясь на открытия электричества и спектрального анализа, А.В. Сухово-Кобылин говорит об очевидности единства материи и сил во Вселенной несмотря на то, что «всемирное человечество ныне расторгнуто на отъемлемые планетные человечества, остающиеся вне всякого общения друг с другом, что препоном этого общения становится только зависимость от чрезмерной протяженности их разделяющего пространства, и, следовательно, должно быть достигнуто большею степенью его, человека, подвижности или переместимости, т.е. большей иннервацией его собственного самодвижения, или, что одно и то же, умалением его собственной протяженности и совместно уменьшением его удельного веса и, следовательно, одухотворением всей совокупности его организма, - приобретением ему еще чуждой способности летания» [348, с. 57]. Человек еще остается «большим рабом пространства, сравнительно со всеми классами животных, - и это его отношение к пространству и дает нам мерило дальнейшего его развития» [348, с. 60]. И далее он продолжает: «Относительно движения за пределы атмосферы можно в настоящий момент утешить ныне столько бедствующее в кандалах пространства человечество соображением, что если рыба смогла выработать свой организм для того, чтобы плавать в воде, птица, чтобы плавать в воздухе, то не видно, почему даровитый полубог, человек, на этих днях покоривший себе теллурические пространства рельсовыми путями, телеграфом и телефоном, не властен будет возвести мало-помалу свою легкость, чтобы, подобно рыбе в воде и птице в воздухе, плавать в эфире, который, как ныне доказывается, точно также волнообразно волнуется, как вода и воздух»
 153
[348, с. 57]. Победа человека над
пространством, по А.В. Сухово-Кобылину,
станет одновременно победой над временем.
153
[348, с. 57]. Победа человека над
пространством, по А.В. Сухово-Кобылину,
станет одновременно победой над временем.
Рисуя картину исторического развертывания трех этапов судьбы человечества, мыслитель был так загипнотизирован «эволюционной объективностью», что не заметил погрешности в ее логике. Поместив в начало человеческой истории «зверообразного дикаря», «антропофага», а на вершину истории - «лучезарную духовную личность», все промежуточные формы между ними он бросает в «огонь селекции». Тем не менее, «финальная обращенность» мысли А.В. Сухово-Кобылина делает его одним из ярких и одновременно типичных русских мыслителей, которые настойчиво мечтали о радикальном преобразовании человекомира.
А.В. Сухово-Кобылин был убежден в наличии обитаемых миров во Вселенной и потому полагал, что на основе тождества состава планет и сил, которым они подчиняются, тождественна также будущность Земли. Последняя - в единстве вселенского человечества. Поэтому его учение о Всемире завершается утверждением: «Всемир есть жилище одного и того же человечества» [348, с. 61]. Будущее за сильными людьми, способными к «поступанию вглубь», развитию своей личности в отличие от слабых, которые истребляются самим ходом истории. Понятие «сильных людей» трактуется А.В. Сухово-Кобылиным следующим образом. Сила - прерогатива самого начала процесса истории, в ходе которого она исходит в разум, ибо «сила и есть себя еще не знающий разум, а разум есть уже себя знающая сила». Если сила - «бессознательный разум», «зерно разума», то «разум есть плод силы», именно он посредством культуры и образованности исходит в дух, а бестелесный, чистый дух и есть «разумный Бог». Такая трактовка одухотворения человечества до Бога требует бесконечности. Как у Гегеля: логическое эвольвирует (преобразуется) в природу, природа инвольвирует (свертывается) в теллурического человека, который эволюционирует (развивается) в идеальность, Абсолют. Человек и есть одухотворение природы. Посредством человека природа только и
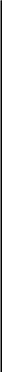
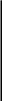 154
может
изойти в дух. При этом все современные
изобретения есть дополнительные
шаги, совершаемые человечеством по пути
одухотворения, когда
личность становится духовной, бессмертной,
а человечество звездным, сидерическим.
Таким образом, активная эволюция природы,
по А.В.
Сухово-Кобылину, есть основание для
утверждения об обязательности
космической экспансии человечества в
будущем.
154
может
изойти в дух. При этом все современные
изобретения есть дополнительные
шаги, совершаемые человечеством по пути
одухотворения, когда
личность становится духовной, бессмертной,
а человечество звездным, сидерическим.
Таким образом, активная эволюция природы,
по А.В.
Сухово-Кобылину, есть основание для
утверждения об обязательности
космической экспансии человечества в
будущем.
В теоретических размышлениях А.В. Сухово-Кобылина впервые для отечественной философской мысли фигурируют все составляющие будущего глобально-экологического мышления: природа, человек, общество. Более того, в его набросках присутствует идея развития и движения к будущему, но не как поступательного развития,
а лишь как движения от земного к звездному состоянию человечества, состоящему из эфирно-легких бессмертных человеков. Вера в единство человеческих миров Вселенной позволила А.В. Сухово-Кобылину уповать в равной мере на технику и совершенствование телесности человека, которая в настоящий момент не обладает нужными качествами. Только усовершенствовав себя, человек может вырваться к звездам и стать воплощенным Разумом. В учении А.В. Сухово-Кобылина о Всемире нет еще тревоги по поводу надвигающегося глобального кризиса. Более того, будущее человечества видится ему как вполне положительная и успешная деятельность всемирного государства, которое возглавит наиболее умная, гуманная и сильная раса, способная обеспечить всеобщий мир, братство и выход к солярному, а затем и к сидерическому этапам. Весьма трансформирован у А.В. Сухово-Кобылина Бог, удаленный от православной традиции. У него Бог скорее Идея, далекая, манящая, конечная Цель Всемира, человечества и человека.
Если у Л.И. Мечникова практически речь шла о мире в целом и комплексе природных факторов, экстраполяция коих дала модель истории и близкого в общем-то будущего человечества, то А.В. Сухово-Кобылин стал первым мыслителем, очертившим весьма отдаленные гори-
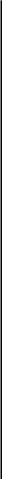 155
зонты будущего. Если у Л.И. Мечникова,
по сути дела не дано какой-либо трактовки
роли человека в истории, то А.В.
Сухово-Кобылин оригинально трактует
настоящее и будущее человека, его природу
и желаемую стратегию. Но в отличие
от материалиста Л.И. Мечникова А.В.
Сухово-Кобылин
стоит на последовательно идеалистической,
более того, религиозно
ориентированной позиции, сочетающейся
с элементами фантастики. Человек
компенсирует природное несовершенство
интеллектом, наукой,
техникой, за что А.В. Сухово-Кобылин
называет его «даровитым полубогом».
Философа интересует не отдельная
человеческая индивидуальность, а
человечество, по его мнению, находящееся
на самом начатке своей
истории. Оно переживает теллурический
(земной) период, выход за пределы
атмосферы - дело ближайшего будущего,
за которым последуют солярный
(освоение Солнечной системы) и сидерический
(освоение Вселенной) периоды. Только
на последнем этапе возможно «сключение
с Богом»,
возможна радикальная трансформация
человеческой личности в духовную,
бестелесную, бессмертную, «лучезарную»
форму, в «чистый дух».
155
зонты будущего. Если у Л.И. Мечникова,
по сути дела не дано какой-либо трактовки
роли человека в истории, то А.В.
Сухово-Кобылин оригинально трактует
настоящее и будущее человека, его природу
и желаемую стратегию. Но в отличие
от материалиста Л.И. Мечникова А.В.
Сухово-Кобылин
стоит на последовательно идеалистической,
более того, религиозно
ориентированной позиции, сочетающейся
с элементами фантастики. Человек
компенсирует природное несовершенство
интеллектом, наукой,
техникой, за что А.В. Сухово-Кобылин
называет его «даровитым полубогом».
Философа интересует не отдельная
человеческая индивидуальность, а
человечество, по его мнению, находящееся
на самом начатке своей
истории. Оно переживает теллурический
(земной) период, выход за пределы
атмосферы - дело ближайшего будущего,
за которым последуют солярный
(освоение Солнечной системы) и сидерический
(освоение Вселенной) периоды. Только
на последнем этапе возможно «сключение
с Богом»,
возможна радикальная трансформация
человеческой личности в духовную,
бестелесную, бессмертную, «лучезарную»
форму, в «чистый дух».
Н.Ф. Федоров обладал глубокими и многосторонними познаниями, в совершенстве владел основными европейскими и несколькими восточными языками; был широко известен среди научной, философской, литературной и художественной интеллигенции Москвы. Общался с Л.Н. Толстым, B.C. Соловьевым, К.Э. Циолковским, Ф.М. Достоевским.
В последние годы жизни начал напряженно работать над окончательным приведениемв порядок своих рукописей для скорейшего их обнародования уже под собственным именем. Перед тем, как лечь в больницу все свои бумаги он передал своему ученику и другу В.А. Кожевникову. Последний и Н.П. Петерсон завершили работу по подготовке к изданию переданного им Федоровым наследия и выпустили 480 экземпляров двух
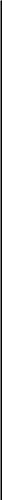 156
156
томов «Философии общего дела» (1906 и 1913 гг.), а третий - частично
вошел в «Сочинения» Н.Ф. Федорова, изданные лишь в 1982 году.
Среди последователей и учеников Н.Ф. Федорова - К.Э. Циолковский, В.Я. Брюсов, A.M. Горький, В.В. Хлебников, В.В. Маяковский, Н. Клюев, А.П. Платонов, Н.А. Заболоцкий, М. Пришвин, В. Чекрыгин, П. Филонов, Н. Скрябин и многие другие деятели российской культуры конца XIX - начала XX века. Федоровская дерзость духа, фантастичность замыслов притягивала многие неординарные умы. В своих воспоминаниях незадолго до смерти К.Э. Циолковский называет Н.Ф. Федорова «изумительным философом», положившим начальные, краеугольные камни русского космизма. Однако при жизни мыслителя его идеям никто не сказал ни решительного «да», ни решительного «нет» и, как полагал С. Булгаков, это не случайно. Видно, не пришло еще время для «жизненного опознания» его мыслей, как это часто случается с пророками, упреждающими свое время. Факты биографии Н.Ф. Федорова свидетельствуют о богатейшем жизненном опыте и пережитых впечатлениях юности как о важном источнике его взглядов и идей, которые в советский период в силу религиозности автора и содержащейся в них критики социализма, на долгие десятилетия были изъяты из сферы внимания отечественных философов.
Взгляды Н.Ф. Федорова представляют собой оригинальный подход к решению традиционных проблем русской философии, основанный на идее поиска глубинных причин зла и разработке проекта его преодоления. Анализируя общество и его историческое прошлое, философ характеризовал его как непрерывную цепь истребления одного народа другим, как процесс вытеснения младшим поколением старшего, ибо «вражда», «неродственность», «борьба во всех видах считается даже условием прогресса» [413, с.43]. Альтернативу такого сорта «прогрессу» Н.Ф. Федоров видит лишь в воскрешении. В конечном счете такие отношения явились следствием зависимости жизни человечества от природы, подчиненной
 157
законам времени и смерти. В этих условиях
человек принужден решать
157
законам времени и смерти. В этих условиях
человек принужден решать
проблемы самосохранения, что приводит его к самоизоляции и агрессивности по отношению к миру. Общественный строй, основанный на эгоизме, он называет «зооморфической», «несовершеннолетней», «отживающей формой вселенной». Человечество должно осознать своего главного врага в лице слепых сил природы и объединиться для борьбы с ними. Основу для этого Н.Ф. Федоров видит в нравственном долге «сынов и дочерей человеческих» по отношению к «отцам», предкам, всем умершим. Долг этот заключается в «воскрешении», возвращении их к жизни, отнятой людьми или природой в процессе борьбы, войн, голода, природных стихий и т.п. Для предотвращения природной катастрофы, нависшей над Землей, необходимо объединение ради внесения целесообразности в природу, регуляции природных процессов.
Смерть - явление временное, обусловленное «невежеством» и «несовершеннолетием» человечества, потерявшего свое единство, разделенного на сословия. Главная же причина состоит в отделении мысли от дела, разума от воли, знания от нравственности, практического разума от разума теоретического. Поэтому и имеющийся теперь прогресс неполон, неположителен, легко превращается в свою противоположность, не искореняя главного зла - природного способа существования человечества. У Н.Ф. Федорова сам прогресс выступает злом, «адом». Проект Н.Ф. Федорова - «Общее дело», в ходе которого люди, действительно, объединятся - состоит в воскрешении отцов, в преодолении «неродственности» [413, с. 44], поскольку подлинную «родственность» заменили «гражданственностью», «государственностью». Цивилизации между тем насущно нужны «отечественность», «братство». Долг воскрешения есть «супраморализм» - высшая и безусловная нравственность, заповедность, идущая из глубин христианства в его православном воплощении.
Н.Ф. Федоров самобытно интерпретирует и критически перерабатывает самую суть христианства, две идеи которого являются для него
 158
величайшими: воскресение Сына Человеческого
и вечность жизни. Он
158
величайшими: воскресение Сына Человеческого
и вечность жизни. Он
критически оценивает догмат о возможности личного спасения и полагает, что хотя христианство и искажено, но только оно представляет собой религию, способную вести человечество по пути ко всеобщему спасению [413, с. 94].
Чрезвычайно интересна у Н.Ф. Федорова трактовка Бога - всеблагого, любящего «не мертвых, а живых» [413, с. 154, 167], который желает восстановления мира в бессмертное состояние, возвращения всех без исключения в рай, построенный усилиями самих людей [413, с. 196], осознававших необходимость сделаться орудиями его воли. Образцом для общества может быть Божественная Троица как нераздельная и неслиянная общность, объединенная совершенной любовью между Божественными личностями - Богом-Отцом, Богом-Сыном и Богом-Духом Святым [413, с. 196]. Последняя ипостась для Н.Ф. Федорова может быть Дочерью. Именно недостатком внимания, любви объясняет философ причину смертности людей. Поэтому будущее их должно быть подобным Божественной Троице. Оригинальна трактовка и конца мира, Страшного суда; последний, по Федорову, не императив, а предупреждение. Конец света наступит только в случае пассивного поведения человеческого рода, не пришедшего к осознанию Божественной воли. Эсхатология Н.Ф. Федорова содержит идею всеобщего спасения. Воскрешение предков -«патрофикация» - предполагает возвращение «отцов» к жизни, хотя и в телесном, но новом, преображенном виде, когда они будут обладать способностью самосозидать свое тело из неорганических веществ. Все миллиарды людей - живущих и воскрешенных - будут способны управлять движением Земли, ее атмосферными явлениями, Солнечной системой и Вселенной.
России Н.Ф. Федоров отводит в «общем деле» наиважнейшую роль в силу необходимых и достаточных предпосылок: родовой, земледельческий быт, наличие общины, географическое положение и просторы, соз-
 159
159
нание «виновности» и других. «Тот материал, из коего образовались богатырство, аскеты, прокладывающие пути в северных лесах, казачество, беглые и т.п., - это те силы, которые проявляются еще более в крейсерстве и, воспитанные широкими просторами суши и океана, потребуют себе необходимого выхода, иначе неизбежны перевороты и всякого рода нестроения, потрясения. Ширь русской земли способствует образованию подобных характеров; наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига» [413, с. 67].
Усматривая главное зло для человека в болезнях, лишениях, в одряхлении, старости и в смерти, как следствии порабощенности его слепой силой природы [413, с. 17], Федоров выдвинул идею регуляции природы силами науки и техники. Регуляция природы означает новую ступень эволюции, отмеченную сознательным преобразованием, осуществляемым «существами разумными и нравственными, трудящимися в совокупности общего дела». Регуляция природы означает:
овладение природой,
переустройство человеческого организма,
управление космическими процессами,
наконец, победу над смертью в форме «воскрешения отцов».
Регуляция природы - не господство человека над ней, но исключительно «гармонизация», «достижение единства» [413, с. 44]. Природа посредством человека не только сознает себя, но и управляет собою. В регуляции, в управлении силами слепой природы и заключается то великое дело, которое может и должно стать общим. «Должна быть умерщвлена, наконец, и смерть сама - самое крайнее выражение вражды, невежества и слепоты, т.е. неродственности» [413, с. 44].
Признав внутреннюю направленность природной эволюции ко все большему усложнению и, наконец, к появлению сознания, Н.Ф. Федоров
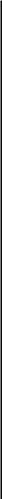 160
приходит
к следующей дерзновенной мысли: всеобщим
познанием и трудом человечество
призвано овладеть стихийными, слепыми
силами вне и внутри
себя, выйти в космос для его активного
освоения и преображения, обрести новый,
космический и бессмертный статус бытия,
причем в полном составе прежде живших
поколений. В этом и будет состоять
одухотворение мира при последовательном
решении ряда задач:
160
приходит
к следующей дерзновенной мысли: всеобщим
познанием и трудом человечество
призвано овладеть стихийными, слепыми
силами вне и внутри
себя, выйти в космос для его активного
освоения и преображения, обрести новый,
космический и бессмертный статус бытия,
причем в полном составе прежде живших
поколений. В этом и будет состоять
одухотворение мира при последовательном
решении ряда задач:
регуляции «метеорических» (космических) явлений;
превращении стихийно-разрушительного характера природных сил в сознательно направленный;
создании нового типа организации общества - «психократии» на основе сыновнего, родственного сознания;
работе над преодолением смерти, преобразованием физической природы человека;
бесконечного творчества бессмертной жизни во Вселенной.
Познание, опыт и труд - главные всеобщие условия достижения поставленных целей; участниками будут все до одного живущие, жившие и те, кому предстоит жить; преобразование касается всего в мире, всей природы и всей Вселенной. Таким образом, у Н.Ф. Федорова в субъекте - все, а в объекте - всё. Философ оптимистически открывал невероятные горизонты человеку, считая жизнь вселенским целостным явлением; она должна быть охвачена новой, всеобщей космической наукой о жизни, в центре которой окажется человек и его индивидуальная бессмертная жизнь. Будущая наука устранит внешние причины смерти человека - стихийность среды посредством регуляции природы и внутренние причины путем обеспечения возможности бесконечного самообновления человеческого организма с помощью всеобъемлющей психофизиологической регуляции человека как открытой системы.
До сих пор человек шел «боковым» путем, он пытался достичь своего господства над стихиями природы расширением ареала, вовлекаемых в производство сил и средств, изготовлением технических средств и ма-
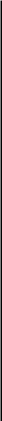 161
161
шин, которые продолжают и усиливают его органы. Но, развивая технику, человек еще никогда не покушался на свою собственную природу, священно охранял её норму и границы, в сущности, оставлял себя ограниченным и физически и умственно. Сила его увеличивалась лишь за счет внешних ему (его телу, его мозгу, его сердцу) орудий и машин. По этой причине увеличивался разрыв между мощью техники и слабостью самого человека. Технизация же, по Н.Ф. Федорову, - временная и «боковая», а не главная ветвь развития и будущности человека. Нужно, чтобы человек ту же силу ума, выдумки, расчета, озарения обратил не на искусственные приставки к своим органам, а на сами органы, их улучшение, развитие, радикальное преображение. «Человеку будут доступны все небесные пространства, все небесные миры только тогда, когда он сам будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, потому что тогда только он будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы и быть в гостях у всех поколений» [413, с. 171]. Аналогами для перестройки человеческого организма могут служить механизмы питания растений, обновление организма и регенерация органов у некоторых животных, но на сознательном, более высоком уровне. Однако в будущем должно быть создано направленное естественное тканетворение, органо-творение. Эту способность человека создавать органы в зависимости от среды обитания и задач Н.Ф. Федоров называет полноорганностью.
При всей утопичности «общего дела» Федорова его идеи о регуляции природы, борьбе со смертью, обретении человеком и человечеством более высокого онтологического статуса ныне признаны лежащими у истоков активно-эволюционной, космической, ноосферной мысли XX века Энциклопедизм Н.Ф. Федорова позволил ему подняться над абстрактны*, философствованием, по-новому решать вопрос о соединении знаний ' практикой.
У Н.Ф. Федорова был бесконечно дорогой ему Дом, где грелось ег сердце, где он чувствовал себя среди «родных, а не чужих», - Храм. Прг
 162
вославная церковь питала его чувством
причастности к общечеловеческой
общности, проходящей через века, связующей
живых и мертвых и уходящей
в небо. Н.Ф. Федоров многократно говорил
о себе как о человеке, «воспитанном
службою Страстных дней и Пасхальной
утрени». И свое учение он называл «Новой
Пасхой», излагал его в форме «пасхальных
вопросов». Проходя душевную и
интеллектуальную школу храмового
образования, глубоко и сердечно укореняя
в себе идеал преодоления
закона «мира сего», Н.Ф. Федоров грезил
о том времени, когда христианство молитву
превратит в дело, выйдет из храма, когда
литургия станет внехрамовой, вынесет
свое тайнодействие в мир, станет реальным
пресуществлением
праха в живые преображенные плоть и
кровь.
162
вославная церковь питала его чувством
причастности к общечеловеческой
общности, проходящей через века, связующей
живых и мертвых и уходящей
в небо. Н.Ф. Федоров многократно говорил
о себе как о человеке, «воспитанном
службою Страстных дней и Пасхальной
утрени». И свое учение он называл «Новой
Пасхой», излагал его в форме «пасхальных
вопросов». Проходя душевную и
интеллектуальную школу храмового
образования, глубоко и сердечно укореняя
в себе идеал преодоления
закона «мира сего», Н.Ф. Федоров грезил
о том времени, когда христианство молитву
превратит в дело, выйдет из храма, когда
литургия станет внехрамовой, вынесет
свое тайнодействие в мир, станет реальным
пресуществлением
праха в живые преображенные плоть и
кровь.
Однако Н.Ф. Федоров кардинально переосмысляет фундаментальные представления христианства. Он выдвигает свой тип эсхатологии, восполнив два, на его взгляд, извращения христианского идеала: частичность, индивидуальность спасения и его сверхъестественный катастрофим при пассивном ожидании исполнения «последних сроков». Развязка драмы мировой истории в виде неудержимого и неустранимого каскада страшных казней, запланированных божественной инстанцией, больше всего парализует всякую волю к человеческому действию в деле своего достойного онтологического устроения. Он ставит под вопрос учение о фатальной развязке, картину тех бедствий, которые ждут человечество «в конце света». Н.Ф. Федоров предполагает, что именно таким «конец света» будет при пассивности людей, упорстве на избранном пути рабского повиновения существующему порядку вещей. Пророчество о Страшном суде может иметь характер угрозы, предупреждения. Однако автор «общего дела» скептически относится к апокалиптическим пророчествам, он настаивает на соборно-всеобщем спасении в ходе имманентного воскрешения, которого достигнет «по велению Бога», в потоках его благодати объединенное братское человечество, овладевшее тайнами жизни и смерти, секретами «метаморфозы» вещества. Трансцендентное воскресе-
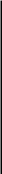 163
163
ние, считает Н.Ф. Федоров, совершится только в том случае, если человечество придет в «разум истины».
Тогда это будет, воистину, «воскресением гнева», когда произойдет окончательное разделение рода людского на спасенных и вечно проклятых. Такое разрешение конечных судеб есть на деле казнь для всех: не только для грешников («вопль и скрежет зубовный»), но и для праведных («так ли уж сладко им, самым чистым и совестливым, быть свидетелями страшных мук своих ближних?"). Мыслитель убежден, что не может быть безысходного ада, невозможен ни в какой форме «садизм Царствия Небесного». Но и готового Рая тоже пока быть не может, ибо нет абсолютно праведных: все причастны к первородному греху пожирания и вытеснения, все нуждаются в очищении. Чистилище - физическая и нравственная необходимость для всех. Под Чистилищем можно понимать и историю, и настоящее человечества, подверженного бичам природных сил вне и внутри себя. Снаружи бушует «глад, наводнение, пожары, извержения». Внутри индивидуальной и коллективной людской природы рвется злое самоутверждение, насилие, убийство, войны. Но вместе с тем происходит и самовоспитание человечества, растут его созидательные силы, осознаются пути спасения. Но чистилище истории, предрекает Н.Ф. Федоров, частью есть ад, а может целиком обернуться форменным адом. На природном, языческом пути человечество идет к своему концу, «страшному суду» самоистребления; признаки конца мира уже проступают трупными пятнами на теле современного мира. Спасение произойдет в самом процессе созидания Рая, Царствия Небесного, постепенного преобразования человеком себя из существа пожирающего, вытесняющего и смертного в самосозидающее, воскресающее и бессмертное. По воскрешении убийственные результаты аннулируются, ибо все жертвы вольного или невольного вытеснения возвратятся к жизни вечной. Новый, высший уровень сознания воскрешенных, в том числе, и
 164
прямых
злодеев, прошедших чистилище, неизбежно
включит их в единое любовное
бытие «по типу Троицы».
164
прямых
злодеев, прошедших чистилище, неизбежно
включит их в единое любовное
бытие «по типу Троицы».
Апеллируя главным образом к нравственному чувству человека, его глубочайшей интуиции должного бытия, к зову Бога в человеке, Н.Ф. Федоров предлагает свой путь выхода даже из ситуации крайнего мета-физического отчаяния - безбожия. Если Бога нет в таком виде, как его представляют теистические религии, тогда идеал божественного бытия как регулятивная идея должного, ведет нас к созиданию такого бытия, к его постепенному расширению на всю Вселенную.
Для Федорова «нынешнее» - конец XIX века - состояние человечества неприемлемо, и он выдвигает свой проективный вариант реконструкции общества, природы и человека. Природа, с его точки зрения, косна, во многом враждебна человечеству, ее следует покорять, и это касается не только неорганического мира, мира растений и мира животных, но и природного начала в самом человеке: с помощью науки следует научиться возвращать жизнь умершим, «отцам».
В его учении особое место занимает отношение к религии и морали. С одной стороны, он подчеркивает благотворное влияние на него самого православного богослужения, с другой стороны, он чрезвычайно смело преобразует не только православную доктрину, но и христианство в це-дом. Так, в противовес православию он обсуждает роль Чистилища (в православии учение о Чистилище отсутствует - это атрибут католической доктрины). В противовес и православию и католицизму, вместе взятым, трактует Духа Святого как Дочь Бога; критически переосмысливает учение о «конце света», - его эсхатология ревизует фундаментальные положения христианства, в том числе, о делении на грешных и праведных при посмертном воздаянии. И, вместе с тем, с позиции Н.Ф. Федорову лишь приобщение к христианской нравственности может спасти мир и открыть перспективу вечной жизни всем людям, и вместе с бессмертием обеспечить овладение космосом.
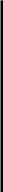
 165
Так кто же он - этот «мирской отшельник»,
поддерживающий контакты с элитой
мыслителей и творцов своего времени:
тонкий созерцатель процессов,
происходящих в обществе, или
утопист-преобразователь общества,
благочестивый прихожанин, умиляющийся
перед благолепием пасхальной
службы в православном храме или дерзкий
еретик, ревизующий фундаментальные
доктрины христианства в любых его
ипостасях? Любая из этих характеристик
без натяжки может быть обоснована
самими трудами Н.Ф. Федорова, но в
таком случае это будет человек-схема,
потеряется притягательность
противоречивого, но безмерно философичного
мыслителя. Н.Ф. Федоров и созерцатель и
реформатор-теоретик; и примерный
прихожанин и дерзкий еретик; и
энциклопедически образованный,
скрупулезный ученый-объективист и
необычайный мечтатель. Все это производно
от перипетий его личной судьбы, от
обширнейшей образованности, от очевидной
включенности его мышления в различные,
в том числе восточные, системы
ментальностей. Таковы основания «общего
дела» Н.Ф. Федорова, ставшие одним из
истоков отечественной научно-философской
традиции глобально-экологического
стиля современного мышления. Перед
нами один из «отцов-основателей» русского
космизма, мыслитель, остро чувствующий
приближение всеобщего кризиса
и страстно ищущий выхода из него.
165
Так кто же он - этот «мирской отшельник»,
поддерживающий контакты с элитой
мыслителей и творцов своего времени:
тонкий созерцатель процессов,
происходящих в обществе, или
утопист-преобразователь общества,
благочестивый прихожанин, умиляющийся
перед благолепием пасхальной
службы в православном храме или дерзкий
еретик, ревизующий фундаментальные
доктрины христианства в любых его
ипостасях? Любая из этих характеристик
без натяжки может быть обоснована
самими трудами Н.Ф. Федорова, но в
таком случае это будет человек-схема,
потеряется притягательность
противоречивого, но безмерно философичного
мыслителя. Н.Ф. Федоров и созерцатель и
реформатор-теоретик; и примерный
прихожанин и дерзкий еретик; и
энциклопедически образованный,
скрупулезный ученый-объективист и
необычайный мечтатель. Все это производно
от перипетий его личной судьбы, от
обширнейшей образованности, от очевидной
включенности его мышления в различные,
в том числе восточные, системы
ментальностей. Таковы основания «общего
дела» Н.Ф. Федорова, ставшие одним из
истоков отечественной научно-философской
традиции глобально-экологического
стиля современного мышления. Перед
нами один из «отцов-основателей» русского
космизма, мыслитель, остро чувствующий
приближение всеобщего кризиса
и страстно ищущий выхода из него.
Мир в модели Н.Ф. Федорова как онтологическая сущность необычайно поляризован; в нем есть лишь природа и дух. От природы исходит зло, вражда, неродственность, катастрофы, смерть, ничто. В духе Н.Ф. Федоров эксплицирует чистое бытие, благо, истину, красоту, вечность и свободу. Как и все в мире, поляризован и человек. Однако если мир статичен в своей полярности и изначальной данности, то человеку свойственно стремление преодолеть свое природное существование, подняться до духовного состояния и существования. Биологическая эволюция завела человека в тупик: он стал предпочитать стремлению к расширению своего ареала он стал предпочитать изготовление машин, при этом все
 166
166
более углубляя свое отставание от них. Этот «боковой путь» биологической, природной эволюции угрожает человечеству самоистреблением, несмотря на то, что это выдвигается за попытки построить рай на земле, регулировать силы грозной природы.
Согласно Н.Ф. Федорову, необходим радикально иной путь развития, который способен в действительности обеспечить будущее. Прежде всего Н.Ф. Федоров ставит грандиозные задачи перед человечеством по отношению к самому себе, своей природе, возможностям существования в будущем. Человек должен научиться воссоздавать себя из атомов и молекул; сменить механизм питания; уметь обновлять свой организм; адаптировать себя к разнокачественным космическим средам; воскресить всех некогда умерших предков вплоть до самого первого. Для того, чтобы изменить свое отношение к природе, необходим выход в космос, управление движением Земли, Солнечной системы, Вселенной. Но для успехов в этом направлении кроме необычайного развития науки и техники равно необходимо принципиально иное общественное устройство. Человечество должно объединиться в «психократию», для чего необходимо воспитывать в людях «крейсерские» качества характера и привычку следовать новым нравственным «космическим» императивам. По мнению Н.Ф.Федорова, людей объединит «общее дело».
На заре XX века К.Э. Циолковский первым понял преимущества и уникальные возможности реактивного способа передвижения в космическом пространстве и посвятил большую часть жизни разработке теории космоплавания, в связи с чем создал два новых научных направления -ракетодинамику и астронавтику - и обрел уже в конце 20-х годов мировую известность.
В молодости под влиянием идей Н.Ф. Федорова по своей философской позиции К.Э. Циолковский стал последователем космизма, понимая, что назревает необходимость осмыслять и решать глобально-исторические задачи человечества. Идеи Циолковского формировались, с
 167
одной стороны, под влиянием эволюционизма,
а с другой - христианства
167
одной стороны, под влиянием эволюционизма,
а с другой - христианства
и буддизма, к которому он проявил особый интерес.
Свою философскую доктрину К.Э. Циолковский называет «монизмом», структурные элементы мироздания - «атомами». Но его «атомы» иные, чем у Демокрита и его материалистических последователей. «Атом» Циолковского - элементарное существо, которое не подвергается распаду как физический атом, он бессмертен, путешествуя от одного конгломерата к другому. Человеческий организм - государство атомов. Каждый атом имеет чудесную историю прошедшего и будущего и чувствует сообразно обстановке. «Попадая в высокоорганизованные существа, он живет их жизнью, чувствует приятное и неприятное; попадая в мир неорганический, он как бы спит, находится в глубоком обмороке, в небытии» [103, с. 32]. Жизнь, по мнению К.Э. Циолковского, есть космическое явление; а бесконечно малое (микромир) и бесконечно большое (мегамир, космос) соотносимы, сопряжены, суть одно и то же. Жизнь -один из элементов структуры миропорядка, поэтому все природное, равно и человек, приобретают «смысл», «цель», «благость»; на всё распространяются единые универсальные законы и принципы, а также нормативные этические регуляторы эволюции Вселенной; это - императивы «космической этики». Природа осознает себя разумными формами, сам разум есть основная движущая сила восхождения космической материи к высшим ступеням совершенства. Жизнь и разум, по К.Э. Циолковскому, таким образом, - фундаментальные атрибуты материального мира [103, с 63].
Космос - целостная гармоническая система, в рамках которой и атом и человек одинаково причастны высшему единству. Они жизненно чувствительны, одухотворены, как и все иные формы и ступени бытия материи во Вселенной. И вместе с тем К.Э. Циолковский утверждает: «Я чистейший материалист. Ничего не признаю, кроме материи» [103, с. 33]. И далее: «Я не только материалист; но и панпсихист, признающий чувст-
 168
венность
всей Вселенной» [103, с. 33]. Законы
универсальной жизнедеятельности,
с его точки зрения, непосредственно
реализуются на микроуровне «атомов»,
наделенных способностью к элементарным
жизненным проявлениям
- зачаткам чувствительности и духовности.
По К.Э. Циолковскому,
рождение и смерть выступают как акты
ассоциации и диссоциации
этих элементов, способных входить в
состав комбинаций различной
степени сложности, - так К.Э. Циолковским
интерпретируется идея бессмертия.
Фактически качественное различие
неживой и живой природы,
природы и человека, человека и человечества
снимается как таковое. Он
утверждает, что границы между ними
искусственны [103, с. 31]. Периоды
пребывания материи в простых неорганических
формах проходят бесследно,
не отмечаются в «истории жизни» атома,
не имеют субъективной
длительности. Переход к высокоорганизованной
ступени существования
элемента космоса свидетельствует,
согласно К.Э. Циолковскому, о его
творческом, негэнтропийном свойстве,
победе над хаосом. С этой позиции
космологический процесс предстает как
ряд циклических усовершенствований
бытия. «Мозг и душа смертны. Они разрушаются
при конце.
Но атомы или части их бессмертны, и
потому сгнившая материя опять
восстанавливается
и опять дает жизнь, по закону прогресса,
еще более совершенную»
[103, с. 35]. Смерть человека есть распад
тела, мозга, души на
атомы, которые бессмертны как элементарные
живые существа; они путешествуют по
космосу, входят в состав различных
жизненных форм, поэтому смерть не равна
полному исчезновению данного человека.
168
венность
всей Вселенной» [103, с. 33]. Законы
универсальной жизнедеятельности,
с его точки зрения, непосредственно
реализуются на микроуровне «атомов»,
наделенных способностью к элементарным
жизненным проявлениям
- зачаткам чувствительности и духовности.
По К.Э. Циолковскому,
рождение и смерть выступают как акты
ассоциации и диссоциации
этих элементов, способных входить в
состав комбинаций различной
степени сложности, - так К.Э. Циолковским
интерпретируется идея бессмертия.
Фактически качественное различие
неживой и живой природы,
природы и человека, человека и человечества
снимается как таковое. Он
утверждает, что границы между ними
искусственны [103, с. 31]. Периоды
пребывания материи в простых неорганических
формах проходят бесследно,
не отмечаются в «истории жизни» атома,
не имеют субъективной
длительности. Переход к высокоорганизованной
ступени существования
элемента космоса свидетельствует,
согласно К.Э. Циолковскому, о его
творческом, негэнтропийном свойстве,
победе над хаосом. С этой позиции
космологический процесс предстает как
ряд циклических усовершенствований
бытия. «Мозг и душа смертны. Они разрушаются
при конце.
Но атомы или части их бессмертны, и
потому сгнившая материя опять
восстанавливается
и опять дает жизнь, по закону прогресса,
еще более совершенную»
[103, с. 35]. Смерть человека есть распад
тела, мозга, души на
атомы, которые бессмертны как элементарные
живые существа; они путешествуют по
космосу, входят в состав различных
жизненных форм, поэтому смерть не равна
полному исчезновению данного человека.
К.Э. Циолковский выдвигает концепцию «космических эр», прогнозируя эволюционно-исторические перспективы человечества. Землю мыслитель считал исключительной в общем строе мироздания. Она - своего рода «заповедник», в границах которого разыгрывается драма биологического и социального становления новых жизненных форм. «Зачавшаяся в удобный момент жизнь не погибает и при изменении условий, т.к. эти изменения происходят постепенно и жизнь успевает к ним приспособить-
169 ся» [103, с. 40], тем более что в её распоряжении многие сотни миллионов лет. Но это мучительный, мгновенный с точки зрения космоса и гигантски неохватный с точки зрения жизни человека, процесс. Именно он привел к появлению человека, очевидно, не единственного разумного существа во Вселенной. Тем не менее, «земля оказывается исходным пунктом расселения совершенных в Млечном пути» [103, с. 42]. Пока же Земля неизбежно является местом страдания живых существ, подвластных естественному отбору: «Она страдает, но недаром. Плоды её должны быть высокими, если ее предоставили самостоятельному развитию и неизбежным мучениям. Опять скажу, что сумма этих страданий незаметна в океане счастья всего космоса» [103, с. 79]. Смысл и предназначение эволюции живого на Земле в многообразии индивидуальных жизненных форм и проявлений, которое восполняет приток свежих сил из космоса, противостоящих энтропийным процессам нивелирования и упрощения материи. «Мы всегда жили и всегда будем жить, но каждый раз в новой форме, разумеется, без памяти о прошедшем» [103, с. 81].
Человечеству предстоит пройти ряд ступеней в процессе восхождения к высшему космическому совершенству. Таковы:
эра рождения, характеризующаяся созданием гармоничной социально-экономической организации;
эра становления, отсчитывающаяся с момента начала активной космической экспансии;
эра расцвета, создающая предпосылки для овладения универсальными законами Вселенной;
терминальная эра - эпоха перехода человечества из «корпускулярных в энергетические», «лучевые» формы существования, что будет означать конец страдающей органической плоти и достижение «вечного блаженства» в рамках «вселенского единства» [103, с. 42]. К.Э. Циолковский считает, что господствующим будет «наиболее совершен-
 170
ный тип организма, живущего в эфире и
питающегося непосредственно
170
ный тип организма, живущего в эфире и
питающегося непосредственно
солнечной энергией (как растения)» [103, с. 42].
Последовательность космических циклов, по Циолковскому, соответствует росту преобразующих возможностей разума как фактора космической эволюции. Если на микроуровне универсальные жизненные потенции реализуются в форме блуждающих «атомов-духов», то на мегау-ровне природные процессы рационально преобразуются высокоорганизованными цивилизациями в соответствии с императивами «космической этики». При этом следует отметить, что освоение космоса, по Циолковскому, не только имеет свои эры, но и каждая из них продолжится многие века и тысячелетия.
К.Э. Циолковский допускал одновременно сосуществование множества миров различной степени плотности, активно взаимодействующих между собой [103, с. 72]. Вселенная, согласно Циолковскому, полна разумными могущественными и счастливыми существами. Непрерывные циклы обменов элементарными жизненными частицами объединяют их, побуждают к нравственной круговой поруке и ответственности за судьбы мирового целого. Поэтому в качестве основного этического принципа фигурирует требование целенаправленного уменьшения «суммы» вселенских страданий, зла и несправедливостей, из-за которых могут появиться несовершенные формы «атомов-духов». К.Э. Циолковский распространяет идеи космической этики на всю Вселенную, полагая, что для достижения поставленных целей возможно использование жестких и радикальных мер - от принудительного ограничения размножения страдающих неразумных существ до их безболезненного уничтожения и заселения высвобождаемых ареалов высокоорганизованными формами. К.Э. Циолковский безапелляционен: «Несовершенные миры ликвидируют» [103, с. 41], «недоразвившийся уродливый мир» безболезненно ликвидируют [103, с. 43-52]. Согласно К.Э. Циолковскому, нельзя допускать «несовершенства


 171
в космосе» [103, с. 52], ибо "пресечение
жизни несовершенных родов выгодно
атому» [103, с. 66]. К.Э. Циолковский считает
возможной человеческую
селекцию: «Не будем дожидаться, когда
из волков или бактерий получится
человек, а лучше размножим наиболее
удачных его представителей»
[103, с. 43].
171
в космосе» [103, с. 52], ибо "пресечение
жизни несовершенных родов выгодно
атому» [103, с. 66]. К.Э. Циолковский считает
возможной человеческую
селекцию: «Не будем дожидаться, когда
из волков или бактерий получится
человек, а лучше размножим наиболее
удачных его представителей»
[103, с. 43].
Все процессы космической онтологии у К.Э. Циолковского выступают проявлением некой трансцендентной творческой сущности, которая интерпретируется как «причина» и «воля» Вселенной. Это признание существования силы, первичной по отношению к космической материи, высвечивает религиозно-мистическую составляющую воззрений мыслителя, хотя сам он, как говорилось выше, и называл себя «чистейшим материалистом». С этой точки зрения и человек, подчиненный «воле Вселенной», иллюзорен в нравственной ответственности за принятые решения, осуществленные действия и т.п. «Если нам и удается исполнить свою волю, то только потому, что нам позволила Вселенная. Она всегда имеет множество поводов и причин затормозить нашу деятельность и проявить иную, высшую волю...» [103, с. 64].
Спонтанность и непредсказуемость порождены лишь сложностью вселенского механизма и безмерным разнообразием поведения его элементов. Зачастую в несовершенствах мира повинен сам человек. «Зачем нищета, болезни, тюрьмы, злоба, войны, смерть, глупость, невежество, ограниченность науки, землетрясения, ураганы, неурожаи, засухи, наводнения, вредные насекомые и животные, ужасный климат и т.п.?» [103, с. 70]. Ответ в работе Циолковского следующий: «... люди таковы, что только тяжкие страдания могут их переделать и вести к лучшему» [103, с. 70]. В этой связи моральным долгом отдельного человека и общества в целом станет добросовестное выполнение своей части работы по освоению космоса, в чем Вселенная явно нуждается, и потому благоволит человеку посредством его прогресса в науке и технике, в культуре.

 172
Весьма любопытно, что К.Э. Циолковский
подразумевает под первой
эрой, связанной с решением задачи
совершенствования общества, существование
иерархизированной когорты людей,
стремящихся первоначально «в одно
могущественное тело» в масштабах всей
планеты [103, с.
39]. В работе «Воля Вселенной» он более
точен, а именно: «Люди Земли когда-нибудь
объединятся, и всеми ими будет управлять
один избранный совет под руководством
президента, избранного советом» [103, с.
68]. Солнечной
системой, населенной совершенными
людьми, «также будет управлять избранный
совет со своим председателем» [103, с.
68]. Объединится президентом и весь
Млечный путь [103, с. 69]. Эта мысль завершается
логическим утверждением: «Власть
сознательных существ объединяется
председателями планет, солнечных систем,
звездных групп, млечных путей,
эфирных островов и т.д.» [103, с. 75]. И,
наконец, в «Космической философии»:
«Всюду в космосе распространены
общественные организации,
которые управляются «президентами»
разного достоинства» [103, с. 83].
172
Весьма любопытно, что К.Э. Циолковский
подразумевает под первой
эрой, связанной с решением задачи
совершенствования общества, существование
иерархизированной когорты людей,
стремящихся первоначально «в одно
могущественное тело» в масштабах всей
планеты [103, с.
39]. В работе «Воля Вселенной» он более
точен, а именно: «Люди Земли когда-нибудь
объединятся, и всеми ими будет управлять
один избранный совет под руководством
президента, избранного советом» [103, с.
68]. Солнечной
системой, населенной совершенными
людьми, «также будет управлять избранный
совет со своим председателем» [103, с.
68]. Объединится президентом и весь
Млечный путь [103, с. 69]. Эта мысль завершается
логическим утверждением: «Власть
сознательных существ объединяется
председателями планет, солнечных систем,
звездных групп, млечных путей,
эфирных островов и т.д.» [103, с. 75]. И,
наконец, в «Космической философии»:
«Всюду в космосе распространены
общественные организации,
которые управляются «президентами»
разного достоинства» [103, с. 83].
К.Э. Циолковский пишет о счастливом общественном устройстве, фактически исключающем возможность появления недовольных личностей и меньшинств разного рода. Это обеспечивается достижением невиданного благосостояния за счет роста технического могущества. В таких условиях техника и наука пойдут вперед с невообразимой быстротой: человек преобразует быт, сушу, изменит состав атмосферы, будет широко использовать океан, научится по желанию изменять климат, будет способен путешествовать в космосе, жить там в искусственных жилищах [103, с. 41]. «... Картину душевного мира будущего человека, его обеспеченности, комфорта, понимания Вселенной, спокойной радости и уверенности,
в безоблачном и нескончаемом счастье трудно себе представить» - признает мыслитель. Но еще более смелы его проекты в отношении человека. Он

 173
полагает, что возможно выведение
разнообразных человеческих пород, а
173
полагает, что возможно выведение
разнообразных человеческих пород, а
именно: «пригодных для жизни в разных атмосферах, при разной тяжести, на разных планетах, пригодных для существования в пустоте или в разреженном газе, живущих пищей и живущих без неё - одними солнечными лучами» и т.д. [103, с. 42]. К.Э. Циолковский полагал, что все составные его проекта обеспечат главное - вселенскую гармонию и счастье для каждого без исключения, но при этом у него речь идет только о будущих поколениях, а не обо всех поколениях, как об этом мечтал Н.Ф. Федоров. Ни о каком воскрешении из мертвых нет у К.Э. Циолковского ни слова.
К.Э. Циолковский предвосхитил обсуждение многих глобальных проблем XX столетий, в частности, экологическую. Он верил в необходимость освоения космических просторов с целью предотвращения приближающейся, гибельной для человечества, ситуации на Земле, а потому одно из необходимых и первых умений - умение «преодолеть катастрофы на Земле». «Множество катастроф всегда подстерегают разумных существ», но люди уже теперь «предвидят некоторые бедствия и принимают против них меры» [103, с. 67].
В онтологических воззрениях К.Э. Циолковского есть немало своеобразных рассуждений и поворотов. Мы уже выяснили, с какой страстью мыслитель декларировал свой материализм, признавая исключительно одну субстанцию, существующую во Вселенной - материю в ее бесконечных превращениях. Вечный круговорот материи то «образует солнца, то разлагает их в эфир и очень разреженные, невидимые массы» [434, с. 15]; во Вселенной возможны не только колебательные или повторяющиеся периоды, но и «общее усложнение материи, так что периоды несколько отличаются друг от друга, именно все большею и большею сложностью вещества» [434, с. 15]. «Есть ли конец этому усложнению и не начнется ли снова упрощение - неизвестно» [434, с. 15].
,аИЙ^
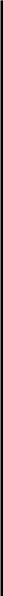 174
Позиция К.Э. Циолковского основана на
представлениях дореляти-
174
Позиция К.Э. Циолковского основана на
представлениях дореляти-
вистской, дофридмановской физики; концепция «большого взрыва», сингулярной, «нулевой точки», из которой началось расширение и развитие доступной нашему сознанию Вселенной, возникла позже.
Именно ньютоновская модель бесконечного Универсума, обладающего бесконечным пространством-временем, господствовавшая в его время в научной картине мира, удивительным образом сомкнулась с древнеиндийскими метафизическими представлениями о мировых циклах и круговоротах перевоплощений. Очевидно, и в космософии Циолковского предполагалось представление о нескончаемых круговоротах гигантских периодов развития. Этим, масштабностью пространства-времени космоса он также отличается от Н.Ф. Федорова. У последнего, как у всех космистов религиозно-христианского толка, бытие видится на: правленным, линейным развитием мира, ход которого эволюционен, но который имеет начало и получает направление, стремление к концу - некой совершенной точке, которая дает концентрические круги и лучи нового бытия, уже неизменные сверх-жизнь, сверхсознание и вечность. Идеи Циолковского отличаются и от модели, согласно которой Универсум есть замкнутый круг бесконечной игры превращений вселенских элементов, который не предполагает выхода к принципиально новому качеству. У К.Э. Циолковского развитие мира - это, скорее, спираль, восходящая, повторяющая и усложняющая свои элементы.
Жизнь космоса в его трактовке представлена самыми разнообразными формами, разными ступенями развития, в том числе, самыми совершенными, высокосознательными и бессмертными представителями. В этом Циолковский близок к натурфилософскому пантеистическому видению мира - «панпсихизму». Вселенная - единое материальное тело, по которому бесконечно путешествуют атомы, покинувшие распавшиеся смертные тела; атомы, которые он называл «первобытными гражданами», «примитивными Я».

 175
175
К.Э. Циолковский не просто использует концепцию атомистического строения вещества, но предполагает новые грани ее понимания, существа. Прежде всего, он понимает атом как чувствующую единицу, бессмертную, способную к восстановлению. По поводу этого он пишет: «Жизнь атома субъективна, непрерывна, безначальна и бесконечна, так как все его частные жизни сливаются в одну. Каждая из частных жизней представляется в виде волны в бесконечном ряде волн» [103, с.49]. Он, в сущности, трактует существование атома как вечно реинкарнирующей единицы: «... материя перемешивается, периодически преобразуется, всякий атом бесчисленное множество раз, хоть и через громадные промежутки времени, принимает участие в жизни» [103, с. 53]. Но нет ли еще какого-нибудь другого вещества, - вопрошает Циолковский. «Есть ли у нас такое вещество - малопостижимый светоносный эфир, заполняющий все пространство между солнцами и делающий материю и вселенную непрерывной» [103, с. 81]. Это - полевая материя.
Настоящая жизнь атомов, по Циолковскому, возможна лишь в высших, сознательных существах, при этом «мозговые атомы» стремятся отталкиваться от «низких форм» телесного воплощения. Более того, гарантией достижения бессмертного блаженства для таких «высших» атомов служит уничтожение в масштабах Земли и космоса несовершенных форм жизни, подверженных страданию. Таково приложение принципа «разумного эгоизма» (Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский и др.) к «научной этике» К.Э. Циолковского. Иными словами, как и у Н.Ф. Федорова, у К.Э. Циолковского разумная преобразовательная деятельность выступает важнейшим фактором эволюции, призванным вести весь мир к большему совершенствованию и гармонии. Обоих мыслителей сближает также идея неизбежности выхода человека в космос. При этом Федоров в пользу идеи выдвигал истощение земных ресурсов при все большем умножении численности населения, угасание Солнца, невозможность достичь полной регуляции лишь в пределах Земли, зависящей от Космоса,

 176
который также изнашивается, сгорает.
По Федорову, в пределах Вселенной
должны существовать новые «земли»,
подобные нашей Земле, где в новых
«небесных обителях» могут благополучно
существовать воскрешенные поколения;
одним из аргументов в пользу выхода в
космос является
вероятность локальных космических
катастроф. Циолковский в отличие
от Федорова больше внимания уделяет не
тому, зачем нужен выход и почему это
неизбежно с философской точки зрения,
а как это осуществить с технической
точки зрения. Безусловно, Федоров
гуманнее в своих проектах
- он мечтает о жизни всех без исключения
поколений землян, Циолковский
же говорит лишь об отселектированных
людях будущего. Оба мыслителя акцентируют
внимание на «неотвратимости земного
финала» и, с соответственно,
вынужденности преобразования вначале
Солнечной
системы, а затем и дальнего космоса; но
отсюда следует, что отказ от
обладания небесным пространством
означал бы отказ вообще от существования
человечества. Поэтому оба считают
безнравственным и даже
преступным «сложить руки и застыть в
страдальческом созерцании постепенного
разрушения нашего жилища и кладбища»
[413, с. 385].
176
который также изнашивается, сгорает.
По Федорову, в пределах Вселенной
должны существовать новые «земли»,
подобные нашей Земле, где в новых
«небесных обителях» могут благополучно
существовать воскрешенные поколения;
одним из аргументов в пользу выхода в
космос является
вероятность локальных космических
катастроф. Циолковский в отличие
от Федорова больше внимания уделяет не
тому, зачем нужен выход и почему это
неизбежно с философской точки зрения,
а как это осуществить с технической
точки зрения. Безусловно, Федоров
гуманнее в своих проектах
- он мечтает о жизни всех без исключения
поколений землян, Циолковский
же говорит лишь об отселектированных
людях будущего. Оба мыслителя акцентируют
внимание на «неотвратимости земного
финала» и, с соответственно,
вынужденности преобразования вначале
Солнечной
системы, а затем и дальнего космоса; но
отсюда следует, что отказ от
обладания небесным пространством
означал бы отказ вообще от существования
человечества. Поэтому оба считают
безнравственным и даже
преступным «сложить руки и застыть в
страдальческом созерцании постепенного
разрушения нашего жилища и кладбища»
[413, с. 385].
Стремление человека, отринув земные заботы и тяготение, подняться к небу, этот «горний» энтузиазм идет от многочисленных и художественных образов и ремесленнических попыток на протяжении всей истории человечества и России. Но именно Россия первой проникнет в «околоземное пространство» (Федоров) и построит «заатмосферные колонии» (Циолковский). Уяснив великое значение космических идей Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковский, однако, видел космическую перспективу человеческого общества значительно точнее и конкретнее как в силу своего характера и общего склада личности, так и за счет знания техники и научных достижений своего времени и возможностей, которые открыла новейшая революция в естествознании на рубеже XIX-XX веков.
«Сначала неизбежно идут: мысль, фантазии, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже в конце концов исполнение венчает мысль»
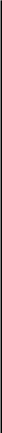 [434,
с. 3]. Именно этой последовательности -
от мысли к научному расчету
- посвящена его жизнь. Он технически
обосновывает ракету как пока единственный
целесообразный снаряд для космических
путешествий, он сделал расчет её скорости
в невесомости, что казалось «безумством»
в инженерно-технических
науках того времени. Более того, во время
жизни Циолковского
весьма распространены были в полном
соответствии со вторым законом
термодинамики жизни во Вселенной, о
возможной вечности
творческой активности ее разумных
элементов шли вразрез с общепринятыми
взглядами. К.Э. Циолковский же поддерживал
мысль Федорова о возможности победы
над «разъединяющим пространством» и
«всепоглощающим временем».
[434,
с. 3]. Именно этой последовательности -
от мысли к научному расчету
- посвящена его жизнь. Он технически
обосновывает ракету как пока единственный
целесообразный снаряд для космических
путешествий, он сделал расчет её скорости
в невесомости, что казалось «безумством»
в инженерно-технических
науках того времени. Более того, во время
жизни Циолковского
весьма распространены были в полном
соответствии со вторым законом
термодинамики жизни во Вселенной, о
возможной вечности
творческой активности ее разумных
элементов шли вразрез с общепринятыми
взглядами. К.Э. Циолковский же поддерживал
мысль Федорова о возможности победы
над «разъединяющим пространством» и
«всепоглощающим временем».
Лишь космос может считаться бесконечным и неисчерпаемым в своих энергетических, материальных и информационных ресурсах. Но и человек для космоса должен быть другим: долгоживущим, если не бессмертным, с радикально трансформированным организмом, с иными «мозговыми структурами» (термин В.И. Вернадского). То есть человек должен стать более высоким по эволюционному развитию в сравнении с ныне живущим родом человеческим. Более того, бессмертному «мозговому атому» важно попадать именно в совершенные долгоживу-щие и бессмертные организмы для большего индивидуально осознанного и ощущаемого блаженства. Сам К.Э. Циолковский чувствовал жесточайший из контрастов бытия - между желанием жить и угасанием жизни. Вот как об этом свидетельствовал А.Л. Чижевский: «Разве это не ужас? Разве это не преступление против человека? Я не устал, я хочу жить, а тело отказывается мне повиноваться. Значит, пресловутая медицина еще не наука - она не умеет лечить старость» [348, с. 262]. То, что космическое будущее требует радикального прогресса в самой телесной организации, в том числе продолжительности жизни, было для К.Э. Циолковского аксиомой. Как мы отметили выше, он даже предлагал модель автотрофного
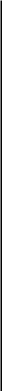
 178
существа на основе замкнутого цикла
процессов обмена, своего рода
178
существа на основе замкнутого цикла
процессов обмена, своего рода
«биологического вечного двигателя».
Многое привлекательно во взглядах К.Э. Циолковского, однако в его эволюционирующем космосе отсутствует личность - основная ценность истории с ее любовью, добром, истиной, благом, противоречиями, борьбой, слезами и грезами, упоением и восторгом, страхом и надеждой.
Как почти все космисты, К.Э. Циолковский не считал человека венцом творения, остро переживал его несовершенную, промежуточную, кризисную природу. Человек имеет бездну физических, умственных и социальных недостатков и не должен оставаться с тем, что он имеет, считает К.Э. Циолковский, веруя в возможность действительного преобразования человеческого тела «путем упражнения, подбора, скрещивания, операций и подобных им способов. В сущности, человек не имеет ни одного совершенного и безукоризненного органа» [434, с. 302]. Но будущие люди - «совершенные» - видятся Циолковскому «подобно богам разных степеней» [434, с. 307].
Онтологические основания своей «космической этики» Циолковский связывает с убеждением в позитивности Вселенной в целом: она не содержит «горести и безумия» [103, с. 62], космос не порождает «зло или заблуждение», он - источник «разума и счастья всего сущего» [103, с. 67], «его причина - всеобщая любовь» [103, с. 68]. Человек недостаточно нравственен, ибо его «животные наклонности сильнее», а «ум не может их одолеть» [103, с. 41]. Меж тем, «человечеству предстоит в этот невообразимый период идти вперед и прогрессировать - в отношении тела, ума, нравственности, познания и технического могущества. Впереди его ждет нечто блестящее, невообразимое» [103, с. 77].
Безусловно, философские взгляды Циолковского содержат противоречия: явная декларация своей материалистической ориентации и развития идеи живого, чувствительного атома, весьма удаленно напоми-
 179
нающего атомы вещества с точки зрения
физики. Материализму противоречит
использование заимствованной из буддизма
идеи реинкарнации. Безусловным
противоречием является общая
гуманистическая направленность
философии Циолковского с возможностью
грубого вмешательства
в природу человека в угоду «высшей
задаче» заселения «совершенными
людьми» Вселенной с помощью выбраковки,
а по сути уничтожения
всех несовершенных людских «пород».
Указанные противоречия,
конечно, не могут принизить значение
идей Циолковского в общетеоретическом
и мировоззренчески-прогностическом
смысле. Циолковский
не просто прогрессист и оптимист, он -
ученый-фантаст, рисующий одну
из увлекательнейших версий будущего
человечества. Не случайно по свидетельству
А.Л. Чижевского, одного из лучших и
талантливых последователей
Циолковского, его «воля к победе
человеческого разума над стихийными
силами природы», - воля, основанная на
твердом знании при его
осуществлении, направленная на «покорение
безграничных сил, пространств
и времен Вселенной» [348, с. 10], «жила и
бурлила в уме и сердце калужского
мечтателя, предвосхитившего за многие
тысячелетия интегральную
волю всего будущего человечества в
целом - жить и во что бы то
ни стало обсеменить разумом весь видимый
и невидимый мир» [348, с. 10].
Уже одно то, что до К.Э. Циолковского
никто не мыслил такими космическими
масштабами, ставит его в разряд «величайших
гениев человечества»,
- считает В. Брюсов.
179
нающего атомы вещества с точки зрения
физики. Материализму противоречит
использование заимствованной из буддизма
идеи реинкарнации. Безусловным
противоречием является общая
гуманистическая направленность
философии Циолковского с возможностью
грубого вмешательства
в природу человека в угоду «высшей
задаче» заселения «совершенными
людьми» Вселенной с помощью выбраковки,
а по сути уничтожения
всех несовершенных людских «пород».
Указанные противоречия,
конечно, не могут принизить значение
идей Циолковского в общетеоретическом
и мировоззренчески-прогностическом
смысле. Циолковский
не просто прогрессист и оптимист, он -
ученый-фантаст, рисующий одну
из увлекательнейших версий будущего
человечества. Не случайно по свидетельству
А.Л. Чижевского, одного из лучших и
талантливых последователей
Циолковского, его «воля к победе
человеческого разума над стихийными
силами природы», - воля, основанная на
твердом знании при его
осуществлении, направленная на «покорение
безграничных сил, пространств
и времен Вселенной» [348, с. 10], «жила и
бурлила в уме и сердце калужского
мечтателя, предвосхитившего за многие
тысячелетия интегральную
волю всего будущего человечества в
целом - жить и во что бы то
ни стало обсеменить разумом весь видимый
и невидимый мир» [348, с. 10].
Уже одно то, что до К.Э. Циолковского
никто не мыслил такими космическими
масштабами, ставит его в разряд «величайших
гениев человечества»,
- считает В. Брюсов.
Мир (космос) у К.Э. Циолковского целостен, он преодолел хаос и эволюционирует через ряд циклических усовершенствований. Как бы ни представлялся мир, он состоит из гигантского, но в принципе исчислимого количества атомов. Атом К.Э. Циолковского есть существо, живая материя. Именно атом подвержен энтропии и негэнтропии. Жизнь и разум наиболее активно противостоят вселенской энтропии. Таким образом, вся материя у К.Э. Циолковского жива и каждый атом несет в себе программу всех своих прежних жизней. Наиболее совершенны атомы, жив-

 180
шие жизнью мозга, это - атомы-духи. Человек
есть тоже совокупность -
180
шие жизнью мозга, это - атомы-духи. Человек
есть тоже совокупность -
«государство» - атомов. Несмотря на всю разумность и активность человека его животные наклонности пока сильнее его духа. В обществе имеет место общественный прогресс в целом, об этом свидетельствуют развитие науки, техники, рост благосостояния. История общества включает четыре эры:
эру рождения гармонической социально-экономической организации,
эру начала активной космической экспансии, эру расцвета, овладения универсальными законами вселенной и, наконец, терминальную эру, которая связана с переходом человека в энергетическое - бессмертное состояние. Этими проектами будущего К.Э. Циолковский продолжает традицию А.В. Сухово-Кобылина и Н.Ф. Федорова. Он пишет о целенаправленном строительстве нового человека, новых форм организации общества, причем во вселенских масштабах. Но этим грандиозным задачам должна соответствовать новая этика -«супраморализм» - «нравственная круговая порука и ответственность», что сближает его со всеми мыслителями второй половины XIX - первой половины XX веков.
Развитие философской мысли данного периода истории России имело одним из оригинальных результатов многообразные интеллектуальные проекты будущего - так называемую космическую футурологию. Средствами философии охватывается вся предшествующая человеческая история в основных вехах и этапах таким образом, что становится видимым и весьма отдаленный ее горизонт от первого объединения человечества в пределах планеты (в работах Л.И. Мечникова) до возможности перехода человека в бестелесное энергетическое состояние (К.Э.Циолковский). При этом несколько нивелируется роль науки и техники, которые в проектах данной плеяды мыслителей перестают рассмат-
 181
риваться
в качестве перспективы и главной цели,
а становятся повседневным,
рядовым средством, служащим упрочению
человеком своего космического
предназначения. Трансформация человека
немыслима без нового сознания,
новой культуры, образования. Правда,
настораживает некоторая императивность
проектов, выдвигаемых, например, К.Э.
Циолковским.
Они, по его мнению, могут осуществляться
и принудительными, и насильственными
методами, что вызывает сомнение в
гуманности его постулатов.
Тем не менее, проанализированные учения
привлекают внимание
оптимизмом, предметностью, новой
духовностью.
181
риваться
в качестве перспективы и главной цели,
а становятся повседневным,
рядовым средством, служащим упрочению
человеком своего космического
предназначения. Трансформация человека
немыслима без нового сознания,
новой культуры, образования. Правда,
настораживает некоторая императивность
проектов, выдвигаемых, например, К.Э.
Циолковским.
Они, по его мнению, могут осуществляться
и принудительными, и насильственными
методами, что вызывает сомнение в
гуманности его постулатов.
Тем не менее, проанализированные учения
привлекают внимание
оптимизмом, предметностью, новой
духовностью.
