
- •XX века как основания современной глобально-экологической пара дигмы мышления 222
- •Введение
- •18 Глава первая
- •33 Глава вторая
- •Антропологического кризиса
- •2.1. Ф.М. Достоевский и л.Н. Толстой: философско-литературные предчувствия глобального антропологического кризиса и модели самосовершенствования личности
- •2.2. В. С. Соловьев об извечном метафизическом противоречии Духа и плоти: синтез Бога и человека или «философия конца»?
- •96 Глава третья
- •3.1. Н.Я.Данилевский, к.Н.Леонтьев и и.А.Ильин о фундаментальных источниках и непосредственных признаках кризиса культуры
- •3.2. П.А.Сорокин: основания и механизмы социокультурной динамики и
- •133 Глава четвертая
- •4.1. Л.И. Мечников о глобальном единстве и перспективах земной истории человечества
- •182 Глава пятая
- •Кризиса XX века
- •5.1. В.И.Вернадский как основатель учения о ноосферном разрешении глобального кризиса во взаимодействии общества и природы
- •5.2. Развитие естественнонаучной составляющей парадигмы мышления русского космизма: нг.Холодный, в.Н.Муравьеву а.Л Чижевский
- •222 Глава шестая
- •XX века как основания современной глобально-экологической парадигмы мышления
- •6.1. Вклад отечественных мыслителей-учёных в формирование представлений о «триаде жизни» и механизмах её существования: э.С. Бауэр. А. Г. Гурвич. Н.В. Тимофеев-Ресовский, н.Ф. Реймерс
- •6.2. Оформление современного комплекса представлений и наук как теоретического основания глобально-экологической парадигмы мышления
2.1. Ф.М. Достоевский и л.Н. Толстой: философско-литературные предчувствия глобального антропологического кризиса и модели самосовершенствования личности
"Космическая гармония неприемлема, если
она игнорирует человеческую судьбу"
(Ф.М. Достоевский)
"Нам никого не должно так опасаться, как самих себя "
(Л..Н. Толстой)
Большое художественное наследие Ф.М. Достоевского оценивается до сих пор весьма неоднозначно в литературоведческой и философской, в зарубежной и отечественной литературе. Неоднозначность оценок идейно-художественного наследия великого писателя объясняется своеобразием и сложностью его творчества.
В своих работах отечественные исследователи В.Г.Безносов, В.Н.Белопольский, И.Л.Волгин, Ю.Н.Давыдов, А.С.Долин,
А.А.Иванова, Ю.Ф.Карякин, П.П.Косенко, Ю.Г.Кудрявцев,
М.А.Маслин, К.В.Мочульский, Д.Пачини, Г.Г.Россош, Ю.И.Селезнев, А.Д.Сухов, В.Н.Шердаков и многие другие философско-
36 мировоззренческое ядро взглядов писателя определяют как антропологическое, антропософское. Во многом эта оценка справедлива. Более того, именно она позволила найти в творчестве Ф.М. Достоевского много созвучий и обращений ко времени, завершающему XX век.
Творчество Ф.М. Достоевского условно подразделяют на досибир-ский (до ссылки), сибирский и послесибирский периоды. Уже первые произведения Ф.М. Достоевского в досибирский период (1840-1850 г.г.) отмечены четким стремлением отыскать человеческое в человеке. Человек, его природа и суть - вот главная забота и предмет раздумий Ф.М. Достоевского. Писатель признавал роль социального в человеке, но не видел возможности упрощать отношения до перекладывания всей ответственности только на общество. Писатель полагает, что духовный мир человека не сводится лишь к сознательному, - он шире сознания и нельзя познать его одним умом. Ум без сердца и чувства - беден и бледен. Человек сложнее разума и логики.
Сибирский период творчества (1850-1859 г.г.) отмечен интересом к роли асоциального в человеческой личности, к соотношению естественного и наносного в нем, к тому, что есть человек, и чем он кажется. Проблема «быть и казаться» - одна из существенных экзистенциальных проблем, которую своей художественной антропологией предвосхитил Ф.М. Достоевский.
Послесибирский период (1859-1881 г.г.) - время, когда писатель все чаще ставит перед собой и обществом философские проблемы. И не важно, что форма его философских исканий литературная. Важно содержание и масштаб вопросов. На страницах журнала «Время», издаваемого Михаилом и Федором Достоевскими, постоянно появлялись понятия «почва», «вернуться на родную почву», «почвенная сила», «беспочвенный» - понятия, определяющие основание новой общественно-политической идеи «почвенничества».
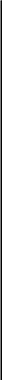 37
37
Философия всегда интересовала Ф.М. Достоевского. Еще в 1838 году семнадцатилетний Федор в письме к брату выразил свое кредо, где пишет, что человек есть тайна, ее надо разгадать, и если будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время.
В послесибирском периоде творчества Ф.М. Достоевского следует отметить прежде всего философские грани антропологии: его герои постоянно, смятенно ищут смысла жизни своей и жизни как таковой - в ми-ре. Достоевскому близки альтруисты, которые убеждены, что сама их жизнь только тогда и имеет смысл, когда она служит жизни всего мира и всему в этом мире, они готовы пожертвовать собой ради не только целого мира, но и одного человека. Выход из общественного кризиса, который предчувствует писатель, для него брежит через субъективную жертвенность отдельного человека, который безграничен как сам мир (таков князь Мышкин в «Идиоте»).
Человек в «картине мира» Достоевского «чужой» и мгновенно-временный на «пиру жизни». В этом его кредо как писателя и философа. Достоевский не признает фатальной зависимости человека от среды, он верит, что в человеке больше сказывается то, что до среды, т.е. биологическое, иррациональное. Пристальное исследование «эмбриональной области» личностного «бытия - в себе» открыло писателю много бездн человеческого существа. Но для мыслителя не менее важны и самостоятельность мышления, и способность постичь смысл своей жизни и совершать соответствующие ему поступки, наполняющие его судьбу. Предполагая «многосоставность» человека, Достоевский предостерегает от упрощенчества тех, кто надеется лишь на «социальную переделку» человека. Он сомневается, будут ли достигнуты нужные результаты, не принесут ли они вслед за своей «положительностью» гибель человеку, возможны ли какие бы то ни было «переделки» человека вообще? Извне, считает Достоевский, переделать человека невозможно и не нужно, ибо неизвестно, лучше ли будет человек при вмешательстве в его суть [131, Т. ХХV, С. 47].
38
Достоевский был, пожалуй, первым, кто в русской литературе направил луч художественной аналитики на отношения человека и природы, или, точнее, на их трагическое противостояние. Достоевский видит безликую и грозную по сравнению с человеком силу природы и ее красоту, потрясающую человеческую душу.
Чаще всего Достоевский писал городские пейзажи, которые всегда отличались своей замкнутостью, затхлостью, тусклостью. Человек в великом городе сиротлив, он заперт в дворах-колодцах, куда вообще не заглядывает солнце. Не случайно в числе городских символов Достоевского от природы остаются паутина, пауки, плесень, грязь и вонь убогой жизни человека, спрятавшегося (или спрятанного) в каменные джунгли, оторванного от матери-природы.
Достоевский читал и знал «Философию истории» Гегеля, что отразилось, очевидно, наиболее полно в романе «Преступление и наказание». Конечно, Достоевский воспринимал философские идеи иначе, чем философы-специалисты. В своеобразных условиях России кружки, салоны, редакции газет и журналов, а также личные беседы нередко становились подлинной школой философии, и имели большее влияние и значение, чем официальное преподавание философии в университетах. Достоевский умел извлекать из живых бесед - в 40-х годах с Белинским, в 60-х с «почвенниками», в 70-х с Владимиром Соловьевым, - чрезвычайно много ценного для творчества.
На примере Раскольникова Достоевский раскрывает глубинную сторону любой личности и полагает, что это самообман - важный элемент в структуре самосознания, призванный скрыть внутреннюю борьбу мотивов «за» и «против» того или иного поступка (преступления в том числе). Самообман первичен по отношению к обману, лжи, а потому кажется некой правдой. Но самообман есть «медленная подготовка и страшное ускорение самоубийства» [195, с. 115].
39 Произведения Достоевского переполнены больными и
"пограничными" людьми, но и физическая или душевная болезнь, - это внешняя сторона сути - духовной болезни, социальной болезни человека [195, с. 85]. По Достоевскому проклятые идеи и поступки рождаются проклятыми людьми в проклятом обществе. Рознь ползет по всем разрезам общества, не только между людьми, но и внутри человека. Человек неизбежно зависим от всего: своей природы, близких и дальних людей, общества, Вселенной.
Для него жизнь есть «целое искусство», жить - значит сделать художественное произведение из самого себя [131, Т. XVIII, с. 13]. В этой словесной формуле заключена его особая эстетика исторического процесса, «эстетика истории». Мир для писателя есть эстетическое местообитание прекрасного, и Достоевский утверждает приоритет художественной гносеологии перед притязаниями научного исследования. Преимущество художественного отражения мировых процессов любого масштаба он видит в охвате целого через его составляющие, тогда как научное познание по преимуществу сосредоточивается на некой выделенной из целого области, которая обособляется от целого, замыкается «в своей вотчине».
Задачей своего творчества Достоевский полагает борьбу со всякой однозначной телеологией, торопящейся закрыть исторический горизонт будущего образом «главной цели», к которой ведет последняя и единственная дорога. История, утверждает писатель, творится почвенным энтузиазмом народа, и никакие официальные доктрины не в силах противостоять этой «свободе истории».
С 60-х годов в художественные описания Достоевского вплетается идея исторического детерминизма. Намечается основной круг проблем философии истории:
- гносеологическое противоречие между человеческим телом и уникальностью человеческой личности разрешается в идее почвенного единст-
 40
ва национального характера, в виде веры
в «свои собственные национальные
силы»;
40
ва национального характера, в виде веры
в «свои собственные национальные
силы»;
культурная история нации должна быть отделена от искажающих ее подлинную народность «цивилизаторских избытков прогресса» [131, T.V,c. 61];
исторически актуальна та идея, которая органически вырастает в живом процессе социального развития. В этом смысле, согласно Достоевскому, всякого рода теоретическая рецептура от социалистов-утопистов до славянофилов обречена потому, что она есть насилие формы над самой жизнью.
В западной философии истории, против которой восстает Достоевский, основой является логика вывода и итога - история народов расценена не в категориях прогресса и преемственности, а в категориях завещания и наследства. Ссылаясь на Н.Я. Данилевского, он замечает, что евреи жили лишь для того, чтобы дождаться Бога истинного, и оставили миру свою религию, греки боготворили природу и завещали миру свою религию, т.е. философию и искусство; Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство [131, Т. X, с. 199]. Протест против такого понимания обусловлен не только панславянскими симпатиями Достоевского, но и стремлением противопоставить идеологическому захолустью Западной Европы (с ее парадигмой «католицизм - социализм -атеизм») идею русского народа-богоносца, исторически призванного вывести мир из тупика. По оценке Достоевского, квазиисторические формы западной государственности и религии (деспотизм и католицизм) стали предметом всеобщего исторического соблазна. Соответственно и культуртрегерство Петра I, прогрессивное в своих истоках, имеет следствием разрыв образованного меньшинства и «почвы», а итогом становится нигилистическое отношение русских ко всему русскому, ненависть к своему этносу и истории, - как вид ностальгии по утраченной национальной целостности [131, Т. X, с. 373]. По Достоевскому, свобода от нации и исто-
 41
рии равна свободе от красоты, от Бога и
от самой жизни [131, Т. X,
с. 94;
41
рии равна свободе от красоты, от Бога и
от самой жизни [131, Т. X,
с. 94;
373]. Исторические ошибки нации, полагает он, коренятся в исторической амнезии ее идеологов. В контексте проблемы личности это означало разрыв между национальным характером и национальным самосознанием; свидетельства тому усмотрены им как в беспочвенном романтизме декабристов, так и в славянофильской апологии допетровской Руси и в новейшем либерализме.
В романе «Бесы» писатель вскрыл многие формы зла, маскирующиеся под передовые идеи своего времени, как то: пьянство, сплетни, донос, разврат, полное послушание и полная безличность, судорога, когда не грех срезать «сто миллионов голов» [131, Т. X, с. 323]. Достоевский почувствовал опасность распространявшегося в революционном движении микроба-антропофага. Автор «Бесов» обнаружил ту нравственную наклонную, по которой человек совершено незаметно для себя может «соскальзывать» к крайним формам аморализма и человеконенавистничества, когда в обществе может быть продекларировано презрение к самоценности человеческой жизни.
Ф.М. Достоевский моделирует и пути борьбы со злом, - с пошлостью, буржуазностью, - за возвращение к общечеловеческим идеалам и нравственным ценностям. Главное преодолеть «беса неверия в добро» человеческое.
Всем своим творчеством Ф.М. Достоевский не только отражал различные грани разверзающейся социальной беды, но и отыскивал ненасильственный путь к ненасильственному миру, несмотря на то, что «законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке», он ощущал «опасность в душе человеческой»[131, Т. XXV, с. 201]. «Непрерывное воспроизводство духовно нравственной культуры» учителей в учениках, «нравственное самосовершенствование» будет залогом, условием и «средством излечения общественных недугов» [225, С. 324].
\
 42
В идеале «положительной красоты» Ф.М.
Достоевского содержится
42
В идеале «положительной красоты» Ф.М.
Достоевского содержится
гениальная идея приоритета духовной красоты человека, его гармонии с самим собой, и через эту гармонию человеку представится красота мира, природы, миропорядка. В этом глубокий метафизический смысл проблемы самого человека, его природы, в этом возможность разрешения его противоречий и раздвоенности. Достоевский полагает, что «лишь одному только русскому духу дана всемирность, дано назначение в будущем постигнуть и объединить все многоразличия национальностей и снять все противоречия их» [131, Т. XXV, с. 199]. Но это может быть осуществлено либо «путем правильного внутреннего развития» и «всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия» [131, Т. XXVI, с. 131], либо будет «куплено» «ценой потоков крови и гибели многих поколений» [131, Т. XXVI, с. 131]. Однако «наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей» [131, Т. XXVI, с. 147]. Тем самым истина спасения, по Достоевскому, может быть коллективной, бескорыстной и планетарной (глобальной - скажем теперь), одновременно это будет спасением и для биосферы и для планеты в целом.
«Бесы» - самое набатное, по словам Ю.Ф. Корякина, предупреждение о реальном апокалипсисе и призыв противостоять всякой бесовщине, которая еще плотнее опутывает пространство XX столетия - гитлеризмом и сталинщиной, полпотовщиной и «великой культурной революцией» [195, с. 241]. Одновременно это оптимистическое произведение, написанное с единственной целью разбудить человеческую совесть, достоинство и честь, жажду «самовыделки» [195, с. 271]. Сам мир, по Достоевскому, зависит от человечества, от отдельного человека [195, с. 284], д человеку способно помочь искусство, отыскивающее в человеке человека [195, с. 287]. -
 43
Подлинно философско-исторического
энциклопедизма достигает Достоевский
в романе «Братья Карамазовы», где
обсуждаются три комплекса проблем:
43
Подлинно философско-исторического
энциклопедизма достигает Достоевский
в романе «Братья Карамазовы», где
обсуждаются три комплекса проблем:
судьбы культуры и цивилизации в борьбе православия и католицизма и в перспективе будущей соборности христианского человечества;
личности в поединке с внутренним и внешним хаосом за историческую осмысленность существования;
- творчества истории как эстетической по природе деятельности. Философско-исторический анализ современности и философия исто рии находятся в известном противоречии с тем «реализмом в высшем смысле», которым писатель определяет гуманистический пафос своего творчества. Достоевский - открытый противник теорий исторического прогресса.
Предъявляя миру (преимущественно социальному) свое несогласие, Достоевский видит, что «все происходит совсем несоразмерно и непропорционально будущему» [131, Т. XXI, с. 77]. Как может возникнуть «будущее», если «сегодня» разъято асимметрией личности и социума, «среды» и истории, науки и веры, знания и надежды, религии и анализа, разума и чувства, красоты и фальши. Сегодняшняя нравственность «разъедена ржой» обмана, авантюры и тирании, а сам Великий инквизитор, добровольно служа дьяволу, именует их чудом, тайной и авторитетом. В них как бы «совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле» [131, Т. XIV, с. 230]. Тяга к единению людей обрезает антиномич-ные формы. Так великие завоеватели, «стремясь завоевать вселенную», бессознательно выразили «великую потребность человечества к всемирному и всеобщему единению» [131, Т. XIV, с. 235]. Но современность не оставляет места для иллюзий и он пишет: «Польская война есть война двух христианств - это начало будущей войны православия с католичест-
 44
вом,
другими словами - славянского гения с
европейской цивилизацией»
44
вом,
другими словами - славянского гения с
европейской цивилизацией»
[131, Т. XX, с. 170].
Писатель полагал, что, вероятно, переиграны все формы борьбы со злом - от бунта до терпения.
Отказ Л.Н. Толстого применить насилие к насильнику Достоевский называя «извращением понятий», «тупейшим и грубейшим сентимен-тальничанием», «исступленной прямолинейностью», «самым полным извращением природы» [131, Т. XXV, с. 222]. По его мнению, зло возможно поразить только ненасильственным злом.
Достоевский опасался проекций в отдаленное будущее, но тем не менее считал, что будущее есть зреющее сегодня. И он конструирует будущее по «нравственно-человеческим мерам» веры, любви и «ненасильственного единения людей» [131, Т. XV, с. 235]. Только Достоевский обладал гением увидеть целостность будущего человечества через душу человека [195, с. 39]. Его рецепты спасения просты до элементарности, но будучи пережитыми и выстраданными, эти «общие места» оказываются вдруг «обжигающим откровением, прожигающим сердце» [195, с. 105].
Неизбежные встречи со смертью многое открывают в жизни и творчестве человека. Помилование 22 декабря 1849 года дало ощущение дара счастья, несмотря на все последующие потери и беды. Он был там и вернулся оттуда, открыв бесконечную ценность жизни живой; "его встречи (многие десятки) со смертью почти за тридцать лет заставили все вопросы ставить предельно остро как неотложные, «последние вопросы жизни и смерти всего человечества». Отсюда - провидчество Ф.М. Достоевского. Жизнь Достоевского - череда «малых» личных апокалипсисов, в которых он надсознанием своим догадался о том, что и человечеству грозит встреча со смертью, Яишь в конце XX века все заговорили об омнициде. Зеркалом, в котором Ф.М. Достоевский увидел грядущее, стала величественная трагедия его личной и творческой судьбы. И он знал рецепт личного и
 45
всечеловеческого спасения -«быть
человеком между людьми и остаться
45
всечеловеческого спасения -«быть
человеком между людьми и остаться
им навсегда, в каких бы то ни было несчастиях, не уныть и не пасть - вот
в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это» [131, Т. XXVIII, Кн. 1, с. 181].
Сделаться новым человеком нельзя разом, «надо выделаться в человека» [131, Т. XXV, с. 47]. Достоевский желал, чтобы все вошли в «Новый род людей», а не одни «избранные» и чтобы вошли они в этот «новый род» здесь, на земле. Механизм «выделки» один - труд, сознательное «вытравливание» самообмана. Это относил писатель и к самому себе: «Я перерожусь к лучшему» [131, Т. XXVIII, Кн. 1,с. 164]. «Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла» [131, Т. XXVIII, Кн. П,с. 235].
Более ста лет назад Ф.М. Достоевский задал вопрос: «Увеличилась ли сумма счастья в человеческой жизни равномерно с развитием господства человека над природой, возможного для него при теперешнем развитии естественных наук?» - и отвечал на него отрицательно [131, Т. XIV, с. 240]. В «Легенде о Великом Инквизиторе» («Братья Карамазовы») он последовательно развивает идею неуемной человеческой жажды материальных благ. А источник материальных ресурсов, как известно, - окружающая природная среда, и человек-эгоист обращается с ней абсолютно бесцеремонно. Покоряя «уже без границ природу волею и наукой» [131, Т. XIV, с. 241], человек исполнился великой гордости, ощутив себя челове-кобогом. И уже сама мысль о безграничных возможностях приводит к преклонению перед самим собой, перед своими желаниями, ради удовлетворения которых можно пойти даже на преступление, ибо нет ничего на свете выше человека, которому «все позволено». Тем самым, Достоевский предугадал некоторые острейшие проблемы нашего времени, связанные с бесконтрольной эксплуатацией природных богатств и разрушением биосферы. Но выводы эти он делал не из анализа факторов преобразующей деятельности технической цивилизации, не из роли естествознания и хода прогресса в раскрытии тайн природы, а из гениальной интуитивно-художественной способности постичь душу человека. Трагический финал
 46
технической
цивилизации он выводил, прежде всего,
из потери веры в Бога,
из потери человеком человеческого
облика.
46
технической
цивилизации он выводил, прежде всего,
из потери веры в Бога,
из потери человеком человеческого
облика.
По Достоевскому, «бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие» [131, Т. XXIV, с. 240], но подобное относится и к человечеству, оно только начинает быть именно потому, что ему грозит небытие, полная утрата будущего.
В своих сочинениях Достоевский постоянно использует метод мысленного эксперимента, ставя перед своими героями трудноразрешимые задачи. При этом человеческая личность выступает не просто как микрокосм, но и как равноправный партнер окружающей природы, вселенского Ра-
с
зума: «комическая гармония неприемлема, если она игнорирует индивидуальную судьбу» [131, Т. XIV, с. 232]. В сущности, Достоевский жаждет гармонии везде и всюду, гармонии для всех и для каждого.
Однако в естествознании принято считать Вселенную совершенно чуждой человеку, существующей как бы вне его и без него по каким-то непреложным, невесть кем и зачем установленным законам. Существование человека в таком мире оказывается бессмысленным: «Ну, пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы вместо меня вечно, тогда может быть, я все же был бы утешен. Но ведь планета наша не вечна, и человечеству срок - такой же миг, как и мне. И как бы разумно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, - все это тоже приравняется завтра к тому же нулю. И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там всесильным, вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное и тем более невыносимое, что нет никого виноватого» [131, Т. XIV , с. 234].
С точки зрения космистов такая позиция недопустима. Космисты материалистической направленности полагают, что знания законов природы увеличивают возможности людей, позволяют продолжить строитель-
 47
ство
космического порядка, как бы дополняя
вселенский Разум человеческим.
Космисты идеалистической направленности
подчеркивают значение
познания природы для того, чтобы полнее
и глубже ощущать сопричастность
к Разуму. А у Достоевского получается
так, будто знания законов
природы только и нужно человеку ради
желания действовать им наперекор.
Выходит, что человек в своей гордыне
выступает против божественных
установлений, против гармонии вселенной,
против высших мудростей
всемирного Разума. Выходит и другое:
как ни старайся человек, а он обречен
на осознание своего ничтожества перед
извечным космосом
и против природно-вселенской неизбежности
способен лишь на жалкий
бунт.
47
ство
космического порядка, как бы дополняя
вселенский Разум человеческим.
Космисты идеалистической направленности
подчеркивают значение
познания природы для того, чтобы полнее
и глубже ощущать сопричастность
к Разуму. А у Достоевского получается
так, будто знания законов
природы только и нужно человеку ради
желания действовать им наперекор.
Выходит, что человек в своей гордыне
выступает против божественных
установлений, против гармонии вселенной,
против высших мудростей
всемирного Разума. Выходит и другое:
как ни старайся человек, а он обречен
на осознание своего ничтожества перед
извечным космосом
и против природно-вселенской неизбежности
способен лишь на жалкий
бунт.
Достоевский проводит и такой мысленный эксперимент: что было бы, если бы люди удовлетворили все свои материальные потребности и зажили в сытости и довольстве, то стали бы они размышлять о всеобщих явлениях, о смысле жизни и своем предназначении? И отвечает себе, что люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них украл разум: что исчез человеческий лик, и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою разницей, что скотина не знает, что она скотина, а человек знал бы, что он стал скотиной. И загнило бы человечество.
Допустим, что покоритель природы возомнит себя человекобогом, но его безмерное всемогущество еще не наступило. Однако уже сейчас можно действовать так, как удобнее, выгоднее, полезнее, и свобода снова обернется загниванием человечества, ибо человек не отступит от утоления слепой плотоядной жажды личного материального обеспечения и обогащения. Глубоко прав Достоевский, ибо многое из того, что мы именуем ныне глобальными проблемами современности - истощение природных ресурсов, разрушение биосферы, загрязнение среды - осуществляется ради неумеренного потребления.
\
 48
Проявляя
пристальное внимание к науке своего
времени, Достоевский
48
Проявляя
пристальное внимание к науке своего
времени, Достоевский
опасался за ее последующее развитие. Наука сегодняшняя практически стала «непосредственной разрушительной силой»; она в этих условиях должна с опережением развивать представления о самой себе и последствиях открытий, ее призвание - функционировать в сферах бытия, а не в сферах небытия, где ее попросту не будет.
Как же решает Достоевский трагические противоречия между свободой человека и неумолимостью законов природы, между человеческим разумом и порядком Вселенной, между благосостоянием и творческими дерзаниями культуры?
Только уповая на самоустроение личности, ее нравственный остов, который способен развиваться и соответствовать человеческому призванию и предназначению. «Добры, честны, едины» - вот главное, что может в конечном счете сказаться и на мировом порядке, ведь в мироздании ничего не исчезает бесследно. Достоевский прав и в том, что покорять надо не породившую нас природу, а собственные низкие страсти и пороки.
Согласно Достоевскому, конец света возможен, но не с небес, не сверху, а снизу, от деформированной личности и ее деяний. Скрупулезное исследование человеческих судеб своих героев позволило ему моделировать судьбу человечества.
История очень часто рассматривается как история войн; главные войны связаны между собой: война людей против людей приводит к эскалации войны против природы, но вместе они - следствие войны человека против самого себя. Гонка потребления природы оборачивается гонкой истребления человека.
Творчество Ф.М. Достоевского можно расценивать как наиболее раннюю диагностику современного кризиса, именно она позволила возвести писателю евангельский императив «не убий человека» до императива «не убий человечество».
49
Итак, гносеология Достоевского как идея непосредственного познания, эстетика, призывающая художника к открытию исторической истины как самоцельной нравственной правды о человеке, теория жизни с эстетическим самооправданием страдания, философия истории с причудливым синтезом неославянского мессианства и утопической конфессиональной соборности человечества, - грандиозные проекты Ф.М. Достоевского.
Гуманизм писателя отринул почву упрощенной евагелической антропологии, мирового альтруизма и наивного интуитивизма, чтобы войти в состав философско-исторического мышления последующих поколений во всей полноте своего трагического оптимизма.
Развернувшийся в нашем веке кризис гуманизма, который провидчески предсказывал Достоевский, есть результат небывалого размаха той страшной противоречивости, что несет в себе человек. Достоевский пытался найти «человеческую мерку», которая осознается и провозглашается в действии такой общности как «человечество», но за абсолют может быть взят идеал, стоящий выше человека, и только в проекте.
Во взглядах Ф.М. Достоевского, таким образом, отчетливо фиксируется «трагический кризис» человека и природы, причины которого коренятся в четырех человеческих основаниях: потере веры в Бога, утрате человеческого в человеке, упрочении материализма и безудержной погоне за техническими новшествами. Сутью складывающегося кризиса является возникновение иллюзии о превращении человека в «человекобога» со всеми максимами возможностей в его деятельности. Достоевский предостерегает о гибельности процесса покорения природы волею и наукой. Позитивный выход из создавшейся ситуации видится ему лишь в самом человеке - в самоустроении личности и развитии человеческого призвания и предназначения.
Тем самым, Ф.М. Достоевский одним из первых предугадал некоторые острейшие проблемы нашего времени, обусловленные распадом личност-
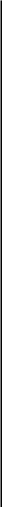 50
ного
ядра в человеке и проявляющиеся эскалацией
вторжений человека в
50
ного
ядра в человеке и проявляющиеся эскалацией
вторжений человека в
природную целостность, нарушением естественной связи человеческого и природного в мире.
Согласно Ф.М. Достоевскому, от человека зависит не только его судьба, - весь мир, Вселенная. Даже при самых наихудших условиях, при нарастающей угрозе небытия следует решать задачу спасения бытия через спасение человеческой души. Однако эта задача не была главной в парадигме мышления и поведения прошлых времен. Из 30-40 тысяч лет человеческой истории мирных было не более 300 лет! А XX век «преуспел» в реализации данной парадигмы и потому именно в конце трагического столетия каждая крупица исторического опыта миролюбия бесценна, их следует вспоминать, оживить, преувеличить как светлые моменты истории человечества [195, с. 467].
К таким «крупицам» общемирового масштаба, бесспорно, относится философско-художественное наследие великого писателя России Л.Н.Толстого. Сегодняшняя Россия также испытывает потребность в новом обращении к идеям Л.Н. Толстого и более внимательном прочтении его этических заповедей, позволяющих осмыслить надвигающийся глобально-антропологический кризис, тем более, что человек XX века проявляет себя агрессором и по отношению к природе.
Отно-гносеологические основания этики Л.Н. Толстого - его взгляды на мир, человека, его самопознание и поиски смысла жизни. Концепция Л.Н. Толстого бытийственна. Мир представлен «тремя отдельными друг от друга планами:
разумные существа;
животные и растения;
неживое вещество» [402, Т. XVII, с. 53].
Жизнь происходит «от игры физических и механических сил» [402, T.XVII, с. 13]. «Изучение законов, управляющих существованием животных, растений и веществ, не только полезно, но необходимо для уяснения
 51
закона жизни человека», оно целесообразно
«только тогда, когда изучение
это имеет целью главный предмет познания
человеческого: уяснения закона
разума» [402, Т. XVII,
с. 47].
51
закона жизни человека», оно целесообразно
«только тогда, когда изучение
это имеет целью главный предмет познания
человеческого: уяснения закона
разума» [402, Т. XVII,
с. 47].
Вообще «у всякого предмета столько же сторон, сколько радиусов в шаре, т.е. без числа» [402, T.XVII, с. 16].
Л.Н. Толстой останавливает внимание на различии опытных, гуманитарных наук, специфике философии, их недостатках. Разум, очевидно, сложный предмет для науки. Человек обладает разумом, который неразрывен с бытием, жизнью. Бытие, наполненное разумом, разум, наполненный бытием, приобретают многогранность, целостность, этическую определенность. Человек обладает только ему свойственным отношением к миру, при этом он в постоянном поиске истины (смысла своего бытия в мире). Истину не дали ни религия, ни наука, ни философия. Надежды Л.Н. Толстого отданы нравственности. Люди, принадлежащие разумному бытию, должны быть едины и нравственны. Несмотря на все грандиозные достижения точные и ясные знания опытной науки «обратно пропорциональны их приложимости к вопросам жизни...» [402, Т. XVI, с. 123]. Науки юридические, социальные, исторические пытаются разрешить вопросы жизни всего человечества; эти «полу-науки» «еще более исполненные неясностей, неточностей, глупостей, противоречий», т.е. обмана [402, Т. XVI, с. 123]. «Идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волею ли называет философ сущность жизни, находящуюся во мне и во всем существующем, философ говорит одно, что эта сущность есть и что я есть та же сущность...» [402, Т. XVI, с. 126]. Но зачем быть этой сущности он не знает ... [402, Т. XVI, с. 127]. Толстой не разделяет безрассудной веры в то, что человечество будет спасено наукой, называет это вредным суеверием. Наука имеет огромные достижения, но это результат реализации «ее стремления производить так много и легко, что все потребности легко будут удовлетворены, и люди тогда будут счастливы» [402, Т. XVII, с. 18].
 52
Этогпуть
- путь внешнего изучения и удовлетворения
потребностей человека не решает
вопроса главного и единственного о
смысле жизни.
52
Этогпуть
- путь внешнего изучения и удовлетворения
потребностей человека не решает
вопроса главного и единственного о
смысле жизни.
Строгое отношение Л.Н.Толстого к науке не означает его антисциентизма, ведь категория разума в его мировоззрении центральна. Я понял, что «ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там в вере - ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни» [402, Т. XVI, с. 139].
Непосредственная жизнь писателя в искусстве привела его к выводам, что оно есть «украшение жизни», «заманка к жизни», «отражения жизни всякого рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства»; но «когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна, - игра в зеркальце не могла уже забавлять меня» [402, Т. XVI, с. 120].
На основе общих онтологических воззрений о мире Л.Н. Толстой полагает, что человек заключает в себе три предмета познания:
разумное сознание;
животное, подчиненное разумному сознанию;
вещество, подчиненное животному [402, Т. XVII, с. 53]. Человек полагает, что знает первый предмет, а его тело и вещество
«существуют сами по себе» [402, T.XVII, с. 54]. В науке бытуют убеждения, что если «законы животных проще, чем законы жизни человека, а законы растений еще проще, а законы вещества еще проще, то и исследования надо основывать на самом простом - на законах вещества», следовательно, «все то, что происходит в человеке» может быть «прояснено опытами на мертвом веществе» [402, Т. XVII, с. 45-46].
Сложная структура человеческой личности в изображении Толстого неизменно привлекает к себе внимание уже более столетия. Ему было свойственно глубокое изучение тайн души человеческой, стремление дойти до «корня», до его первичной основы и отделить ее от вторичных и побочных образований. Толстой искал истоки человеческих поступков в
 53
естественном состоянии человека,
взвешивал побуждения, стремления,
53
естественном состоянии человека,
взвешивал побуждения, стремления,
порывы, определяющие человеческое поведение, - и в этом хаосе импульсов старался вычленить из непосредственных истоков натуральных, искренних влечений, вторичные наслоения, явившиеся результатом социальной и бытовой инерции, автоматизма, умственной и духовной лености и слепоты.
Целью живых существ является «сохранение своей личности, сохранение своего вида, воспроизведение себе подобных и борьба за существование, и эта самая воображаемая цель жизни навязывается и человеку». В соответствии с этим в качестве блага человеку навязывается «одно животное существование» [402, Т. XVII, с. 28]. Действительно, «животная личность влечет человека к своему благу» [402, Т. XVII, с. 40], но истинная жизнь человека «начинается только тогда, когда начинается отрицание блага животной личности" [402, Т. XVII, с. 42], когда животная жизнь подчиняется «закону разума» [402, Т. XVII, с. 43]. «Отречение от блага животной личности есть закон жизни человеческой» [402, Т. XVII, с. 61].
«Животное существование неизбежно кончается смертью» [402, Т. XVII, с. 57]. «Человек не знает своей смерти и никогда не может познать ее, она никогда еще не прикасалась к нему, про намерения ее он ничего не знает» [402, Т. XVII, с. 93]. Для животной личности «мысль о будущей смерти есть только перенесение в будущее совершающейся смерти в настоящем» [402, Т. XVII, с. 96].
Природа дает человеку средства к существованию и средства к «наслаждению» [402, Т. XVII, с. 35]. Однако «только человек, постоянно занятый напряженной борьбой с природой для поддерживания своего телесного существования, может верить в то, что исполнение тех бессмысленных дел, которые он называет своим долгом, может быть свойственным ему долгом его жизни» [402, Т. XVII, с. 34]. Все сильнее и сильнее люди усваивают «царствующий взгляд» на мир, помогающий им достигать удовольствий «животной личности» [402, Т. XVII, с. 30].
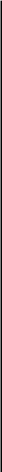 54
«Вся сложная, кипучая деятельность
людей с их торговлей, войнами,
54
«Вся сложная, кипучая деятельность
людей с их торговлей, войнами,
путями сообщения, наукой, искусствами есть большей частью только давка обезумевшей толпы у дверей жизни» [402, Т. XVII, с. 33], но не сама жизнь. Ступенями сознания и жизнепонимания, по Толстому, можно считать: жизнь для удовольствий и потребностей тела (низшая); жизнь для усвоения чужих суждений (невысокая); строительство своей жизни в соответствии с требованиями своей души - духовная жизнь (высшая ступень).
Самонаблюдение, саморефлексия, к которой так склонен был этот великий художник и мыслитель, создали основу для изучения человеческой жизни вообще. Он полагал наличие в душе человека того глубинного слоя, который связан с абсолютной духовностью. Известно требование Толстого о том, что законное рассуждение всегда может и должно начинаться только с себя. В судьбе любого человека огромно влияние самопознания, которое может служить духовному самоусовершенствованию. Это познание особого рода, ибо оно суть самое легкое и тяжкое одновременно: никого не знаешь так, как себя, и ни к кому так трудно не подойти беспристрастно, как к себе самому. Человек одновременно выступает и объектом и субъектом такого рода познания, тем не менее полная истина о себе никому не бывает известна до конца. Но самопознание чрезвычайно важно и для человека и для человечества . Этого рода познание особо чревато ложными мотивами, самообманом, иллюзиями, значит, «нам никого не должно так опасаться, как самих себя». Познавая себя, мы способны понять других людей, принять чужую индивидуальность. Итак, метод психологизма дает возможность Л. Н. Толстому выйти на систему этических императивов.
Самопознание органично включает момент выбора, последний ведет к осмыслению своей судьбы и предназначения. Цель человеческого бытия Толстой видел в нравственном совершенствовании. Это понимание буквально выстрадано самим Л. Н. Толстым под влиянием многих личных коллизий и «экзистенциальных разломов». В юности ему казалось, что
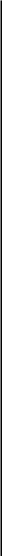 55
главное
- стать независимым от любых внешних
обстоятельств и от собственного
отношения к ним, затем - в совершенствовании
ума, воли, силы
[402, Т. XVI,
с.
109]. Годы сильнейшего кризиса, вызванного
разочарованием
в жизни и всех ее ценностях, страхом
смерти, оцениваются писателем
следующим образом: «Без ужаса, омерзения
и боли сердечной не могу
вспомнить об этих годах. Я убивал людей
на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить,
проигрывал в карты, проедал труды
мужиков, казнил их, блудил,
обманывал. Ложь, воровство, любодеяния
всех родов, пьянство, насилие,
убийство ... Не было преступления, которого
бы я не совершал, и
за все это меня хвалили, считали и считают
мои сверстники сравнительно
нравственным человеком. Так я жил десять
лет» [402, Т. XVI,
с.
110]. «Сорная
трава разросшихся пороков задавила
ростки истинной жизни» [402, Т. XVII,
с. 72].
55
главное
- стать независимым от любых внешних
обстоятельств и от собственного
отношения к ним, затем - в совершенствовании
ума, воли, силы
[402, Т. XVI,
с.
109]. Годы сильнейшего кризиса, вызванного
разочарованием
в жизни и всех ее ценностях, страхом
смерти, оцениваются писателем
следующим образом: «Без ужаса, омерзения
и боли сердечной не могу
вспомнить об этих годах. Я убивал людей
на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить,
проигрывал в карты, проедал труды
мужиков, казнил их, блудил,
обманывал. Ложь, воровство, любодеяния
всех родов, пьянство, насилие,
убийство ... Не было преступления, которого
бы я не совершал, и
за все это меня хвалили, считали и считают
мои сверстники сравнительно
нравственным человеком. Так я жил десять
лет» [402, Т. XVI,
с.
110]. «Сорная
трава разросшихся пороков задавила
ростки истинной жизни» [402, Т. XVII,
с. 72].
Во время поездки в Париж он утвердился в вере в «совершенствование вообще», выражавшейся словом «прогресс» [402, Т. XVI, с. 113]. Обучение детей, издательская деятельность, семейная жизнь, литературное творчество по возвращении в Россию наполнялись идеей совершенствования, но самые важные и глубокие вопросы писатель не мог разрешить: «Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели» [402, Т. XVI, с. 117]. Жизнь стала бессмыслицей и «мысль о самоубийстве пришла мне также естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни» [402, Т. XVI, с. 117]. «Дни и ночи вели меня к смерти, жизнь оказалась жестоким и глупым обманом, невыносимым мучением», - писал Л.Н. Толстой о долгих годах. «Исповедь», «В чем моя вера?», «Царство Божие внутри нас», «О жизни» и другие работы отражают глубочайшие и откровеннейшие интенции мыслителя. Наука, разум, искусство, по мнению Толстого, вообще не могут дать человеку должного представления. Многие миллионы обывателей просто не ставят перед собой вопроса о смысле, так как заняты самим процессом жизни, стремятся лучше устроить жизнь. Он с ужасом оста-
56
навливается перед мыслью о бессмысленности жизни как таковой, но ведь
это подобно остановке жизни вообще. «Все на свете - органическое и неорганическое - все необыкновенно умно устроено, только мое одно положение глупо» [402, Т. XVI, с. 135].
«Не может не видеть человек, что существование его личности от рождения и детства до старости и смерти есть не что иное, как постоянная трата и умаление этой животной личности, кончающееся неизбежной смертью; и потому сознание своей жизни в личности, включающей в себя желание увеличения и неистребимости личности, не может быть не злом, тогда как единственный смысл его жизни есть стремление к благу» [402, Т. XVII, с. 61]. Жизнь невозможно себе представить иначе, как «стремление от зла к благу» [402, Т. XVII, с. 14]. Толстой считает, что в состоянии «животной личности», если человек «желает добра другим, то совсем не так, как себе, - не для того, чтобы было хорошо тому, кому он желает добра, а только для того, чтобы благо других существ увеличивало благо его жизни» [402, Т. XVII, с. 19]. В итоге человек видит, что «жизнь мира, в которой он участвует, составленная из связанных между собой личностей, желающих истребить и съесть одна другую, не только не может быть для него благом, но будет, наверное великим злом» [402, Т. XVII, с. 20]. Не только жизнь тела, как считали в средневековье, есть источник зла, и смерть несет избавление от этого зла [402, Т. XVII, с. 128], но и сама жизнь есть суета и зло: «Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни» -[402, Т. XVI, с. 132]. Таково мнение писателя. Правда, издавна люди нашли выходы из означенного кризиса: в неведении, в эпикурействе, в конформизме с реалиями. Есть еще один выход: «Не нравится тебе жизнь, убей себя!» [402, Т. XVI, с. 136].
Толстой обращается к здравому смыслу, народным традициям простой крестьянской жизни, наполненной малым довольством. «С тех пор как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня»,«они выкопали железо,
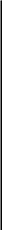
 57
научили рубить лес, приручили коров,
лошадей, научили сеять, научили
57
научили рубить лес, приручили коров,
лошадей, научили сеять, научили
жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И
я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный, их мыслями и словами думающий, доказал им, что они - бессмыслица!» [402, Т. XVI, с. 136]. Писатель понял, что жизни людей, «которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь», он не знает [402, Т. XVI, с. 137]. «Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился ... к тому смыслу, который он придает жизни» [402, Т. XVI, с. 153]. Люди из народа «знали смысл жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро» [402, Т. XVI, с. 146]. В отличие от них Толстой «своей жизнью многообразно убивал жизнь», и это его жизнь была «бессмыслица и зло», а не жизнь человечества, не жизнь вообще. Для жизни нужна вера в существование Бога: «Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его», «Бог есть жизнь» [402, Т. XVI, с. 151].
Главное, что отличает от всего живого, это способность к работе души. Именно с работой души связывает Толстой смысл жизни человека. Он требует жить так, чтобы смерть не могла разрушить жизнь. Подобную жизнь может дать только духовность. Смысл жизни, соответственно, не в поиске физических удовольствий, а в развитии духовных потребностей и нравственном самосовершенствовании. Писатель пришел к мысли о необходимости веры для полного обретения смысла жизни.
«Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера» [402, Т. XVI, с. 141]; она есть «знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет» [402, Т. XVI, с. 141].
Через изучение жизни народа не только восстановилась полнота и истинность смыслообразующих понятий - Бога, свободы, добра - в них «срастились конечное и бесконечное» [402, Т. XVI, с. 142]. «Сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который
 58
не уничтожается смертью» [402, Т. XVI,
с. 154].
Л.Н.Толстой пришел к
58
не уничтожается смертью» [402, Т. XVI,
с. 154].
Л.Н.Толстой пришел к
выводу «Бог есть жизнь» [402, Т. XVI, с. 151] и «все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал» [402, Т. XVI, с. 152]. «Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т.е. жить согласнее с этой волей»; «я вернулся к вере в бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни» [402, Т. XVI , с. 152].
Развиваясь, совершенствуясь, человек обретает смысл жизни, постигает ее цель. Осознав необходимость совершенствования как потребность, человек строит на этом основании всю свою жизнь. Главное в человеке: способен ли он собственными силами подняться над самим собой, изменить себя, а потом и отношения с другими людьми, т.е. построить «царство божие на земле». От того, какие качества возобладают в человеческой душе, таков будет и смысл жизни, и путь человека.
«Задача человека в жизни - спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смириться, терпеть и быть милостивым»; «смысл этот народ черпает из всего вероучения» [402, Т. XVI, с. 153].
Жизнь - отношение к миру. «Вся жизнь его (животной личности) проходит в невозможном: избавиться от неизбежного уменьшения жизни, огрубления, ослабления ее, устранения и смерти» [402, Т. XVII, с. 105].
Добровольная смерть - тоже отношение к миру. «Человек умер, но его отношение к миру продолжает действовать на людей, даже не так, как при жизни, а в огромное число раз сильнее, и действие это по мере разумности и любовности увеличивается и растет, как все живое, никогда не прекращаясь и не зная перерывов» [402, Т. XVII, с. 109]. «Христос умер очень давно, и плотское существование его было короткое, и мы не имели ясного представления о его плотской личности, но сила его разумно-любовной жизни, его отношение к миру - ничье иное, действует до сих
 59
59
пор на миллионы людей, принимающих в себя это его отношение к миру
и живущих им» [402, Т. XVII, с. 109]. Это такое отно-
шение, для которого нет смерти в мире.
«Церковь, как собрание верующих, соединенных любовью и потому имеющих истинное знание, сделалась основой моей веры. Я говорил себе, что божеская истина не может быть доступна одному человеку, она открывается только всей совокупности людей, соединенных любовью», а «для того, чтобы не разделяться, надо любить и примиряться с тем, с чем не согласен» [402, Т. XVI, с. 155]. Мировые религии, считает Толстой, объявляемые суевериями, «даже в искаженном виде дают людям ответы на вопросы об истинном благе жизни» [402, Т. XVII, с. 25].
«Любовь есть единственная разумная деятельность человека» [402, Т. XVII, с. 78]. «Любовь облегчает страдания», «излечивает животную личность», «возвышает ее» [402, Т. XVII, с. 78].
Любовь не простое пристрастие к человеку, предпочтение его и желание делать добро ему. Толстой определяет ее как «деятельность, направленную на благо других» [402, Т. XVII, с. 82]. Любовь истинная есть сама жизнь. «Жизнь есть Бог» и следовательно «Бог есть любовь». Чтобы жить вечно, чтобы не зависеть от смерти телесной оболочки, надо найти свое вечное дело и делать его для людей. Такое дело есть любовь.
Таким образом, вера дает свободу, раскованность, бессмертие и Толстой-мыслитель сумел обратить основной тезис пессимизма - человеческая жизнь на земле есть зло и бессмыслица - в тезис философско-этического альтруизма.
К вере и религии у Толстого не возникало вопросов, но двойственность церкви для него была очевидной. Он дискутировал с ней по поводу ее отношения к жизненным вопросам - к войне и казням. Они - суть убийства, и «не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было» [402, Т. XVI, с. 162]. И Толстой сформулировал этические заповеди альтернативные Нагорной проповеди, в
 60
60
сущности, поправляя ее содержание, за что был отлучен от церкви, ведь
это была уже этика любви не к Богу, а к человеку.
Попытки разрешить реальные социальные противоречия через усовершенствования морали уходят корнями в античную древность. Начиная с Платона, мораль понималась как путь к совершенству, Модели достойного морального поведения, предлагавшиеся в истории этики, можно свести к двум крайним типам.
Первый - охватывающий всю полноту личного бытия, образ жизни в такой мере, в какой и образ мыслей. В этом случае их осуществление было делом героическим, необычайно редким и в какой-то степени было связано с уходом человека из реального мира. Второй претендовал на всеобщность, универсальное применение, ограничиваясь областью мотивации, внутреннего настроя, что связывалось с конструированием какого-то другого (идеального) мира, находящегося рядом с реальным, либо внутри него, но не совпадающего с ним, а лишь каким-то образом дополняющего, компенсирующего ущербность реального мира. В отличие от сложившихся моделей морального поведения с приоритетом в них принципов, толстовская этика ненасилия переводит мораль в сугубо практическую проекцию, - в проекцию методов, правил и действий всякого сознательного человека.
Толстой видел в человеке и темные силы, источающие зло. Но он понимал, что добро и зло находятся в человеке в постоянной и непрерывной борьбе, что душа человека - одна из главных арен их столкновения. Ненасильственная борьба делает ставку на доброе начало в человеке, на то, чтобы поддерживать, стимулировать и увеличивать в человеке доброе начало, которое активно боролось бы со злом и насилием. Писатель моделирует новые отношения таким образом: «... Люди, поедавшие друг друга, перестают поедать; убивавшие пленных и своих детей, перестают убивать; что военные, гордившиеся убийством, перестают этим гордиться; учреждавшие рабство, уничтожают его; что люди, убивавшие живот-
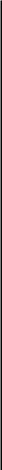 61
61
ных, начинают приручать их и меньше убивать; начинают питаться, вместо тела животных, их яйцами и молоком; начинают и в мире растений уменьшать их уничтожение» [402, Т. XVII, с. 69]. Это своеобразный идеал единения человека со всем миром.
Этика ненасилия Л.Н. Толстого специфична в том, что ориентирует не на индивидуальную покорность, она предполагает коллективное делание добра и коллективное активное сопротивление злу, нейтрализацию его посредством сотрудничества людей. Методами ненасилия потому стали: право на ошибку и ее признание, право на ее исправление, отсутствие монополии на истину, уважение чужих мнений и суждений, диалог, компромисс, критический конструктивизм, постоянная коллективная и индивидуальная саморефлексия, вера в лучшие проявления человеческой души и личности, уважение прав и достоинств любого человека, поиск взаимоприемлемых решений, превращение врагов в друзей, ставка на сотрудничество, которое в отличие от конфликта сможет дать наиболее эффективный результат в общественной жизни. Таким образом, ненасилие и пассивность не одно и то же, т.к. ненасилие требует огромной и трудной внутренней коллективной работы всех участвующих в акциях, это - особого рода духовный активизм. «Постоянное взаимное служение друг другу»; «служение, без которого немыслимо существование мира», - это в сущности «отречение от жизни» [402, Т. XVII, с. 66], от жизни животной личности. «Есть только одно положение, при котором желание твое может быть исполнено. Это такое положение, при котором все существа жили бы для блага других и любили бы других больше себя». При этом уничтожается борьба, пресыщение и страх смерти [402, Т. XVII, с. 65].
Толстой призывал императивно отказаться от насилия как средства решения человеческих проблем. Насилие противно любви. Зло нельзя пресечь злом, ибо зло порождает еще большее зло. Поиск каждым добра в собственной душе, а не абстрактного вселенского добра - это ли не ре-
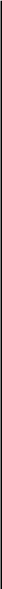 62
альный гуманизм, тем более, что рецептов
умозрительного гуманизма
62
альный гуманизм, тем более, что рецептов
умозрительного гуманизма
предложено уже чрезвычайно много.
Толстой от всех и каждого требовал выработать привычку творить добро собственной душой постоянно и лично ответственно. «...Постепенное перенесение цели деятельности из себя в другие существа и есть все движение вперед человечества» [402, Т. XVII, с. 69]. «Движение жизни только в том, что мир, из вражды и несогласия, через подчинение разуму приходит все более к согласию и единству» [402, Т. XVII, с. 69]. Единственным средством, преодолевающим насилие, может быть только ненасилие, т.к. насилие в любой форме, в любом качестве порождает ответную, часто преумноженную реакцию. Ненасилие, по мнению Толстого, есть средство надежное и единственное, которое только и преградит когда-либо путь насилию и его беспределу. Этот метод более труден, длителен, требует терпения, терпимости и самопожертвования.
Размышляя над всемирной историей, Л.Н. Толстой видел в ней смену одних форм насилия другими [402, Т. XVI, с. 113]. Он страстно желал остановить череду форм насилия, предотвратить насилие вообще, а для этого людям нужно внушить идеалы ненасильственных отношений. Поэтому; «Человек, положивши свою жизнь в подчинение закону разума и в проявление любви, видит уж в этой жизни, с одной стороны, лучи света того нового центра жизни, к которому он идет, с другой, то действие, которое свет этот, проходящий через него, производит на окружающих. И это дает ему несомненную веру в неумаляемость, неумираемость и в вечное усилие жизни" [402, Т. XVII, с. 111]. «Деятельность, направленная на непосредственное любовное служение страдающим и на уничтожение общих причин страдания - заблуждений, и есть та единственная радостная работа, которая предстоит человеку и дает ему то неотъемлемое благо, в котором состоит его жизнь» [402, Т. XVII, с. 111].
Толстой не одобрял революцию, в сущности лишь сменяющую формы насилия. Он упрекал сторонников революции за то, что они для уничто-
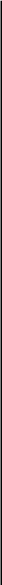 63
жения
насилия применяют и проповедуют еще
большее насилие, множа и
63
жения
насилия применяют и проповедуют еще
большее насилие, множа и
развивая его. Только ненасилием можно нейтрализовать социальное зло. Этот путь должен начаться с сознательного, преднамеренного, публичного отказа от насилия. Так, Толстой предлагал крестьянам отказаться от подневольной работы на помещичьих землях, от службы в армии и т.п., он приветствовал создание крестьянских общин, видя в них прообраз общества, в котором искоренено насилие и, тем самым, подготовлена почва для появления справедливого (бескризисного в нашей терминологии) общества.
Гармоничное общество должно быть построено на нравственных принципах добра и справедливости, на преодолении зла и насилия. Гармония человеческих отношений возможна лишь тогда, когда возобладает в качестве закона отношений в обществе принцип непротивления злу насилием. Этот принцип, по мнению Толстого, обеспечит объединение людей, равных от природы. Он отрицал все известные формы социального насилия, а именно: порабощение меньшинства большинством, государственное насилие, законы, суды, тюрьмы, смертную казнь. Конечно, «для исполнения человеческих дел нужно насилие, и оно всегда прилагалось, прилагается и будет прилагаться» [402, Т. XVI, с. 161]. Вспоминая поездку за границу, он пишет: «Так, в бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то, и другое врозь застучало в ящике, я понял - не умом, а всем существом, - что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка ...» [402, Т. XVII, с. 113].
Благо жизни,по мнению Л.Н. Толстого,священно и ненарушимо, оно «достигается не стремлением каждого существа к своему личному благу, а стремлением, согласно с законом разума, каждого существа к благу всех других» [402, Т. XVII, с. 69].
 64
64
Учение Л.Н. Толстого на протяжении XX столетия нашло множество продолжателей - и не только в России, но и в международном политическом процессе, экологическом движении, движении за права человека, движении неприсоединения и многих других. Императив ненасилия наряду с императивом насилия и в противовес ему пронизывает ныне все сферы общественной жизни, в том числе, как многим кажется, далекую от морали область политики. Кроме того, этика ненасилия связывает в один неразрывный узел спасение человека и мира, что актуально для рубежа XX-XXI веков. Теория и практика ненасилия, таким образом, не столь абстрактны как многие из прежних этических доктрин. Она также, пожалуй, наиболее гуманистична, т.к. акцентрирует внимание на присущем человеку важнейшем сущностном его свойстве - стремлении, склонности к добру.
Практика ненасилия требует от человека продуманной поступательной тактики, при четком определении стратегической цели, определении технологии деятельности, противостояний институтам и группам людей, с целью изменения их позиции. Таким образом, современный контекст принципа ненасилия предполагает любовь в качестве психологической доминанты. Современные политические отношения построены не на любви, а на взаимной выгоде, но этическая составляющая от этого не исчезает, она должна возрастать, ибо стороны взаимодействуют на основе доверия, равноправия, взаимного уважения, единства дела и данного слова (часто зафиксированного соглашениями, договорами, декларациями и т.п.).
Концепция ненасилия возникает как реакция человека разумного на исчерпание возможностей насилия в обеспечении порядка в обществе, как реакция на бесперспективность и бессмысленность насилия, его избыточность. Ненасилие есть бесстрашие, сила в ее чистом проявлении. Оно органически связано с мужеством. В историческом плане оно поднимает мужество на новый уровень, придает ему адекватную современной эпохе
 65
65
форму, связанную с общественными задачами. Ненасилие становится общечеловеческой добродетелью.
Эскалация насилия и агрессивного поведения чрезвычайно распространена и в быту, и в политике, и на индивидуальном и на групповом уровне. Известно, что в марксистской доктрине насилие было призвано одним из необходимых средств для ликвидации эксплуатации, отчуждения и т.п. Осуждение насилия оставалось поверхностным, декларатив-нам, идеологичным. В это же самое время шло параллельное интенсивное развитие тоталитарных режимов, опирающихся на практику доносительства, расстрелы, депортации, «перевоспитание» в лагерях и ссылках, поражение в правах и т.п. О том, что уровень агрессивности не снижается, свидетельствует картина последних десятилетий XX века. Любое конфликтное состояние отношений, как правило, порождает взаимную агрессию, а волны усиливающейся взаимнонаправленной эскалации конфликтов вызывают усилие страданий и людских потерь. В связи с этим примеры практического ненасилия необычайно притягательны для специалистов по глобалистике и регионоведению. Несмотря на то, что порой ненасилие рассматривается в качестве утопии, красивой мечты, оно пробивает себе дорогу в надежде, что могут быть кардинально перестроены отношения в коллективах и человеческих общностях всех уровней.
Согласно взглядам Л.Н. Толстого, кризис общественных отношений очевиден. Причины его кроются в отсутствии человеческого общего дела и в традициях ущемления зла наказанием, что может породить лишь еще большее зло. Таким образом, сущностью кризисного противостояния общества и человека является избыток насилия в обществе. Если и впредь использовать традиционные стереотипы карательных методов борьбы со злом, то это только усугубит неблагополучное положение дел. Поэтому позитивный выход Л.Н. Толстой видит в изменении общественных отношений, но не радикальными средствами и методами, к коим призывали революционеры всех оттенков, а в нравственном совершенствовании че-
66
ловека и всемерном распространении этики ненасилия как своего рода новой общественной идеологии во благо человечества. Таким образом, Л.Н. Толстой не только продолжает линию анализа причин общемировых антропологических страданий, но и предвосхищает один из важнейших механизмов их преодоления - неукоснительное следование принципиально новому моральному императиву - непротивлению злу насилием, в будущем могущим стать важным направлением реконструкции сложившихся общемировых отношений.
