
- •Лесные почвы неморальной полосы (широколиственные леса, лесостепь) Распространение неморальных лесов
- •Особенности строения и генезиса почв на песчаных отложениях
- •Скорости формирования гумусового горизонта
- •Почвы южной лесостепи
- •Особенности развития почв южной лесостепи
- •Заключение
- •Лесные почвы неморально-бореальной полосы (южная тайга, хвойно-широколиственные леса) Распространение неморально-бореальных лесов
- •Особенности антропогенного освоения полосы неморально-бореальных лесов
- •Основные варианты сукцессии лесных экосистем в неморально-бореальной полосе
- •Почвы неморально-бореальной полосы и особенности их развития
- •Почвы со слабо дифференцированным профилем
- •Почвы с погребенным гумусовым горизонтом
- •Почвы с сильно дифференцированным профилем
- •Разнообразие почв старовозрастных лесов
- •Особенности развития почв бореально-неморальной полосы
- •Лесные почвы бореальной полосы (северная и средняя тайга) Распространение бореальных лесов
- •Особенности антропогенного освоения полосы бореальных лесов
- •Основные варианты сукцессии лесных экосистем в бореальной полосе
- •Особенности населения почв бореальных лесов
- •Почвы бореальной полосы и особенности их развития
- •Заключение
Лесные почвы бореальной полосы (северная и средняя тайга) Распространение бореальных лесов
Бореальные (таежные) леса в европейской России расположены между 66 и 60° с.ш. Они включают среднюю и северную тайгу. Границу северной и средней тайги проводят примерно по 63° с.ш. (Растительный покров..., 1956; Растительность европейской части СССР, 1980).
Основные эдификаторы бореальных лесов европейской России — ели Picea abies и P. obovata, а в области интрогрессии — гибридная форма этих двух видов Picea х fennica. В восточной части территории как содоминант часто выступает пихта сибирская (Abies sibihca), в Предуралье в качестве примеси встречается сосна кедровая (Pinus sibirica). Доминантами светлохвойных лесов по преимуществу является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), иногда лиственница сибирская (Larix sibirica).
Среди темнохвойных лесов наиболее широко распространены ельники зелено-мошные и ельники черничные. В травяно-кустарничковом ярусе здесь преобладают виды бореальных кустарничков из родов черника, грушанка, а также виды бореального мелкотравья (кислица кислая, майник двулистный седмичник европейский. Участие неморальных видов, крупных папоротников и высокотравья в таких лесах невелико. Обычно хорошо развит моховой покров из небольшого числа видов зеленых бореальных мхов. Общее проективное покрытие мохового яруса достигает 80-100%. В темнохвойных лесах представлены преимущественно эпифитные лишайники — в основном на стволах и ветвях деревьев. Сплошной напочвенный покров из лишайников формируется в основном в по-слепожарных лесах; на ранних этапах сукцессии разнообразие лишайников, а также мхов, существенно превосходит разнообразие сосудистых растений.
Особенности антропогенного освоения полосы бореальных лесов
Важнейшим фактором динамики биогеоценотического покрова в бореальной полосе являются пожары. Основными причинами пожаров на севере лесной полосы, как и на юге, считают выжигание лесов при подсечно-огневом земледелии и для расширения пастбищ.
Применение подсечно-огневого земледелия в северной Европе показано для 6000 л.н. (Eriksson et al., 2002); в более западные районы оно распространилось около 4000 л.н. По сравнению с территориями, расположенными южнее, быстрое истощение почв на подсеках и медленные темпы восстановления почвенного плодородия приводили к необходимости вовлекать в сельскохозяйственный оборот все новые и новые территории. Основное число исследователей считают, что в эпоху подсечно-огневого земледелия леса были в крайне плохом состоянии в результате частых пожаров, хотя некоторые авторы (Fritzboger, Sondergaard, 1995; Sarmela, 1995, оба цит. по: Myllyntaus, Mattila, 2002) считают подсечно-огневое земледелие «экологическим» способом природопользования, не оказывающим негативного воздействия на экосистемы. Однако такая система земледелия была сопряжена с большой опасностью для лесов, поскольку огонь часто распространялся на прилегающие к подсеке территории. Существует множество свидетельств частых случаев непредумышленных поджогов леса при подсечно-огневом земледелии (Larsson, 1989, цит. по: Lindbladha et al., 2003). Таким образом, пожары уничтожали и повреждали таежные леса на огромных площадях.
Следует еще раз отметить необоснованность мнения о большой трудозатратности подсечно-огневого земледелия для населения. Как исторические свидетельства, так и рассказы старожилов показывают, что выжигание леса на подсеке часто осуществлялось одним человеком или небольшим коллективом. При этом необходимость поиска оптимальных мест для росчисти и, иногда, их значительная удаленность от места постоянного поселения не служили ограничивающими факторами. Во многих случаях росчисти и сенокосы были расположены вдали от поселений, на расстоянии до нескольких десятков километров. В этом случае основным транспортным путем служили реки; сенокосы обычно располагались в поймах рек, а росчисти — на доступном расстоянии от них.
На севере развитие подсечно-огневого земледелия и экстенсивного выпаса, сопряженных с массовым выжиганием лесов, в течение последних 2000 лет привело к переходу от богатых хвойно-широколиственных лесов с липой, дубом, ольхой, кленом, ясенем, вязом к бореальным лесам; отступлению на юг северных границ ареалов широколиственных видов и, в результате, к формированию собственно таежной
Примерно в это же время развитие домашнего оленеводства (Городков, 1954), также сопровождаемое усиленным выжиганием лесов на их северной границе, вело к формированию зоны тундр. Пирогенно индицированное обезлесивание на протяжении последних 3000 лет служило основной причиной образования субарктической бореально-тундровой зоны как в Европе, так и в Северной Америке (Sirois, Payette, 1991). Сочетание выжиганий и выпаса вело к обезлесиванию также и в горных районах (Barnett et al., 2001; Gobet et al., 2003; Bjune, 2005; Finsinger, Tinner, 2007). Хорошо известный пример — потеря горных лесов на Британских островах (Brown, 1997). В Швейцарии возникновение топонимов «briisada» (выжигание) было связано преимущественно именно с выжиганиями лесов под пастбища (Conedera et al., 2007).
Часто пожары служили причиной заболачиваемости территорий. Обычны случаи, когда слой углей подстилает торфяные отложения, как на верховых болотах, так и в заболоченных лесах.
До XV века основная часть пожаров в бореальной полосе была связана с земледелием или скотоводством. Сейчас сельскохозяйственные земли в таежной зоне занимают небольшие площади (от 1,1% в республике Коми до 11% в Архангельской обл.), однако во многих регионах степень освоенности в средневековье была заметно выше современной. Распространение пашенного земледелия в бореальных областях России и Финляндии относят к концу I - первым векам II тысячелетия н.э. Так, на северо-западе Европейской России освоение моренного ландшафта пашенным земледелием началось с вершин холмов и гряд. Именно здесь, согласно писцовым книгам XV века, существовали малодворные деревни и небольшие массивы стационарной пашни, возникшие на месте росчистей. К этому времени все водораздельные леса уже периодически вовлекались в подсечное и переложное земледелие (Долотов, 1984). В XVI веке на одно хозяйство число пашен при средней запашке на двор 9,5 га достигло 10-30 участков. В освоении повышенных элементов водоразделов прослеживается мелиоративный принцип выбора пашен, не подверженных боковому внутрипочвенному притоку вод с вышележащих элементов рельефа. К середине XIX века безземелье, вызванное ростом деревень, привело к освоению всех всхолмлений в окрестных лесах. Пашни вокруг деревень слагались отдельными массивами, разделенными сенокосными угодьями в понижениях рельефа. С момента отмены крепостного права началось забрасывание удаленных пашен и зарастание их лесом (Долотов, 1988). К 30-м годам XX века во многих районах севера Европейской России земледелие было практически полностью прекращено.
Со временем разнообразие способов эксплуатации таежных лесов увеличивалось, и вероятность антропогенно инициированных пожаров также в большей или меньшей степени возрастала. С XV века распространилось смолокурение, с конца XVII века — промышленные рубки леса; в конце XIX века были построены железные дороги. На долю возгораний от искр паровозов в районах распространения железных дорог приходилось от 50 до 70% пожаров (Мелехов, 1939; Молчанов, Преображенский, 1957).
Постоянным источником пожаров служили поселения. Показано, что на европейском Севере в 5-километровой зоне вокруг поселков возникало до 60% всех пожаров, а в 10-километровой зоне — 93% пожаров (Курбатский, 1952; Кушников, 1956; Вакуров, 1975). Вольными или невольными «поджигателями» с давних пор оказывались охотники и рыболовы (в отдельных районах более 50% пожаров возникало вблизи рек и ручьев), а в более позднее время — участники экспедиций, туристы и др. (Ярошенко и др., 2001).
По оценке разных авторов, пожары от молний составляют не более 2-3% от их общего числа (Гуман, 1926; Кушников, 1956; Молчанов, Преображенский, 1957; Вакуров, 1975). В Швеции, где причины возникновения лесных пожаров регистрируются особенно тщательно, а условия для возникновения пожаров от молний вследствие гористого рельефа относительно благоприятны, среднее количество лесных пожаров от молний составляет около 3% (Курбатский, 1964); при этом относительная частота возгораний от молний в бореальных широтах значительно увеличивается с севера на юг (Larjavaara et al., 2005).
Когда лесные пожары «никто не тушил, кроме дождя», а «недостатка (в них)... не было», они охватывали в северных лесах большие площади, достигавшие 10-30 тыс. га (Ткаченко, 1911). К концу XX века площадь одного пожара в бореальной полосе была обычно более 10 тыс. га, а иногда более 200 тыс. га (Heinselman, 1981; Attiwill, 1994b). На севере Европейской России в отдельные годы суммарная площадь пожаров превышала размер годичной лесосеки (Гуман, 1926; Вакуров, 1975). Пожары в сосняках при этом нередко проходили по древостоям, пройденным пожарами прежде.
Характерной особенностью низовых пожаров в северных лесах, если не считать отдельные участки с плоским рельефом и сухими песчаными почвами, является пятнистый характер их распространения по территории (Ткаченко, 1911; Вакуров, 1975). В результате на сравнительно небольшой площади (например, в пределах одного квартала) здесь можно встретить целую серию одновозрастных древостоев различных классов возраста, и, наоборот, древостой пожарного происхождения одинакового или близкого возраста встречаются на территории целого района или области (Вакуров, 1975).
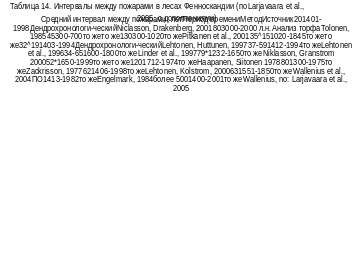
По данным разных авторов (Молчанов, 1970; Мелехов, 1971, и др.), с 1614 по 1900 гг. на территории Европейского Севера наблюдалось около 60 засушливых лет, сопровождавшихся лесными пожарами. Наиболее крупные пожары в северных лесах зарегистрированы в этот период в 1614, 1647, 1668, 1688, 1690, 1710, 1756, 1790, 1800, 1825, 1840, 1860, 1877, 1882, 1886, 1888, 1891 и 1899 гг. По данным А.В. Тюрина (1925), средний интервал между пожарами составлял около 20 лет, при этом вспышки пожаров на севере наблюдались в те же годы, что и в средней полосе.
Вероятно, наиболее интенсивные воздействия со стороны человека экосистемы бореальной полосы испытывали в раннежелезном веке — средневековье. Следствием многократных пожаров явилось формирование специфических пирогенных экосистем — подобно тому, как это произошло в неморально-бореальной и неморальной полосах, но в более широких масштабах. Результатом пирогенных воздействий на растительность стала ее «бореализация» — сокращение числа и участия неморальных и нитрофильных видов растений в лесах Сокращение частоты пожаров в XIX веке в бореальных лесах было связано с запретами подсечно-огневого земледелия и выжигания лесов под выпас, расширением коммерческого использования лесов для рубок
Активная эксплуатация бореальных лесов рубками известна для последних столетий. Рубки проводили для целей углежжения, смолокурения, лесозаготовок, различных промыслов (История..., 1986). Следует отметить, что леса эксплуатировались неравномерно, более всего пострадали лесные массивы вблизи сплавных путей и поселений
Объемы промышленной заготовки древесины особо интенсивно возрастали с XVIII века. Так, около 1692 г. в Архангельске работали «пильные мельницы» О. Баженова; в 1852 г. в Архангельской губернии был открыт первый лесопильный завод, а в 1893 г. таких заводов было уже около 20 (Молчанов, Шиманюк, 1949). С начала XIX века получили широкое распространение промышленные заготовки крупных сосен, к концу века активно заготавливали сосны и ели уже разных размерных классов. С середины XIX века стали применять сплошные рубки (Ostlund, 1993, цит. по: Dahlstrom et al., 2005). Однако до 1929 г. выборочные рубки разной интенсивности оставались основным способом заготовок. Специальные исследования показали, что практически все участки старовозрастных лесов на севере имеют следы выборочных рубок, обычно XIX - начала XX века (Uotila et al., 2002). В старовозрастных лесах восточной Финляндии (Северная Карелия) число старых пней составляет в среднем 130 шт. на га (Rouvinen et al., 2005).
На севере Европейской России в 1911 г. в порядке опыта были заложены сплошные рубки узкими лесосеками, а в 1930-х гг. здесь получили развитие концентрированные рубки, при которых размер лесосеки достигал нескольких квадратных километров, а сроков примыкания, как таковых, не было — то есть объемы лесозаготовок законодательно не лимитировались (Алексеев, Молчанов, 1938; Молчанов, Шиманюк, 1949). Эти воздействия отразились, в первую очередь, в изменении гидрологического режима территорий, в том числе в усилении процессов заболачивания (Дмитриев, 1953). На концентрированных вырубках середины - второй половины XX века сформировалась значительная доля современных вторичных лесов (Декатов, 1957; Мелехов, 1957; Шиманюк, 1957). В Карелии площадь таких вырубок оценивается не менее чем 2/3 от всей лесной площади (Громцев, 2000), а в Коми — около 1/5 лесопокрытой площади (Леса Республики Коми, 1999). Несмотря на высокую облесенность региона, в 1960-70-х годах здесь возник дефицит в лесоэксплуатационных (экономически доступных) лесах (Природная среда..., 1989). К сожалению, современные сплошные рубки по результатам воздействия на лесные экосистемы и ландшафты не особенно отличаются от концентрированных.
В целом, бореальные леса Европейской России существенно преобразованы в результате сложного сочетания выжиганий, рубок разных типов и интенсивности, распашек и пр. В совокупности доля вторичных лесов, сформировавшихся после сильных антропогенных нарушений последнего столетия, оценивается не менее чем в 3/4 от всей площади покрытых лесом земель бореальной полосы европейской части России.
